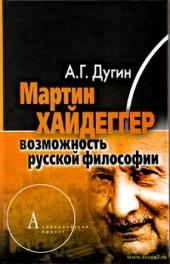
Дугин А.Г.
Мартин Хайдеггер
Том 2
Возможность русской философии
Москва
2010
Введение. Значение Хайдеггера и его истории философии для России
Возможность русской философии
Сегодня довольно остро стоит вопрос: что такое русская философия? Была ли она? Есть ли она сейчас? Будет ли она завтра? Но есть вопрос еще более глубокий: а возможна ли вообще русская философия? Вопрос звучит странно и парадоксально, но мы нередко сталкиваемся с явлениями, которые де-факто существуют, но их смысл, содержание, оправданность и органическая структура остаются проблематичными. При ближайшем рассмотрении такие явления оказываются не тем, за что они себя выдают, но симулякрами, подделками, смутными «копиями без оригинала» (Ж.Бодрийяр)(1). Они «есть», но они невозможны. Их онтология коренится на недоразумении, на подделке, на дисгармоничном сдвиге. Питирим Сорокин описывал подобные явления в социальных системах как «общество-свалка» («dumping ground society»)(2). Освальд Шпенглер прибегал в подобных случаях к образу «псевдоморфоза» (3) (в геологии так называется особое минеральное образование, в естественный процесс кристаллизации которого вмешиваются непредвиденные гетерогенные факторы – например, лава извергающегося вулкана и т.п.)
Поэтому вопрос о возможности русской философии вполне легитимен. То, что мы привычно называем этим именем, может оказаться именно симулякром или псевдоморфозом. А может и не оказаться. В любом случае, чтобы всерьез обосновать возможность русской философии, надо сделать определенное усилие. Это усилие тем более необходимо, что даже самый оптимистичный взгляд на русскую философию не может игнорировать ее достаточно позднее появление в русской истории и серьезный перерыв в ее существовании в ХХ веке, когда она, если и не исчезла окончательно (не успев по-настоящему начаться), то изрядно исказилась в марксистской догматике.
Если русская философия как таковая есть, то она существенно повреждена исторически и требует реанимации. Если вместо нее мы имеем дело с бледным начальным мерцанием, с наброском, то тем более необходимо обратиться к ее предпосылкам, к области ее возможности. Тем более требуется ее обоснование и затем возвращение на те стартовые позиции, с которых может начаться не простой и не столь очевидный процесс философии в контексте самобытной русской культуры.
Корреляция русской философии с западной
Русская философия (или ее симулякр) возникла как реакция на европейскую философию: от нее она отталкивалась, с ней соотносилась, в ней искала источники вдохновения, с ней спорила, ей подражала, ее опровергала и развивала. Какие бы аспекты русской философии ни затрагивались, мы обязательно будем иметь дело с ответом на вызов, с реакцией, с осмыслением тезиса (теории, системы, школы, идеологии), пришедших в Россию с Запада. Даже в том случае, когда русские мыслители стремились или по настоящему были в чем-то оригинальными, сама эта оригинальность проявлялась в форме контраста с философией Запада, сопоставления именно с ней. Подражали ли русские мыслители Европе или отвергали ее, но они именно с ней соотносились, и в качестве тезиса брали ту или иную философскую теорию или совокупность теорий Запада, отталкиваясь от которых, разворачивали собственные соображения.
Это обстоятельство заставляет нас для понимания русской философии XIX-XX веков обращаться к соответствующим европейским философским контекстам. Возможность русской философии неразрывно связана с реально существующей и развивавшейся по автономной логике западноевропейской философией. Актуальность западной философии была потенциальностью философии русской. Эта корреляция является фундаментальной. Но интерпретирована она может быть по-разному.
С одной стороны, это может означать, что русская философия является ответвлением западноевропейской философии, ее поздним и специфическим побегом (отростком). С другой стороны, можно расшифровать это потенцирование как ответ на вызов, то есть как вынужденно оборонительный жест, направленный преимущественно против западной философии (как у славянофилов и, частично, у русских марксистов). В третьих, можно рассмотреть ее как «псевдоморфоз» Шпенглера, то есть как результат гетерогенной и неорганичной прививки (полунасильственной-полудобровольной) одной культурной формы к другой, совершенно ей не соответствующей. И, наконец, такая корреляция может быть рассмотрена как форма культурной экспансии, попытка духовной колонизации Западом русского общества через инсталляцию своего рационального культурного кода, облегчающего отправление реальной власти и обеспечивающего контроль западного общества над русским обществом.
Во все случаях русская философия соотносилась и соотносится с западной философией, и нет никаких оснований для того, чтобы предположить, что в будущем это будет не так.
Момент развертывания западноевропейской истории философии
Западноевропейская философская мысль представляет собой динамический процесс. Этот процесс может быть реконструирован и тем более интерпретирован по-разному, но никто не берется опровергать, что история западноевропейской мысли проходит в своем становлении определенные сменяющие одна другую фазы, в рамках которых доминируют те или иные философские парадигмы (подобно вскрытой Т.Куном смене парадигм в научном знании(4)). Эти фазы – как бы мы их ни определяли – представляют собой связные системы, которые как круги на воде расходятся вокруг той или иной школы или личности, пересекаются, конфликтуют друг с другом, образуя определенный интеллектуальный узор(5). Этот узор составляет общую структуру истории философии как истории западноевропейской философии. И если о параметрах этого узора ведутся бесконечные споры, никто не ставит под сомнение сам факт наличия этой истории. Западноевропейская философия представляет собой историческое явление, где мы ясно различаем Начало (досократики, Античность), фиксируем дальнейшие эпохи от Платона и Аристотеля к Средневековью, Новому времени и так вплоть до современной эпохи постмодерна.
Русская философия в своей возможности быть имеет дело с историческим процессом, с исторической структурой, имеющей глубокие корни и вполне определенные очертания. Ветви единого древа непрерывно растут, но структура древа философских знаний остается в целом постоянной. Поэтому русская философия не может ограничиться контактом (резонансом/диссонансом) с каким-то моментом становления западноевропейской философии, с той или иной частной школой, с той или иной ветвью, направлением, траекторией мысли. Чтобы быть, русская философия должна отнестись ко всей истории философии целиком, и имея дело с любым ее моментом, сопоставить себя с динамическим и открыто развивающимся целым.
Становится очевидным, что западноевропейская философия в таком случае должна быть представлена русскому обществу в виде истории философии, то есть той или иной схематической теории, обобщающей западноевропейский философский процесс. Это не только облегчит для русских знакомство с отдельными его моментами, но и вообще сделает знакомство с частным возможным – через сжатую схему целого, дающего горизонт смысла фрагментам.
Это обстоятельство объясняет факт чрезвычайной популярности в России Гегеля – создателя одной из самых емких и панорамных алгоритмов истории философии. Более того, возможно, именно впитанный Марксом гегелевский подход и стал основанием для широкой популярности марксизма в России. Через Маркса и Гегеля русские знакомились сразу со всей западноевропейской философией, раскрытой в ее структуре на примере простой для понимания диалектической схемы. И та же причина лежит в основании недооценки Канта и кантианцев, которые не предложили компактной историко-философской модели. Кант для русского сознания остался лишь моментом философии. Гегель же претендовал на то, что, представляя момент философского процесса, воплотил в этом моменте (особом, эсхатологическом и телеологическом) смысл истории философии как всеобщей истории.
Это замечание чрезвычайно важно для понимания сути русской философии. Когда русские захотели (захотят) войти в процесс философии, они вынуждены были (будут) входить не в философию, а в историю философии, и им был (будет) необходим не только ее момент (конкретная школа, концепция, идея), но и краткое изложение предшествующих фаз процесса, причем именно философское, концептуальное его изложение. Осмыслив весь историко-философский процесс целиком, можно соучаствовать в нем. Важно не просто впрыгнуть в «волшебный трамвай» (Н.Гумилев), но понимать, по какому маршруту, откуда и куда он следует. Поэтому для «прыжка» в философию русским всегда необходима история философии. Только тот момент западноевропейской философии, который будет содержать в себе формулу всей этой философии, сможет стать тем моментом, куда, собственно, русская философия может быть привита или откуда она может взять свой собственный старт (в любом направлении).
Итак, возможностью русской философии является та западноевропейская философия, которая представляет собой одновременно и момент развития этой философии и повествование об алгоритме (структуре) всей истории философии в сжатом и кратком оформлении.
В XIX веке, когда возникло нечто похожее на «русскую философию», самой возможностью ее бытия выступила философия Гегеля с ее подвидом – философией Карла Маркса. Именно гегельянство (и его разновидность – марксистская философия) могут рассматриваться как герменевтическая база, как семантическое целое, послужившие точкой отсчета для «русской философии» в ее первом приближении. И если мы осознаем это, то поймем, почему именно марксизм почти на столетие заворожил русское философское мышление. Именно так, а не наоборот: не тоталитарная политическая система сделала марксизм судьбой русского мышления в ХХ веке, а марксизм как разновидность гегельянской истории философии предопределил тоталитарную политическую систему советского периода. Политика есть следствие философии – обратное же неверно.
Хайдеггер как шанс для русской философии
Последнее замечание хорошо объясняет ретроспективу – почему Гегель и почему Маркс – но не вводит нас в более широкую проблематику: какова возможность русской философии? Так было, и то, что было именно так, чрезвычайно важно. Но вместе с тем, это привязано к историческому моменту самой западноевропейской философии – к тому, когда контакт между русскими и ею самой состоялся. Это предопределило траекторию определенного периода, обнаружило важные закономерности. Закономерности остались (возможность русской философии лежит в истории западноевропейской философии – сейчас и всегда), но момент изменился. Поэтому для того, чтобы расширить горизонт от исторического момента до исторической закономерности, и чтобы в действительности (здесь и сейчас) эту закономерность обнаружить, необходимо задаться новым вопросом. В то время, когда русские на протяжении почти всего ХХ века следовали за марксистской историей философии, не появилось ли на Западе какой-то иной историко-философской версии, которая переосмыслила бы гегелевское наследие или учла бы новые моменты? Только в этом случае, поняв и преодолев гегельянство и марксизм как исчерпавшую себя версию философствования (не ошибочную, а просто иссякшую, в смысле животворных философских сил), мы могли бы повторить начало русской философии и доказать ее возможность не в историческом моменте, но в целом, как более общее явление. Нет сомнений, что новых моментов в западноевропейской философии в ХХ веке было множество – Витгенштейн и структуралисты, феноменологи, и экзистенциалисты. Но все это ничего не говорит русской философии в том случае, если она хочет обосновать свою возможность в более широком смысле, нежели развитие одной из ветвей мышления XIX века. С нашим гегельянством (марксизмом) все понятно (понятно ли?), но как нам отнестись ко всему остальному?
Сами мы дать внятный ответ не можем – отбросив марксизм, мы растерялись, упустили нить, стали хвататься за отдельные разрозненные моменты в хаотической потребности философствовать при отсутствии серьезных оснований для этого. Мы попытались заявить о себе как о моменте в том процессе, полноценными участниками которого, как выяснилось, не были. Мы попытались проскочить мимо вопроса о возможности русской философии, сделали вид, что можем обойтись и без истории философии (она, действительно, не нужна тем, кто и так есть часть этой истории). Но из этого ничего не вышло.
Сейчас – это очевидно: пытаясь философствовать, современный русский выглядит как дурак. И чем ловчее он подражает тем, кто философствует, тем более он дурак.
Идентификация новой истории философии для русских жизненно необходима. Это и есть обоснование возможности нашей русской философии. Но тут-то и начинаются проблемы. На первый взгляд, ХХ век создал множество историй философии – выбирай, не хочу. Но при ближайшем рассмотрении все рассыпается как прах: историй философии не было, были философии истории (К.Ясперс)(6) или просто моменты эпистемологического анализа (М.Фуко)(7). В своем контексте все это было своевременно и содержательно, только не для нас. Для того, чтобы войти в герменевтический круг, нам необходима подсказка; без нее мы оказываемся вне этого круга. Кто-то из западноевропейских философов должен сообщить нам пароль, открыть код, дать нам ключ.
На поверхности это не лежит. Но если мы хотим, несмотря ни на что, обосновать возможность русской философии, нам придется искать именно это – историю философии, вычлененную фундаментальным и «родным» для Запада онтологически репрезентативным мыслителем ХХ века.
Моя гипотеза состоит в том, что таким мыслителем, создавшим концепцию, адекватную всему историко-философскому процессу западной культуры, является Мартин Хайдеггер. Если эта гипотеза подтвердится, то именно в нем нам предстоит обнаружить и обосновать возможность русской философии – не в ретроспективном, но в перспективном горизонте. Если Хайдеггер станет для нас тем, чем стали Гегель и Маркс в веке XIX-ом, то мы получим легитимацию для второго русского захода в философию.
Средний Хайдеггер как важнейший элемент в реконструкции истории философии
Возникает вопрос: а есть ли у Хайдеггера история философии? Не является ли его учение лишь моментом в процессе западноевропейской философии, не содержащим в себе емкого изложения структуры самого этого процесса?
Это вопрос может возникать только в связи с одним тонким историко-философским обстоятельством. В наследии Хайдеггера внимание специалистов, как правило, сосредоточено на раннем периоде его философского творчества -- на феноменологии и гуссерлианстве(8), кульминацией чего стало его знаменитое «Sein und Zeit»(9). Узкий круг специалистов по Хайдеггеру исследовал также позднего Хайдеггера, преимущественно рассматривая этот период как отход от классического философствования и обращение к мифологии, «мистике» и поэтической герменевтике. Средний же период его творчества, приходящийся на 1930-е годы и первую половину 1940-х годов, чаще всего выпадал из поля зрения исследователей. Этот период, как правило, толковали как переход от аналитики Dasein'а к поздней герменевтике(10). В такой оптике у Хайдеггера, действительно, трудно найти полноценную историю философии, и его идеи выглядят лишь философским моментом. Но если восполнить этот пробел, учитывая изданные лишь в последние десятилетия, после смерти самого философа, наброски и тексты этой эпохи: «Beitraege zur Philosophie»(11), «Geschichte des Seyns»(12), «Uber Anfang»(13) и т.д., мозаика его мысли складывается в единое целое, и перед нами открывается именно то, что мы искали – хайдеггеровская история философии, причем не менее последовательная и всеохватывающая, чем у Гегеля. Как и любая схематизация, она полна натяжек и обобщений; но это свойство любой редукционистской схемы. Нас же должно волновать лишь одно: сумел ли Хайдеггер отразить в своем творчестве голограмму западноевропейской судьбы?
Если целостно осмыслить все три периода философствования Хайдеггера, мы получим полную картину не просто его философии, но его концепции истории философии, что для нас гораздо важнее. Эта истории философия претендует на то, чтобы сказать о структуре всего процесса решающее слово: сам Хайдеггер (как и Гегель) осознает свою философию как «метафизическую эсхатологию» (как он сам пишет в «Holzwege»)(14), как выражение той формы, к которой западноевропейский процесс двигался.
Философия вечера
Для Хайдеггера история Запада есть история западной философии. То есть философия выражает в себе глубинное содержание всего исторического процесса. При этом Хайдеггер, равно как и Гуссерль и все западноевропейские мыслители, отождествляет судьбу Запада с универсальной судьбой человечества, которое в своем жизненном цикле обречено на то, чтобы двигаться к закату, к «за-паду» своего духовного солнца. Запад есть место заката, там солнце «за-падает», отходит ко сну. Запад по-немецки Abendland - «страна вечера». Вечер есть, в каком-то смысле, эсхатон и телос дневного цикла. В какой бы части дня – утренней или полуденной – мы ни находились, рано или поздно мы столкнемся с горизонтом вечера, с Западом, с закатом. Западноевропейская философия универсальна в том смысле, что все рано или поздно приходит к своему закату(15). Поэтому тот, кто мыслит о конце, о вечере, о сумерках бытия, тот мыслит не только о себе, но и обо всех, рано или поздно обреченных на достижение этой точки.
Поэтому для Хайдеггера справедлива гомология: мировая история сводима к истории западной культуры и цивилизации; а история западной культуры и цивилизации сводима к истории западной философии. Следовательно, мировая история сводима к истории западной философии. Поэтому структура западной философии как процесса есть концентрированное выражение «судьбы бытия» (Seynsgeschichte)(16).
Эта логика исторического финализма (типологически повторяющая рисунок мышления Гегеля – только на ином, экзистенциальном, а не концептуальном уровне) предопределяет и еще одну гомологию: телеологизм самой истории философии, которая тяготеет к стягиванию в точке эсхатона. Будучи вечерней, по определению, эта история разрешается в точке полуночи, которая и есть цель и предел, к которому весь процесс устремляется. Хайдеггер подводит нас к мысли, что точка конца западноевропейской философии является наиболее важной во всем процессе ее развертывания и поэтому может быть взята за главный момент ее содержания.
Таким образом, гомологическая цепочка получает последний элемент: история человечества сводится к истории западноевропейского человечества, которая, в свою очередь, сводится к истории западноевропейской философии и далее – к точке конца западноевропейской философии.
Но именно такая схема – это то, что необходимо для актуализации русской философии. Если нам довериться Хайдеггеру, мы получим именно то, что нам необходимо в качестве предпосылки для живого философского мышления. Мы получим не просто момент философии Запада, но алгоритм этой философии, причем приближенный к ее концу, что, в данной интерпретации, означает приобщение к самому существенному в этой философии – ведь речь идет о философии заката, где наиболее важным элементом является ночь и ее структура. Хайдеггер в этом случае и становится искомой возможностью русской философии, позволяя нам соотнестись с ее схематически описанным целым.
Хайдеггер, голограмма и герменевтический круг
Реконструкция истории философии Хайдеггера предполагает восполнение более или менее известных и исследованных периодов его творчества пониманием смысла среднего периода, когда мысль Хайдеггера (по свидетельству знаменитого «Письма о гуманизме» его французскому другу и корреспонденту Жану Боффре в 17)) была занята преимущественно проблемой Ereignis.
Тот факт, что Хайдеггер является величайшим представителем западноевропейской традиции, не оспаривает никто, как бы к Хайдеггеру ни относились. Но понимание того, что Хайдеггер нарисовал ясную картину истории западноевропейской философской традиции, ее смысла и судьбы, встречается намного реже. Однако ознакомление со всеми тремя периодами его творчества и правильная реконструкция структуры его философской мысли позволяют представить хайдеггеровскую концепцию истории философии со всей однозначностью. Для нас решающим является не то, справедлива ли эта историко-философская картина или проблематична. Нам важно констатировать, что она есть, что она систематически и структурно описана, а значит, с ней можно оперировать как с полноценным философским аппаратом, как с методологией и голограммой.
Выяснив структуру хайдеггеровской концепции истории философии и проведя различение ее фаз и этапов в оптике самого философа, мы – как русские, глядя из русского (что значит из неопределенного) – будем вольны отнестись к ней по-разному, критично и некритично. В первом случае, выяснив структуру этой истории философии, мы принимаем решение ей не доверять, во-втором – доверять, принимать за достоверную.
Здесь встает вопрос о герменевтике и проблеме «герменевтического круга», заботившей Дильтея и Гадамера. Понимание возможно только при соотнесении частного с общим. Но лучшее понимание общего аффектирует (меняет) понимание частного, а понимание частного трансформирует видение общего; в процессе постижения уточняются два неизвестных, которые корректируют друг друга, но никогда не могут быть определены до конца сами по себе, без соотнесения с другим. Поэтому в процессе познания всегда фигурируют презумпции и относительно целого и относительно частного, которые уточняются (подчас опровергаются и заменяются другими) в ходе самой герменевтической практики.
Применительно к Хайдеггеру и интерпретации его философии мы сталкиваемся с той же герменевтической проблемой. Чтобы корректно оценить его место в процессе западноевропейской философии, мы вынуждены иметь общую схему этого процесса (гипотезу целого и его структуры). Но эту схему мы должны где-то найти. Мы можем заимствовать ее либо у Хайдеггера, либо не у Хайдеггера. В первом случае мы можем воспользоваться его историей философии (а таковая, как мы видели, существует, особенно если внимательно исследовать тезисы среднего периода его творчества 1930-х – 1940-х годов) как целым, отталкиваясь от которого мы будем рассматривать всю структуру западноевропейской философии и место в ней Хайдеггера. Конечно, по логике герменевтического процесса, параллельно мы сможем уточнять и то и другое: и смысл истории философии как целого, и места в ней нашего философа, что может привести к результатам, отличным от готовых формул, выдвигаемых самим Хайдеггером. Но стартовая схема герменевтического круга будет именно такой. Можно сказать, что в этом случае, мы доверяем Хайдеггеру и двигаемся вдоль предложенной им герменевтической оси. Куда же приведет это движение, заведомо сказать трудно.
Второй вариант состоит в том, что мы не доверяем истории философии Хайдеггера (например, не признав ее легитимность, или, что бывает чаще, не затратив усилий на ее изучение и последовательное осмысление), и значит, должны брать в качестве целого иную версию истории философии. Вот тут-то и начинаются трудности.
Дело в том, что созданием внятной истории философии занимались на Западе очень немногие авторы, а среди фигур первой величины можно назвать лишь единицы. Первой и во многом непревзойденной до сих пор инициативой подобного рода была философия Аристотеля. В XIX веке Гегель обосновал историю философии как высшее проявление самой философии, создав предпосылки для широкого спектра философских теорий, и в частности, чрезвычайно популярного в XIX-ХХ веках марксизма. Причем для этих и иных наиболее внушительных историй философии в той или иной степени действовал принцип голографии – сами эти философии мыслились как синтетическое обобщение историко-философского процесса. История философии и философия Аристотеля располагалась в начале истории философии, открывая ее первые страницы и суммируя «предисловие» (досократическую мысль). Гегель мыслил себя как мыслителя, завершающего историко-философский процесс, обретающего в его трудах свой телеологический конец (в соответствии с учением об Абсолютной Идее и фазах ее диалектического развертывания). Другие «неголографические» попытки предложить историю философию как открытый процесс, чаще всего представляли собой формально дескриптивные, а не структурированные семантически модели (Иоганн Франц Буддеус (1667—1729), Иоганн Якоб Бруккер (1696—1770) и так вплоть до Бертрана Рассела(18)). В них история философии осмыслялось не как нечто целое, а как последовательность моментов. При этом наличие или отсутствие голографической конструкции истории философии для самих западноевропейских философов было некритично, так как они естественным образом принадлежали к этому процессу, находились внутри культуры, построенной на философских основаниях, что заведомо предопределило их имплицитное соучастие в том, что эксплицитно могло и не оформляться. Иными словами, открытая, чисто дескриптивная история философии или, вообще, отсутствие какой бы то ни было истории философии не составляло серьезной проблемы для западноевропейских философов. Они вполне могли обойтись и без нее.
Совсем другое дело русская философия. Она испытывала насущную потребность в суммирующей голограмме, чтобы корректно взаимодействовать и соотноситься с каждым из действительных моментов западной философии (то есть с учениями того или иного философа). Без образа «целого» она не могла бы быть тем, чем должна была бы быть.
Поэтомув русском культурном контексте мы сталкиваемся с серьезной проблемой: если мы откажем истории философии Хайдеггера в доверии, то нам надо будет поместить самого философа в какой-то иной историко-философский контекст на основании соотнесения с иным «целым». И тут выбор невелик: едва ли корректно интерпретировать Хайдеггера с опорой на историю философии Аристотеля (озаряющего момент начала философской традиции) или на гегелевскую или марксистскую схемы «искомого» целого. Прочтение Хайдеггера с марксистских позиций в советской философской школе вообще никаких результатов, кроме недоразумений, не дало, а западные течения марксизма и неомарксизма, вобравшие кроме собственно Маркса и гегелевской диалектики еще множество философских элементов из других контекстов (кантианство, феноменология, фрейдизм, экзистенциализм, структурализм, философия языка, ницшеанство и т.д.), свести эти направления в общую обновленную историю философии не сумели или не ставили перед собой такой задачи. В такой ситуации проекция гегельянства на интерпретацию Хайдеггера будет просто анахронизмом, тем более что в чистом виде в ХХ веке гегельянства не сохранилось, а его многообразные интерпретации (в том числе критические) преобразились в спектр конфликтующих между собой дробных философских систем, затемнивших изначальную ясность и убедительность самого Гегеля.
Вопрос доверять или не доверять истории философии Хайдеггера, таким образом, остро стоит именно для тех, кто задумывается о возможности русской философии, и выбор «не доверять» представляется еще более сложным и проблематичным, чем «доверять». Чтобы отдать себе в этом отчет, надо еще раз подчеркнуть, что для западной философии такой проблемы вообще не стоит. Хайдеггеровская история философии может учитываться или не учитываться с одинаковым успехом: органичное культурное соучастие в истории философии гарантируется «укорененностью» западного мыслителя в культурной среде, и для этого специальной голограммы не требуется.
Этот зазор культурного контекста, однако, может породить у русских, интересующихся философией, иллюзию того, что через прямое подражание западным философам можно обойтись без «целого». Вот в этом-то и состоит заблуждение: европейцам – можно, нам – нельзя. Если мы хотим соотнестись с герменевтическим кругом западной философии, нам не обойтись без образа «целого», только после этого мы обретаем возможность полноценного философствования.
Мой тезис сводится к следующему. На прежних этапах XIX-XX века возможность русской философии обосновывалась обращением к гегельянской истории философии, отталкиваясь от которой мы на протяжении почти двухсот лет строили процесс русского философствования. Увиденный в таком ракурсе, марксизм советского периода прекрасно вписывается в это русло – ведь марксизм также представлял собой емкую и голографическую, телеологическую и эсхатологическую версию истории философии. Но сегодня легитимность и конструктивность гегелевско-марксистской истории философии для нас исчерпана. Мы взяли из нее максимум того, что было возможно, и пришли к исчерпанию этой парадигмы. Поэтому мы заново – и уже с опорой на новые историко-философские конструкции – должны обосновать возможность русской философии. И в качестве такой историко-философской голограммы предлагается взять за основу для вступления в герменевтический круг историю философию Мартина Хайдеггера Для этого надо отложить недоверие, и напротив, отнестись к нему – пусть на первом этапе – с доверием и открытостью, со своего рода, гносеологической эмпатией.. В случае успеха мы получим на новой историческом витке обоснование для того, чтобы русская философия могла быть.
Три этапа философского творчества Хайдеггера
Как отмечалось, общим местом в хайдеггероведении является разбиение его философского цикла на ранний (феноменологические штудии и написание «Sein und Zeit»(19)), средний (малоизвестный и проходившей под знаком мысли об Ereignis– к нему примыкают серии лекций о Ницше(20), Holzwege (21) и циклы лекций 1930-х годов, объединенные в посмертные сборники «Beitrage zur Philosopie» (22), «Von Anfang» (23), «Geschichte des Seyns» (24) и т.д.), и поздний период (сопряженный с философией языка и формализацией описания Geviert'а(25)).
На всех этих этапах в различных произведениях и циклах разбросаны отдельные элементы хайдеггеровской истории философии. Если нацелиться на их выявление, сведение воедино и систематическое описание, мы обнаружим их как в самых ранних работах, так и в «Sein und Zeit» и в герменевтическом периоде. Но особенно эксплицитно они изложены в среднем цикле. «Beitrage zur Philosophie»(26) и «Geschichte des Seyns» (27), в целом, представляют собой конспекты лекций, выстроенных как история философии, а «Einfuhrung in die Metaphysik»(28) проливает свет на структуру этой истории философии и на ее онтологические основания. Увиденная в этой перспективе знаменитая теория хайдеггеровского Dasein'а обнаружится как кульминационная точка историко-философского процесса, к которой этот процесс телеологически сходится.
Таким образом, материалы среднего периода творчества Хайдеггера дают нам остов для выяснения его историко-философской схемы, на которую накладываются теории других циклов его творчества.
Схема истории философии у Хайдеггера
Реконструкция Хайдеггером истории философии может быть схематически описана следующим образом.
Рождение философии в досократической мысли – это великая триада Анаксимандра, Гераклита и Парменида, представляющая собой первое Начало или великое Начало.
Здесь философия появляется из предфилософии или не-философии, из мышления. Провозвестником ее несколько веков ранее служил поэтический гений Гомера.
Согласно Хайдеггеру, первое Начало философии характерно решением онтологической проблематики – вопроса о том, что такое бытие и как его надо понимать. Впервые четкие формы эта проблематика приобретает у Гераклита в его учении о фюзисе и логосе. Бытие как то, что делает то, что есть, тем, что есть, мыслится в великом Начале как «фюзис» – то есть открывающая, восходящая, обнаруживающая «мощь наличия». В этом учении Гераклита для Хайдеггера состоит сияющий триумф философии и одновременно первое рождение той тенденции, которая – много позже – поведет философию к ее Концу. Отождествление «бытия» с «фюзис» есть лишь наполовину корректное решение онтологической проблематики. Конечно, мыслит Хайдеггер, бытие есть фюзис, порождающая сила мира, выводящая вещи и существа на свет наличия, в открытость, делающая сущее сущим, тем, что есть. В этом смысле бытие и есть сущее, все сущее в целом, то есть фюзис. Но эта отправная точка философии – при всем фундаментальном величии – уже заключает в себе определенную погрешность: празднуя бытие как наличие и приведение к наличию, как сущее, досократическая онтология упускает из виду другую сторону бытию – ту, которая приводит сущее к несуществованию, к гибели, ту, что ничтожит, уничтожает сущее. Ничто скрывается за бытием, осознанным исключительно как «фюзис», исчезает в нем. И Парменид в своей знаменитой поэме закрепит это исчезновение формулой «небытия нет». По Хайдеггеру, небытие, ничто (Nichts) как ничтожение (Nichten) в бытии очень даже есть. И безупречная онтология должна была бы изначально поместить это «ничтожение» внутрь фюзис, разглядеть его в бытии как его обратную сторону, отличную от него и одновременно тождественную с ним. Но греческая мысль пошла по иному пути: она сосредоточилась на «бытии» как «фюзисе», упустив из виду «ничто» (в силу его ничтожности). Тем самым – уже в самом великом Начале – возник определенный зазор между тем, как стала складываться философия, и тем, как она должна была сложиться, если бы онтологическая проблема была сформулирована должным образом. Зазор между тем, как было исторически и как должно было быть, породил две точки в структуре онтологии, через которую была проведена прямая, предопределившая все остальные этапы истории западной философии. В результате мы получили луч, обладающий и траекторией (линия) и ориентацией (вектором направления, идущим от того, как надо было бы понимать бытие к тому, как его не надо было понимать).
Уже в первом Начале у Гераклита и Парменида происходит оформление фундаментальной конфигурации всего историко-философского процесса. Этот процесс структурирован основной парадигмой: прогрессирующим «отступлением от бытия», «утратой бытия», «забвением о бытии».
Логос и нигилизм
Компенсацией за утрату различения ничтожащей стороны бытия в бытии как «фюзисе» стало появление «логоса». «Логос», который Хайдеггер интерпретирует этимологически как «жатву», «сбор урожая», становится приоритетным топосом, в котором ничто, утраченное в осмыслении бытия как фюзис, напоминает о себе. Это и есть специфика философии – введение в игру ничтожащего логоса, помещенного на сей раз не в бытии (как следовало бы), а вне его, в условной точке того, что позже у Аристотеля станет «upokeimenon»'ом, а в Новое время – декартовским «субъектом».
Хайдеггер идентифицирует работу логоса в процедуре «tecnh», или в том, что позже он назовет «Gestell». Если бытие мира начинает мыслиться как преимущественно позитивное наличие, то ничто все более концентрируется на стороне познании и его дуальной топики. Познание как процесс есть корень «технэ», в котором происходит жесткое расщепление бытия на фюзис и логос, на познаваемое и познающего, что в дальнейшем приводит к постановке в центре именно познающего, носителя логоса, развертывающего свою ничтожащую мощь на сферу фюзиса, покоряющего бытие и, в конце концов, воспроизводящего бытие как искусственный продукт. В этом пределе развития технического начала проявляется триумф нигилизма.
Логос должен был бы быть внутри фюзиса, но он оказался вовне, и это стало судьбой западноевропейской философии, судьбой Запада, а также смыслом и содержанием ее развертывания.
Конец в рамках первого Начала
Если у Гераклита и Парменида основная тенденция западноевропейской философии была едва намечена, то у Платона и Аристотеля она достигла четкой фиксации. Платонизм и аристотелизм Хайдеггер называет «Концом в рамках первого Начала». Это еще абсолютно греческая, дышащая онтологией и бытием, философская мысль, но возможность осмыслить бытие как нечто открытое, возможность поместить логос не вовне фюзиса, а внутри него, здесь снимается с повестки дня. Учение Платона об идеях фиксирует предпосылки окончательно сформировавшейся референциальной теории истины, которая состоит в поиске соответствия умозрительного начала (идеи) и вещи природного мира. Осуществление этой операции относится к разуму, логосу.
Бытие отныне мыслится как сущее, только высшее сущее или сущее-в-целом. Причем это не просто динамика природной мощи, выталкивающая вещь к наличию, но фиксированный и статичный зрительный образ, момент «светового созерцания».
По Хайдеггеру, это фундаментальный и необратимый шаг по умалению статуса бытия, приравниваемого отныне ухе не просто к фюзису, но к идее. Симметрично этому логос, в свою очередь, делает серьезный шаг в сторону нигилизма и технического отношения к миру; начинает доминировать метафора бога-демиурга, работника, ремесленника, технически изготовляющего мир, отправляясь от фиксированных образов-идей.
Аристотель в своей философии и истории философии фиксирует качественный момент Конца досократического периода западной философии. Это конец во всех смыслах и завершение (снятие) и совершение, то есть достижение полной зрелости, совершенства, полноты того, что было заложено в мышлении досократиков. Философия Аристотеля – это голограмма всей ранней греческой философии. Она суммирует предыдущий период и закладывает основания дальнейшим этапам – что верно не только для Стои, но и для более поздних схоластических периодов западной философии, а также, в значительной степени, и для Нового времени (ведь еще Кант заметил, что в области логики со времен Аристотеля философия не продвинулась ни на шаг).
Платон и Аристотель, по Хайдеггеру, отмечают собой момент завершения философского Начала. Далее идет средний период, сопряженный с христианством, схоластикой и, в самом широком смысле, называемый «Средними веками». С историко-философской точки зрения, «Средними» эти века называются именно потому, что занимают промежуточное положение между философией Античности (философией первого Начала) и философией Нового времени.
Средневековье
Средневековой философии Хайдеггер плотно занимался на первых этапах своего преподавания во Фрайбургском университете, позднее он уделял ей совсем немного внимания. С его точки зрения, формула Ницше о том, что «христианство есть платонизм для масс»(29) является исчерпывающей аксиомой для суммирования философского положения дел со Средневековой философией. Для Хайдеггера христианская схоластика есть развитие того философского шага, который принципиально совершил Платон, поставив идею (высшую идею, идею блага) на место бытия, фундаментально удалив, тем самым, бытие от сферы философского мышления, подменив гносеологическую и онтологическую проблематики. Теология продолжает эту же самую тенденцию, поставив на место идеи как высшего сущего – Бога, то есть оставаясь в той же платоновской парадигме.
Для Хайдеггера в Средневековье не происходит ничего принципиально нового. Философия движется по своему предначертанному досократиками, и особенно Платоном и Аристотелем, пути.
Новое время – Декарт
Но настоящему интересным циклом для Хайдеггера является Новое время. Он определяет его как «Начало Конца» (симметрично тому, как платонизм был для него Концом в рамках первого Начала). Новое время размораживает средневековый схоластический платонизм и дает волю нигилистической мощи логоса. В центре этого процесса – Декарт с его дуальной конструкцией субъекта и объекта. Субъект вступает на место логоса, объект – на место фюзиса. При этом Хайдеггер считает, что в этом философия Нового времени приближается к более откровенной постановке проблемы: отказ от идей и обращение к рациональному логическому мышлению напрямую как к субъекту обнаруживает саму сущность философской проблематики, заложенной в эпоху Начала философии. Картезианский рационализм, английский эмпиризм, Ньютон и все остальные направления философии Нового времеи (от Спинозы и Лейбница до Канта) развертываются уже в сфере более острой проблематизации онтологии, где вещи называются своими именами.
Так Декарт с его cogito откровенно помещает онтологический аргумент в область гносеологии, делает его производным от логоса, рассудка. По Хайдеггеру, это начало явной доминации технического отношения к миру и человеку; человек становится техником в отношении к природе-объекту, и Gestell, завуалированный ранее, обнажает свою историко-философскую мощь. Сама философия становится все более и более техническим занятием, техникой мышления, сводящейся к методикам исчисления и оценки. Иными словами, в Новое время нигилизм как сущность западноевропейской философии обнаруживается в полной мере.
Гегель и Ницше
Период Нового времени завершается, по Хайдеггеру, в философии Гегеля, а последним его аккордом является Ницше.
Гегель создает свою историю философии как грандиозное, монументальное творение западноевропейского духа, концентрируя в ней судьбу Абсолютной Идеи, воплощенной в период «конца истории» в субъективном духе западноевропейской культуры Нового времени. Гегель всерьез ставит вопрос о соотношении бытия и ничто, бытия и познания, выстраивая на этом свою диалектику. Проводя свою резюмирующую работу, Гегель, согласно Хайдеггеру, остается все-таки в рамках западноевропейской метафизики, мыслит с помощью «концептов» и «категорий», то есть все еще пребывает в пространстве референциальной теории истины и общеевропейской философской топики. Гегелевская онтология для Хайдеггера – это максимальное приближение к тому, чем должна была бы быть истинная онтология (отсюда огромное внимание Гегеля к Гераклиту и досократикам, мыслившим на симметричном отрезке истории философии – но только в эпоху Начала, тогда как сам Гегель мыслит в эпоху Конца), но приближение фатально некорректное именно за счет своей принадлежности к старой метафизике, ее конструкциям и методам.
Еще честнее и откровеннее философствует Ницше. Он прямо возвещает о «европейском нигилизме», кризисе западной метафизики и «смерти Бога», разоблачает «волю к власти» как основу исторического процесса, и, значит, основу философии и истории философии. При этом Хайдеггер считает, что Ницше, обрушивший метафизику, не сделал ни шага за ее пределы, но стал именно последним метафизическим мыслителем западноевропейской традиции. Ницшеанский «сверхчеловек» и «воля к власти», по Хайдеггеру, свидетельствуют отнюдь не о новом горизонте мышления, но лишь об абсолютизации нигилистической природы логоса и высшей концентрации Gestell.
Другими словами, Ницше не только не является альтернативой, но представляет собой подлинный и состоявшийся Конец – Конец западноевропейской философии и, соответственно, конец философии как таковой.
Так вместе с Гегелем и Ницше западноевропейская философия проходит полный цикл от первого (великого) Начала через средний (средневековый, в широком смысле) период до Начала Конца у Декарта и к полному и необратимому Концу у Гегеля и, особенно, у Ницше. Начавшись с несколько неточного определения бытия как фюзис, и только как фюзис, западная философия вступила в свою роковым образом предначертанную историю (судьбу), единственным содержанием которой стала прогрессирующая дезонтологизация, утрата бытия, рост нигилизма, техне, Gestell, ничтожащего рассудка как выражения воли к власти. Бытие убывало до того момента, пока не убыло вовсе.
Но в этом, по Хайдеггеру, и состоит судьба Запада как «страны Вечера» (Abendland). Убывание бытия есть удел Запада и смысл истории философии как сугубо западного явления. Дезонтологизация, сокрытие бытия и наступление нигилистической ночи не случайность и не катастрофа, и даже не следствие ошибки – это высказывание философской географии. Свет гаснет там и тогда, когда это нужно. И тогда, когда нужно, своим чередом наступает мгла, «Великая полночь».
Согласно этой реконструкции, западная философия закончилась. Оставшееся время может быть посвящено осмыслению этого окончания, описанию и толкованию смысла этого события.
Но есть у Хайдеггера и иная тема, которая предопределяет острие его мысли в 1930-е годы и первую половину 1940-х годов. Это мысль о другом Начале или об «Ereignis».
Другое Начало
В средний период своего творчества Хайдеггер концентрирует свое внимание на понятии «Ereignis» и связанной с ним непосредственно темой другого Начала. Ereignis и есть, по Хайдеггеру, другое Начало(30). Но это не просто «событие» («событие» - дословный перевод «Ereignis»), но возможность «события», «свершения», имеющего фундаментальный философский смысл.
Другое Начало – это то Начало, которое в досократической мысли не началось. Это такое понимание бытия, которое включает в бытие ничто как его необходимую составляющую, которое, отождествляя бытие с сущим и фюзис, подчеркивает, что это отождествление не исчерпывает бытия, так как бытие одновременно есть и не-сущее, небытие, ничто, а также то, что делает сущее не только сущим, но и не-сущим, то есть то, что ничтожит. Бытие в другом Начале должно (было бы) быть осознано и как то, что есть, и как то, чего нет, но что, не будучи сущим, все равно есть (небытие есть – вопреки Пармениду).
Вся история философии есть удаление от возможности Ereignis, есть не-Ereignis по преимуществу, что и воплощено в дезонтологизации и забвения о бытии, в Gestell и технэ. Но хайдеггеровская отрицательная трактовка историко-философского процесса как не-Ereignis несет в себе обратное указание на сам Ereignis, если только расшифровать этот процесс как повествование не о том, что он есть сам по себе, а о том, чем он не является, и о том, что не-явление составляет его высший и главный смысл. Западная философия, осознанная как прогрессирующее удаление от истины, ее постепенное сокрытие, есть парадоксальная форма обнаружения самой истины через ее диалектическое отрицание и вуалирование. Поэтому Ereignis и другое Начало следует искать не где-то еще, за пределом западноевропейской философии, но в ней самой – в ее обратным образом интерпретированном содержании. Сам факт удаления от бытия в ходе развертывания истории философии есть обратное указание на значимость бытия и на то, как надо его мыслить.
Это корректное мышление бытия в рамках «аутентичного» (eigene) экзистирования Хайдеггер описывает через графическую фигуру Geviert, четверицы(31). В ней пересекаются две пары противоположностей, представляющих собой онтологическое единство – 1) Небо («мир», в некоторых версиях) и 2)Земля, 3) смертные (люди) и 4) боги (бессмертные). Этот заимствованный из поэзии Гельдерлина образ, восходящий, кстати, к Платону, где в гераклитовской вражде сходятся между собой четыре мировых области бытия, описывает то, каким следовало бы понимать бытие в другом Начале.
Другое Начало, по Хайдеггеру, должно рождаться непосредственно из Конца философии, если только этот конец будет корректно расшифрован и распознан. По этому поводу Хайдеггер приводит строки из Гельдерлина: «Там, где риск, там, коренится спасение…»(32) Чтобы перейти к другому Началу, надо сделать не шаг в сторону, не много шагов назад, но шаг вперед. Однако это очень сложный шаг, в ходе которого сам нигилизм, сама утрата бытия в западноевропейской философии, само tecnh и сам Gestell обнаружатся как открытие истины Seyn-бытия через ее самосокрытие. В такой перспективе западная философия, представляющая собой, в первом приближении, прогрессирующий кризис и падение в сумерки, откроется как путь к спасению: тот, кто первым достигнет дна бездны, сможет первым от него оттолкнуться и начать подъем.
Кто Вы, Herr Heidegger?
Сам Хайдеггер не раз задавался вопросом: кто такой Гельдерлин в контексте современной философии? Кто такой Ангел у Рильке(33)? Кто такой Заратустра у Ницше(34)? Мы можем в этом же ключе спросить себя: а кто такой Мартин Хайдеггер в его же собственной историко-философской картине? Из того, что было высказано выше о структуре хайдеггеровской истории философии, почти однозначно следует вывод: себя самого Хайдеггер считал философом другого Начала; провозвестником возможности Ereignis; фигурой, которая расшифровала логику истории западноевропейской философии и открыла, через ее особую интерпретацию, пространство выхода в новое постижение проблемы бытия.
В своей собственной истории философии Хайдеггер усматривает двойственный ключевой момент. Он состоит в фиксации исчерпанности историко-философского процесса свидетелем достижения точки Великой Полночи, с одной стороны, а с другой – в приоткрывании горизонта другого Начала, то есть возможности философствовать иначе, чем философия философствовала ранее, но с учетом того драматического и катастрофического опыта, который запечатлен в истории этой философии.
С одной стороны, Хайдеггер выполняет роль «доктора мертвых», выведенного А.Дюма на последних страницах «Графа Монте Кристо»(35): он выписывает свидетельство о состоявшейся и несомненной смерти (западноевропейской философии). А с другой стороны, он открывает возможность заглянуть – через Geviert и перспективу другого Начала – за горизонт рационалистического и технического нигилизма и подойти вплотную к иной философии.
Иными словами, Мартин Хайдеггер в западноевропейской философии есть точка отсчета во всех направлениях – в прошлое, в будущее, и даже в сторону. Можно сказать, что Хайдеггер в пределе мыслит себя как Dasein, чье наличие он вначале вскрыл и обосновал, а затем фундаментально осмыслил в ходе развертывания своей философии.
Если Гельдерлин, по словам Хайдеггера, был поэтическим провозвестником другого Начала (как Гомер был поэтическим провозвестником первого Начала), сам Хайдеггер стал точкой отправления того мышления, которое эксплицитно (а не только эксплицитно) ставит точку в конце западноевропейской философии и бросает ее в жерло вулкана.
Entscheidung
Хайдеггер как философский персонаж своей собственной (eigene) истории философии есть воплощенное приглашение к осуществлению решения (Entsсheidung). В отношении Entscheidung Хайдеггер полемизировал с Карлом Шмиттом, построившим на принципе решения (decisio) свою философию права (Entscheidungslehre) (36). Хайдеггер укоряет Шмитта в том, что тот приземляет, умаляет значение решения, сводя его к выбору ориентации в конкретных вопросах политического толка. По Хайдеггеру, Entscheidung – это нечто намного более фундаментальное и метаполитическое. Это выбор, который осуществляется перед лицом финального момента в истории философии: выбор между тем, чтобы двинуться в сторону другого Начала, и тем, чтобы сгинуть в нескончаемых лабиринтах откладывания последнего историко-философского мгновения, в «еще нет», во «все еще нет», которое не представляет собой ничего принципиально нового, но стремится продлить до бесконечности зазор между уже состоявшимся концом философии (концом истории философии – в Гегеле и Ницше) и конечным и необратимым осознанием этого конца. Решение – это выбор между осознанием случившегося и отказом от такого осознания.
В последние годы жизни Хайдеггер склонялся к заключению о том, что Запад принял решение игнорировать конец философии и предал себя стихии «бесконечно кончающегося конца».
В 1930-е и 1940-е годы Entscheidung делался в форме отказа Европы от двух версий Machenschaft(37), финальных воплощений tecnh в триумфе машинной философии машинного (американского) общества, которое Хайдеггер называл «планетэр-идиотизмус»(38), и советского, марксистского. Проиграв битву за Европу как за иное решение (по сравнению с США и СССР как двумя формами предельных воплощений западноевропейской метафизики), Запад сделал выбор в пользу ничто, в пользу отказа от Ereignis.
Решение и русская философия
Снова возвращаемся к нашей проблематике – возможности русской философии.
Если мы отнесемся к Хайдеггеру доверительно и возьмем его философию как историю философию, служащую нам образом целого в круге философской герменевтики, мы можем наметить два пути становления русской философии в новых обстоятельствах, когда легитимность гегелевской (и марксистской) версии исчерпана.
Первый: принять реконструкцию Хайдеггера, а также роль самого Хайдеггера как оформителя надгробной речи над западноевропейской философией. Тогда мы сможем вступить в права на ее изучение в биографическом или, в случае крайней степени недоверчивости, паталогоанатомическом планах (мы будем изучать мертвое, разбирая, как и почему оно умерло и как оно умирало). Если при этом у нас возникнут сомнения в обстоятельствах смерти, мы сможем откопать труп и провести повторную экспертизу. В любом случае русская философия, построенная на таком основании, сможет стать достоверной – мы будем понимать то, что мы исследуем, и получим корректное представление о смысле и значении того, что изучаем. Этот осознанный контакт с ничто, выраженный в современном моменте истории философии, будет гарантом достоверности нашего философского мышления и основой интерпретационной шкалы, на основании которой мы будем осознавать и постигать то, что предстает нашему вниманию.
Во-втором случае открывающаяся перспектива более многообещающа: приняв Хайдеггера, мы сможем выдвинуть свои претензии и амбиции на соучастии в другом Начале. Хотя для этого простого энтузиазма не достаточно, и нам придется взять на себя труд погрузиться в тонкости и нюансы истории западной философии, ибо другое Начало не может произойти. (случиться .открыться) без скрупулезного и тщательного отслеживания всего процесса дезонтологизации, зародившегося в пределах первого Начала. Иными словами, другого Начала без соучастия в судьбе первого, вряд ли можно ожидать. Чтобы сподобиться соучастия в другом Начале, нам надо прожить и исчерпать судьбу западноевропейского нигилизма (а для этого у нас есть некоторые исторические основания в форме советского периода и русского прочтения марксистской философии). В любом случае, чтобы получить мандат на соучастие в таком решении, мы должны быть не вне, а внутри западноевропейской философии: экстремальный курс вхождения в которую нам, впрочем, гарантирован в случае признания легитимности историко-философской реконструкции Мартина Хайдеггера.
То, что русские находятся не так далеко на пути за край Запада, к точке Великой Полночи, не должно нас вводить в заблуждение. Это не основание для того, чтобы избежать влияния этой финальной эсхатологической точки – не сегодня, так немного позже, но мы будем именно там. То, что мы «все еще не», «noch nicht» не может нас успокаивать или внушать пустые надежды: дно бездны – вот, что даст возможность получить часть в ином наследии, в другом Начале. «Уже в нем», а не «еще не в нем» – такова страшная ставка в историко-философском процессе.
Феноменологическая деструкция
Как в XIX и XX веках мы оперировали гегелевско-марксистской моделью реконструкции историко-философского процесса для выявления содержания и смысла любого философского явления, школы, автора или теории, сегодня, приняв легитимность Хайдеггера и его истории философии, мы сможем довольно точно и однозначно классифицировать и интерпретировать любой факт истории философии через операцию «феноменологической деструкции». Именно этот хайдеггеровский тезис из «Sein und Zeit» (39) взял на вооружение Деррида в своем знаменитом методе «деконструкции» (ранее им пользовался Лакан)..... У Дерриды речь идет о контекстуализации того или иного высказывания в изначальной семантической среде, требующей тщательного исследования. Это следствие применения правил структурной лингвистики и коннотативного подхода (вопреки денотативному) в контент-анализе философского дискурса. В оригинальной версии Хайдеггера, послужившей основой для «деконструкции», речь идет о еще более четком методе: о размещении того или иного философского дискурса в общей картине «целого» историко-философского процесса, осознанного как поэтапное движение по траектории дезонтологизации в направлении к тотальному нигилизму. То место, где на этой траектории находится то или иное высказывание или философская теория, и предопределяет его герменевтическое значение.
После принятия истории философии Хайдеггера философские факты и констелляции фактов приобретут для нас смысл.
Хайдеггер и вторая попытка русских вступить в философию
Вторая попытка русских вступить в философию напрямую связана с Мартином Хайдеггером. Без истории философии – причем внятной, емкой и телеологической – русские проникнуть в герменевтический круг западной философии не смогут. Конечно, остается сомнение: а надо ли, вообще, нам туда проникать? Причем констатация нарастающего нигилизма процесса западноевропейского философствования едва ли способствует тому, чтобы это сомнение развеять. Но все же на чисто теоретическом уровне, если мы не хотим оставаться в философском процессе вечными невеждами, принимающими одно за другое и всякий раз не за то, что оно есть на самом деле, мы просто обречены на то, чтобы принять одну из историй философии Запада на веру. А выбор, как мы убедились, здесь невелик. Большинство тех конструкций, которые известны под именем «истории философии», представляют собой вовсем не то, что нам требуется: в них описан формальный процесс потока философских теорий и концепций, чья имплицитная логика внятна лишь тому, кто в этом процессе участвует естественным образом – в силу культурной принадлежности к обществу, построенному на философских основаниях. Основания же нашего общества и нашей культуры – какие угодно, только не философские, а значит, никакими личными усилиями мы эту брешь не закроем. Нам нужен образ «целого», только тогда мы сможем корректно оценить частное. А вот естественным представителям западноевропейской культуры такой образ совсем не обязателен – имплицитно он им известен, они являются его частью. Мы же на этом пути в бездну – посторонние, и траектория, цели и причины этого пути нам далеко не очевидны.
Можно рассмотреть и иные версии истории философии – столь же емкие и голографические, как философия Мартина Хайдеггера. Но что-то на ум ничего не приходит. Есть несколько версий философии истории (например, у К.Ясперса) (40) , но это совершенно другое. История философии не есть философия истории. Если такие истории философии в ХХ веке обнаружатся и будут достаточно обоснованы, то можно будет подумать и об иных возможностях русской философии, точнее, об иной возможности русской философии. На первый взгляд, Хайдеггер есть самый оптимальный для нас вариант, самый логически и структурно близкий к тому, чтобы дать нам первичный основополагающий импульс.
--
Сноски
(1) Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Философия эпохи постмодерна. / Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
(2) Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
(3) Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.
(4) Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
(5) Дугин А. Постфилософия, М., 2009.
(6) Jaspers Karl Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. München & Zürich, 1949.
(7) Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум—Касталь, 1996.
(8) Heidegger M. Bd. 59 Phaenomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung. Frankfurt am Mein, 1920.
(9) Heidegger M. Sein und Zeit, Tubingen: Max Niemeyer verlag, 2006.
(10) Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. 1936-53. Gesamtausgabe Bd 7. Frankfurt am Mein:Vittorio Klosterman, 2000.
(11) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1989.
(12) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1998.
(13) Heidegger M. Uber den Anfang. Gesamtausgabe Bd 70. Frankfurt am Mein:Vittorio Klosterman, 2000.
(14) Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 2003.
(15) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Op. cit.
(16) Ibidem.
(17) Heidegger M. Brief über den Humanismus (1946). Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1949.
(18) Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней В 3-х кн. Новосибирск, 2001.
(19) Heidegger M. Sein und Zeit. Op. cit.
(20) Heidegger M. Nietzsche I. 1936- 39, Nietzsche II. 1939-46, Gesamtausgabe Bd 6. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1996.
(21) Heidegger M. Holzwege. Op. cit.
(22) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie. Op. cit.
(23) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940), Op. cit.
(24) Heidegger M. Uber den Anfang. Op. cit.
(25) Heidegger M Vorträge und Aufsätze. Op. cit.
(26) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie. Op. cit.
(27) Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940), Op. cit.
(28) Heidegger M.Einfuehrung in die Metaphysik, Tuebingen, 1953.
(29) Ницше Ф. По ту сторону добра и зла// Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 240.
(30) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie. Op. cit.
(31) Heidegger M. Das Ding/ Vorträge und Aufsätze. Op. cit.
(32) Heidegger M. Holzwege. Op. cit.
(33) Heidegger M. Wozu Dichtern?/ Heidegger M. Holzwege. Op. cit.
(34) Heidegger M. Wer ist Niezsches Zaratustra?/ Vorträge und Aufsätze. Op. cit.
(35) Дюма А. Граф Монте-Кристо /Собрание сочинений. Т.3. М., 1993.
(36) Шмитт К. Политическая теология. М, 2001.
(37) Heidegger M. Einfuehrung in die Metaphysik. Op. cit. и Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Op. cit.
(38) Heidegger M. Beitraege zur Philosophie. Op. cit.
(39) Heidegger M. Sein und Zeit. Op. cit.
(40) Jaspers Karl Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Op. cit.
Часть 1. Археомодерн. Герменевтический эллипс. Отсутствие русской философии.
Глава 1. Народ без философии
Разбор завалов
Прежде чем приступать к более пристальному изучению вопроса о возможности русской философии и о ее предпосылках, стоит бегло рассмотреть тот объект, который мы сегодня по инерции и без критического рассмотрения называем «русской философией». Прежде чем что-то созидать, необходимо осуществить две предварительные операции – «разбор завалов» и «вывоз мусора». Мы не сможем сделать ни одного шага на пути к русской философии, если будем считать, что «она у нас уже есть». Если бы она была, то ее надо было бы просто развивать. Поэтому для выхода на начальные позиции исследования, мы должны показать, что ее нет, а то, что стоит на ее месте, является хламом и недоразумением. Это ни в коей мере не является злорадством: просто философия не выносит никаких натяжек и заведомо требует от нас преданности только истине, даже если она окажется горькой. Кроме того, все обстоит не так уж и печально: если окажется, что русской философии нет, то это можно интерпретировать не просто как неспособность русских эту философию создать, но, быть может, как знак того, что сроки для этого еще не пришли и условия не сложились. В конце концов, может оказаться, что русским философия вообще не нужна, и ее отсутствие – выражение нормы, а не недочет и не недоразумение. Если выяснится, что мы, русские, народ не философский, то тем хуже для философии, а не для народа. Нельзя исключать, что мы к этому и придем в ходе нашего исследования, но здесь не стоит забегать вперед. Действовать надо постепенно и последовательно.
Гегель говорил, что «великий народ порождает великих философов». Мы, русские, вне всяких сомнений – великий народ. Но своих настоящих – великих – философов мы не породили. Как разрешить это противоречие?
Первая версия: все впереди. Вторая: Гегель ошибался. Третья: мы не великий народ. Последнее отвергается с порога, так как, посмотрев на нашу культуру в целом, на нашу историю, на наши свершения, на наши земли и нашу духовность, мы убедимся, что русские -- великий народ, оперирующий с великим масштабом. Остается две версии: либо все впереди, либо философия не есть судьба народа или, по меньшей мере, есть судьба не всякого народа.
Философия и индоевропейский мир. Индийская философия
Вторая гипотеза («Гегель ошибался») наталкивается на следующее наблюдение историко-лингвистического толка. Если мы окинем взором семью индоевропейских народов и, шире, тех культур, которые построены на основе индоевропейских языков, то мы убедимся, что все они, так или иначе, выработали свои философские школы. И эти школы представляют собой внушительные, монументальные явления мировой истории и культуры.
Часто под «философией» понимается лишь западноевропейская философия – от досократиков до Ницше (как считал Хайдеггер). Это, на самом деле, есть философия европейского, романо-германского сегмента индоевропейского мира, его крайне-западной части. Здесь нет никаких сомнений: западноевропейская философия наиболее показательна и эксплицитна в смысле развития заложенных в ней начал и оснований, постепенно обретших яркую, внятную и внушительную форму. Но и другие – восточные – ветви индоевропейцев создали хотя и качественно иные, но не менее убедительные философские школы, открыв целые материки философской мысли.
Возьмем, к примеру, индийскую философию. Построенная на основании одного из индоевропейских языков, эта философия представляет собой монументальный, уникальный и оригинальный дворец мысли, к которому относятся сотни школ и направлений, сонм выдающихся мыслителей, удивительное многообразие методов, подходов и принципов. В индийской философии есть все – и общий дух или стиль, позволяющий говорить о ней как о цельном феномене, и широкий спектр идей и теорий, чрезвычайно разноречивых и отличающихся друг от друга как в главном, так и в частностях.
Взять хотя бы противоположные школы Веданты: двайту и адвайту. Первая основана на дуалистическом, вторая -- на недуалистическом толковании «Вед». Казалось бы, полное противоречие, но индийский дух преодолевает его, находя место и той и другой мысли в рамках общего философского поля (1).
Посмотрев на индийскую философию шире, кроме шести классических «даршан» (философских систем) мы увидим еще целый пласт «гетеродоксальных» философских систем – от гигантского поля буддистской философии и джайнизма до локаятиков и чарваков.
Индийская философия представляет собой четко фиксируемое и чрезвычайно развитое явление, гигантское интеллектуальное здание рациональности, подвергшееся последовательной и систематической рефлексии. В этой философии есть и антропологические, и гносеологические, и онтологические направления, а также эстетика, этика и социально-политические разделы. Общая структура этой философии фундаментально отличается по предпосылкам, методам и общепринятым началам от западноевропейской философии, но нисколько не уступает ей в развитии рационалистического аппарата и глубины саморефлексии. Так на двух полюсах индоевропейского мира – на Западе и на Востоке Евразии -- мы встречаемся с двумя ярчайшими типами философского мышления, глубоко инкорпорированного в культуру, общество, политику и религию (2). Если учесть качество и масштаб влияния этих явлений на культуры Запада и Востока, а также их распространение на близлежащие общества, то связь индоевропейских культур и народов с философией откроется нам как некая фундаментальная закономерность, а сама философия предстанет как глобальное явление, сосредоточенное в обществах индоевропейцев и описанное преимущественно на индоевропейских языках – санскрите, пали, хинди, в одном случае, и греческих, романских и германских, в другом.
Философия Ирана
Еще один гигантский пласт философствующих индоевропейцев мы встречаем в Иране и в том культурном ареале, на который культура Ирана оказывала на протяжении веков прямое воздействие. – Сюда же следует отнести и некоторые кочевые ираноязычные племена. И снова, как и в Индии, мы имеем дело с развитой философией, но сопряженной с совершенно особым философским духом, отличным от индийского и западноевропейского.
В отличие от индийской интегральности и инклюзивности и западноевропейского плюрализма и дробности иранская философия ставит в центре внимания дуализм мира и оперирует с ним на разный манер. Это касается как древнеиранской культуры, так и маздеизма, зороастризма, митраизма и позднее иранского шиитского ислама, включая многообразные секты – такие как манихейство или бабизм. Все эти философско-религиозные учения вышли далеко за пределы собственно Ирана, распространившись среди народов Малой Азии, среди славян и европейцев вплоть до Западной Европы (где мы встречаем отголоски иранского дуализма и манихейства в средневековых гностических сектах – у катаров, альбигойцев, вальденсов, вплоть до ранних протестантов – чешских гуситов и немецких последователей Томаса Мюнцера).
Иранская мысль строится вокруг фундаментальной дихотомии: свет/тьма, верх/низ, добро/зло, чистота/грязь, боги/демоны и т.д. Эта дихотомия предопределяет самые разнообразные философско-религиозные, социальные, политические и культурные конструкции, выработанные иранцами в разных фазах своей истории.
На всех этапах истории Ирана мы имеем дело именно с философией, быть может, не столь эксплицитно развитой, как в Индии или Европе, но тем не менее вполне оригинальной, четко оформленной и уходящей в глубь истории на несколько тысячелетий. Иранская философия -- явление несомненное и самобытное.
Кроме индусов и европейцев мы видим, что еще один огромный сектор индоевропейских этносов – иранцы и близкие к ним народы – выработал собственную философскую традиции и изложил ее на своем языке.
Философия в арабском мире и в Китае
Следует обратить внимание на то, что вне индоевропейского контекста есть также, как минимум, две культуры, породившие полноценные философские школы и направления и претендующие на глобальность: это китайская культура и исламо-арабская культура. Это два полюса самобытного философского духа, также оказавшего огромное влияние на мышление целых народов.
Китай за тысячелетия своей истории создал неповторимый тип интеллектуальной культуры, в которой можно различить несколько пластов:
- архаические культы предков и духов,
- этико-административную и ритуальную философию Конфуция, объединяющую политические нормативы и установления с обрядовыми и моральными ценностями,
- даосские учения последователей Лао Цзы, построенные на парадоксах между конечным (совокупно «дэ», «благо») и бесконечным (Дао),
- переработанный в китайском ключе индийский буддизм (чань-буддизм), в котором мы имеем дело с влиянием индоевропейской религиозно-философской системы.
При всем многообразии и подчас противоречиях все пласты китайской культуры составляют единое целое, объединенное специфическим стилем мышления, созерцания, этического начала. Здесь дуальность (инь-ян) в отличие от иранского подхода не приводит к неснимаемой оппозиции, но интегрируется в сложный и диалектический комплекс. Китайская философия, в свою очередь, фундаментально повлияла на культуру близлежащих народов – тибетцев и монголов на Севере, японцев, корейцев, вьетнамцев и тайцев на Востоке, а также на многие тихоокеанские этносы на Юге.
Совершенно самостоятельное явление представляет собой арабская исламская философия, основанная на толкованиях и комментариях к священному тексту мусульман «Корану» и представляющая собой своеобразное развитие семитского культурного начала, уходящего корнями в Ассирию и Финикию, но обладающую уникальными самобытными чертами. Велико влияние на исламскую философию и греческой традиции – Платона, Аристотеля, стоиков, -- ставших известными в арабском мире в значительной степени благодаря школе нехристианских неоплатоников в Харране, где они обосновались после их изгнания из Византии императором Юстинианом в 529 г. В Средневековье сама Западная Европа получала сведения о дохристианской философии в значительной мере через обратные переводы с арабского.
В некоторых случаях, например, в Иране, наложение арабско-исламского, неоплатонического, и собственно иранского философского наследия привели к появлению новых самобытных философий (ярчайший пример тому -- средневековый философ Шихабоддин Яхья Сухраварди).
Как бы то ни было, помимо очевидных и весьма серьезных влияний индоевропейских философий, и китайцы и арабы выработали развернутые уникальные и оригинальные философские учения, многообразные и разновекторные, но объединенные общим духовным стилем, общей манерой мышления – с развитым философским языком, методологиями и структурами понятий.
Славянская асимметрия
Для нас важно, в первую очередь, что большинство индоевропейских народов и соответствующих им языковых культур создали обширные и убедительные философские комплексы, представляющие собой масштабные и возделанные традиции. На этом фоне сразу бросается в глаза определенная ассиметрия: славяне, с одной стороны, являются многочисленным сегментом индоевропейской языково-культурной общины, находящейся на территориях между Западной Европой и Востоком, но, с другой стороны, такого явления как славянская философия нет. В отдельных случаях это может быть объяснено тем, что славянские народы Восточной Европы находились долгие века под влиянием иных философских традиций – греческой (в случае православных народов) или романо-германской (в случае славян-католиков и позже протестантов, например, чехов). Но случай России, самой крупной и численно и территориально славянской державы, показывает, что славяне не обращают большого внимания на философию даже тогда, когда создают самостоятельные и самобытные культуры, империи и суверенные державы.
Несомненно, славянская культура существует, имеет определенные обобщающие черты и выразительные особенности. Но место философии в этой культуре либо незначительно, либо его вообще нет.
Эта асимметрия бросается в глаза. Если философия связана со структурой языка (что можно было бы предположить, учитывая философский масштаб большинства индоевропейских народов, хотя арабский мир и Китай дают нам иные примеры (3)), то почему такой большой и культурно самобытный сегмент индоевропейцев, как славяне, способные построить, защитить и увеличить мощные независимые державы (Россия, а некогда Сербия Неманичей или Древняя Болгария), не выработали чего-то, даже отдаленно напоминающего философию других индоевропейских обществ или обществ, находившихся под их духовным влиянием? Поверхностный ответ (с изрядно долей расизма), будто «славяне не являются этнически чистыми индоевропейцами», не имеет никакого значения: индийское общество в расовом смысле куда более разнородно, влияние автохтонного населения там куда более ощутимо, а философская культура – да еще какая! – создана и развивается гармонично по сей день. Очевидно, что настоящая причина откладывания философии в сторону в славянских обществах не лежит на поверхности. Быть может, в ходе нашего исследования о возможности русской философии нам удастся приблизиться к ней. Пока же ограничимся фиксацией этого обстоятельства, которое является феноменологической констатацией: дело обстоит так и никак иначе. И это бесспорное наблюдение будет служить для нас отправной точкой.
Но, как бы то ни было, мы видим: славянский сегмент индоеверопейцев в отношении философии стоит под паром. Это отдыхающее поле, не только не принесшее плодов, но, судя по всему, еще и незасеянное. А если кто-то и пытался здесь что-то посеять, то это закончилось неудачей – семена либо упали на каменистую почву, либо были расклеваны птицами небесными, либо забиты сорняками. Это славянское, русское поле, чрезвычайно обаятельное, явно окультуренное и ждущее чего-то, но пока философски бесплодное.
Глава 2. Герменевтический эллипс и его структура
Философы без философии
И все-таки время от времени мы используем сочетание слов вроде «русской философии», перечисляем имена «русских философов» -- Г. Сковороды, В. Соловьева, Н. Федорова, К. Леонтьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, С. Н. Трубецкого, С. Франка, П. Флоренского, Л. Шестова, А. Кожева, А. Лосева. Кто же они тогда и чем занимались?
Во-первых, философы могут быть и при отсутствии философии в культуре народа: отдельные представители данного народа вполне могут интегрироваться в культурную и философскую традицию другого народа, у которого такая традиция есть. Философы возможны и без философии, но прилагательное «русский» применительно к такому философу будет означать только происхождение его личности, а не участие в герменевтическом круге целостного явления под названием «русская философия». В этом смысле все вышеперечисленные авторы и еще целый ряд других вполне и без всякой натяжки могут именоваться «русскими философами»: это русские, которые философствовали. Все верно. При этом плоды их философствования не вылились в создание русской философии. Кое-кто из них и не ставил такой задачи (Г. Сковорода, А. Кожев, Л. Шестов, Н. Бердяев), а кое-кто ставил (В. Соловьев, Н. Федоров, С. Булгаков), но не справился. В любом случае при сопоставлении того, что мы знаем о самих «русских философах» и что получили от них в наследство в виде трудов, идей, текстов, теорий, с философскими массивами, наработанными в индоевропейских (и не только индоевропейских) культурах, становится совершенно очевидно, что механическая совокупность всех их усилий философией в полном смысле называться не может – ни в качественном, ни в количественном измерениях. Иными словами, мы имеем русских философов, но не имеем русской философии.
«Русские фрагменты»
К этому базовому отправному моменту можно отнестись двояко. С одной стороны, для корректности дальнейших построений следовало бы показать, по какой причине то, что выдается за «русскую философию», таковой не является. Этот критическимй аспект – он расчистит нам путь (стадия «вывоза мусора»). С другой стороны, можно распознать в идеях и трудах русских философов фрагменты, намеки и намерения, которые, будучи распознаными и взятыми именно в таком качестве (а не как цельная философия), будут чрезвычайно ценными для тех, кто все же задумывается на новом витке истории о возможности русской философии как полноценного и состоятельного явления.
Мы знаем, что главное сочинение первого человека, называвшего себя (как принято считать) «философом», Гераклита Эфесского «О природе» был утерян, но на основании дошедших до нас разрозненных фрагментов, мы делаем грандиозные выводы о том, какова была гераклитовская мысль. В качестве примера, можно обратиться к текстам Хайдеггера о Гераклите (4) и к итогам его совместного с Ойгеном Финком знаменитого семинара (5). Если отнестись к трудам «русских философов» именно как к разрозненным фрагментам, причем написанным на языке, до конца не расшифрованном, в котором можно опознать лишь отдельные знаки, и то предположительно, вот тогда-то они обретут подлинную ценность и обнаружат свой созидательный потенциал для будущего. Мы должны их не интерпетировать (в них, по сути, нечего толком интепретировать), но достраивать и расшифровывать, как шарады, причем составленные наполовину, а то и на треть, правильных ответов на которые не знали сами их составители, бросившие все дело, едва начав. Смыл «русских фрагментов» мы должны достроить, извлечь, а чаще всего создать заново. Но все это справедливо в том случае, если изначально оперировать с оптимистической гипотезой о том, что русская философия возможна. Если она возможна, то у «русских фрагментов» может быть смысл -- имеется в виду собственный русский смысл. Если этого обосновать не удастся, то эти же фрагменты могут быть рассмотрены как попытка на последнем этапе включиться в работу западноевропейской философской традиции. И попытка явно неудачная, подобно тому, как опоздавший пытается впрыгнуть в уходящий поезд, хватается за поручень последнего вагона, но не удерживается и скатывается в канаву («философский пароход» 1922 года или крах советского марксизма в 1960-е, ставший очевидным в 1991 году), где начинается совсем иная, новая и далеко не философская жизнь.
В обоих случаях речь идет о «феноменологической деструкции» в хайдеггеровском смысле, только процедуры будут разными. В первом случае мы исходим из возможности существования такого целого как «русская философия» и пытаемся найти соответствие этой (в высшей степени гипотетической) структуры «русским фрагментам», то есть заведомо оперируем с русской герменевтикой. Во втором случае за достоверный герменевтический круг берется западноевропейская философия (почему не индийская и не иранская, объяснять, думаю, не надо) и демонстрируется, непониманием, искажением и кривым усвоением чего были эти «русские фрагменты» и как они возникли. Эту вторую разновидность «феноменологической деструкции» частично уже проделали либеральные критики и представители русофобского направления – как в России, так и за ее пределами. Правда, эта работа была настолько окрашена политическими и пропагандистскими моментами и эмоциональным злорадством, что ее теоретическая ценность и конструктивность (пусть критическая) зачастую совсем теряется. Перед лицом высокомерной брезгливости тех, кто критикует «русскую философию» как посмещище и убожество, возникает столь же ангажированный обратный импульс, подталкивающий нас – вопреки всякой очевидности – заявить: «Русская философия была и представляла собой самостоятельное и весомое явление, внесшее свой вклад в сокровищницу мировой философской мысли». Получается, что на оскорбительно оформленную правду, мы отвечаем успокоительной ложью. Это не философский, а полемико-публицистический прием, который стоит оставить в стороне.
Выходом из такой ситуации будет концентрация внимания именно на возможности русской философии. Мы не настаиваем на том, что она действительна. Скорее всего, как действительного явления ее нет. Мы даже не настаиваем на том, что она возможна. Может быть, и это не так, может быть, она и вовсе невозможна. Мы лишь прорабатываем философскую гипотезу о существовании такого герменевтического круга, который можно было бы назвать «русской философией», и на этой гипотезе хотим построить нашу собственную герменевтику.
Русская философия – это такое гипотетическое целое, которое нам не дано ни как целое, ни как несколько частей. Это целиком воображаемый мир, построенный, однако, на вполне конкретном и феноменологически бесспорном основании русского Начала, русскости, русского мира, русской самобытности, русской культуры. Русское феноменологически достоверно. Кто это отрицает, с теми разговор короткий: это просто враги, а с врагами во все времена поступали одинаково. Но русская философия целиком принадлежит сфере проективной возможности. Она феноменологически недостоверна, она пребывает в грезе, как мечта, тонкий сон, если угодно, галлюцинация. Но не стоит недооценивать силу воображения (6), оно играет важнейшую роль в антропологической конституции и, соответственно, в культуре и обществе. И «русские философские фрагменты» есть крошечные пятна пыльцы в этой грезе, не более того, но и не менее.
Архемодерн и псевдоморфоз
Специфика русской культуры и русского общества может быть определена как археомодерн (7). Особенно это касается последних трех веков, следующих за петровскими реформами. Термин «археомодерн» описывает ситуацию, когда социальная модернизация осуществлется не естественно и органично, накапливая предпосылки в глубине общественных процессов, но навязывается сверху волевым образом, причем за модель модернизации берутся социо-культурные и социо-политические образцы, скопированные с обществ с совершенно иной историей, типом и находящихся в других фазах своего развития (да и само развитие может происходить в разных направлениях). Такая «модернизация» является экзогенной, а не эндогенной (8) и не трансформирует глубинную структуру подвергающегося модернизации традиционного общества, а лишь искажает ее. При этом внутренняя структура в основном сохраняется в архаическом, «начальном» («arch» – «начало») состоянии, что порождает редубляцию социальной культуры и «двойную герменевтику». Модернизированные пласты общества (элиты) мыслят себя в одном мире, в одном качестве, в одном социальном времени, а массы остаются архаическими и интерпретируют социальные факты в оптике прежних традиционных преставлений. О. Шпенглер называл это явление «псевдоморфозом» (9), привлекая метафору из области минерологии и кристаллографии, где естественный рост кристаллических пород нарушается внешним по отношению к нему явлением – например, извержением вулканической магмы, чьи частицы вмешиваются в процесс кристаллообразования и создают уродливые кристаллы-гибриды.
Археомодерн представляет собой общество-гибрид, в котором обе стороны – модернизированная и традиционная – легко угадываются, но не вступают друг с другом в упорядоченное, логическое взаимодействие, не сопрягаются осознанно и последовательно, а сосуществуют «де факто», не замечая друг друга. В археомодерне никогда нельзя быть уверенным, что имеешь дело с элементом модерна или архаики: в любой момент ситуация может измениться и из-под маски современности выглянет старина, а традиция при ближайшем рассмотрении обернется подделкой. В таком обществе доминирует принцип социальной лжи – и элиты и массы систематически лгут себе и другим о своей природе, но не потому, что знают истину, но скрывают ее, а потому, что не знают этой истины и скрывают свое незнание.
Именно археомодерн как социокультурный тип сложился в России в последние столетия. О. Шпенглер считал, что явления псевдоморфоза в русской истории начались с Петра I, хотя их предпосылки видны уже в русском расколе. От других форм археомодерна, к которым в той или иной степени относятся колониальные и постколониальные общества (что видно на примере стран Африки, Латинской Америки, исламского мира, Индии, Китая и, с определенными оговорками, Японии, Южной Кореи и т.д.), Россию отличает лишь то, что экзогенная модернизация проходила в ней без фактической утраты суверенитета и без полной колонизации. Скорее она носила «оборонительный» (10) характер и служила для того, чтобы отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессивно напирающей Западной Европы. То, что другим традиционным обществам навязывали колонизаторы, мы навязали себе сами – причем именно в целях защиты от потенциальных колонизаторов, то есть во имя свободы и независимости. От этого русский археомодерн не стал менее болезненным и противоестественным, но приобрел дополнительное измерение – он получил возможность быть интерпретированным не только как фатальное следствие утраты самостоятельности на определенном историческом этапе перед лицом современных обществ, но как своего рода сознательно избранная «национальная идея».
В самом благожелательном смысле можно расшифровать русский археомодерн как особую социальную маскировку, на которую пошло традиционное общество (arch), чтобы сохраниться в новых исторических условиях, где внешние и наступательные колониальные общества Модерна приобретали слишком много конкурентных преимуществ, не совместимых с возможностью сохранения свободы традиционными обществами.
Если отнестись к археомодерну критически, его можно рассмотреть как сознательное и добровольное искажение традиционных социальных структур и искусственное самозаражение, проделанное для каких-то невнятных целей, в мире, где в большинстве случаях эти искажения были навязаны принудительно, а эпидемия распространялась сама собой. В таком случае петровские реформы и вся последующая история России, включая СССР и современную РФ, видится как нечто среднее между диверсией правящего класса и саморазрушительным мазохизмом общества в целом.
Смердяков как центральная фигура археомодерна (о «банной мокроте»)
Программу русского археомодерна кратко и емко излагает герой романа «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского Павел Смердяков, незаконнорожденный сын Федора Павловича Карамазова от юродивой нищенки Лизаветы Смердящей. –
« Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. (…) В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки» (11).
И в следующем диалоге с той же Марией Кондратьевной:
" -- Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы... саблю вынули и всю Россию стали защищать.
-- Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.
- А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?
- Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона... и хорошо, кабы нас тогда покорили..." (12).
Это не простое западничество, хотя Павел Смердяков, разумеется, западник, что видно из его восхищения всем европейским. Сам он так говорит о европейцах:
«Тамошний [т. е. иностранец] в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит". (13)
Здесь показательно, что Смердяков частично критикует и самого себя, свою русскую природу. Смердела, судя по уничижительной кличке, и его юродивая матушка, и сам он смердит изнутри, в соответствии со своей фамилией, но старается заглушить смердение духами и замаскировать лаковыми туфлями. Это образ русского лакея, бастарда -- социальной фигуры, зависшей между барином и простолюдином, существа, глубоко больного, искореженного, расстроенного, но вместе с тем страдающего и мучающегося, а также мучающего других. Это и есть гибрид, типичный образ, концентрирующий основные свойства русского архемодерна. Эту особость смердяковской породы отмечает у Достоевского старый слуга Григорий, вырастивший Смердякова (русский слуга как представитель традиционного архаического русского общества противопоставляется русскому лакею). Осознавая патологичность русского лакейства, социальной смердяковщины как метафизического явления архемодерна, Григорий еще в детстве Смердякова настаивал на том, чтобы его не крестить:
"Потому что это... дракон... смешение природы произошло"(14).
Это чрезвычайно важное «смешение природы», причем «смешение» патологическое, противоестественное, эстетически отвратительное и этически отталкивающее (Смердяков окажется в романе отцеубийцей), и есть формула русского археомодерна, отвратительный гибрид архаизма с современностью, осуществленный в ущерб обоим составляющим, приводящий к извращению и вырождению и того и другого. Старый русский слуга подозревает, что тип российского лакея, идущий ему на смену, несет в себе колоссальную антропологическую угрозу. Развивая тему «дракона», «смешения природы», Григорий прямо в лицо сообщает Смердякову:
«Ты разве человек?... Ты не человек, ты из банной мокроты завелся, вот ты кто". (15)
Это не просто раздраженная метафора, это важнейшее прозрение в область социальной антропологии. Смердяков (российский лакей и прототип русского либерала), на взгляд типичного представителя архаической Руси, «не человек», «нечисть», злое демоническое существо, родившееся из «банной мокроты» (используемый здесь образ «бани» и «мокроты» имеет архаическую структуру и означает нечто «нечистое», «изначальное», напоминая сюжет о споре дьявола с Богом в многочисленных русских апокрифических преданиях о сотворении мира с явными элементами то ли древнего иранского дуализма, то ли средневекового богомильства) (16).
Самое важное при этом, что выродок Смердяков – абсолютно автохтонный русский выродок. Его «западничество» не является причиной его вырождения, напротив, вырождение, свое, глубинное, толкает его – из осознания собственной патологии и отвращения к своему и всему окружающему – к поклонению перед «другим», в данном случае перед Европой, возводимой в идеал. В Смердякове и русском археомодерне центральна не любовь к иному, но ненависть к своему. Это отличает русский археомодерн от колониальных и постколониальных аналогов.
В колониальной Индии или рабовладельческой Бразилии модерн, воплощенный в правящем классе европейских колонизаторов, был катастрофой, бедой, имевшей внешний характер. И хотя постепенно колонизация проникла вглубь, породила прослойки коллаборационистов, имитаторов и трансгрессоров, она не несла в себе глубинного раскола сознания народа и ненависть его к своей идентичности. Это было подобно стихийному бедствию и не имело эндогенных культурных корней.
Искусственная модернизация русских и их вестернизация, начиная с Петра I, порождала чувство внутренней измены общества самому себе, своим корням, и «оборонительный», «вынужденный» характер такой модернизации, быть может, рационально внятный элитам, широким массам объяснить было невозможно. (Тем более, было не понятно, почему надо было обязательно «выплескивать ребенка вместе с водой» -- жертвовать идентичностью ради сомнительных благ технического развития). До масс доходил лишь осмысленный по-смердяковски диспозитив различных стратегий самоотчуждения, раскола сознания, внутренней ненависти и брезгливости -- в первую очередь, к самим себе. Модерн воспринимался не как таковой, а как мера унижения -- как то, в сравнении с чем, все русское самим же русским субъективно представлялось «убогим», «ничтожным», «позорным», «отталкивающим. Благодаря такому пониманию «модерна» в археомодерне его содержание, как и сам процесс модернизации, воспринимается заведомо неверно, искаженно, утрачивает оригинальное, но не приобретает положительное и новое содержание, превращаясь в бессмысленное и отягощающее патогенное ядро, в источник непрестанного ressentiment (17).
Вместе с тем в фигуре российского «лакея-дракона» существенно мутировала архаическая сторона, утрачивая спокойное самотождество архаики, выворачиваясь наизнанку, теряя внутреннюю структуру – структуру мифа и обычая, обряда и традиции.
Герменевтический эллипс
Русская культура вступила на путь археомодерна с конца XVII века, но его первые признаки проявились еще раньше – с первой половины этого столетия. Именно тогда стали заметны фундаментальные изменения в церковной практике: распространение многоголосия и частичное внедрение партеса в церковном пении, влияние «фряжского» письма – перспективы – в иконописи (например, в школе Ушакова и парсунной живописи), а также активное навязывание европейских мод и обычаев (театры, табакокурение, новые стили в одежде и т.д.). В церковном расколе, а затем в петровских преобразованих эта тенденция достигла своей кульминации и предопределила структуру русского общества вплоть до нашего времени. С петровского периода Россия живет в археомодерне, и обращение к этой социальной модели служит основополагающей герменевтической базой для корректной интерпретации основных культурных, социальных, политических, духовных и хозяйственных событий.
Археомодерн можно уподобить фигуре эллипса с двумя фокусами -- фокусом Модерна и фокусом архаики. На уровне элиты развертывались процессы модернизации (=европеизации), а народные массы оставались в рамках архаической парадигмы, в Руси Московской. В своих ядрах обе социальные группы жили автономно друг от друга, почти не пересекаясь, как на двух разных планетах, на двух разных социальных территориях. Различались костюмы, нравы, даже язык: элита романовской России после XVII века свободно говорила на голландском, английском, немецком, позже французском языках, а русского могла вполне и не знать, он был излишним в повседневной жизни дворянина. Эти две территории представляли собой два типа того, что Гуссерль назвал «жизненным миром» (Lebenswelt) – два удаленные друг от друга горизонта бытия и быта, структурированные абсолютно различным образом. Ядро элиты составляли иностранцы, служившие эталоном для собственно русской аристократии: они-то и были носителями подлинно европейского Lebenswelt'а. Ядро же простого народа составляли староверы и, частично, представители русского сектантства, сознательно стремившиеся иметь с российским государством и «кадровым» обществом (то есть с Модерном) как можно меньше пересечений (18). Но хотя эти миры были полностью разведены, все же мы имеем дело с одним и тем же обществом, пусть и состоящим из суперпозиции двух культурных территорий. Причем это единство было оформлено единством политического, социального и хозяйственного механизмов, так или иначе затрагивающего всех. Между этими двуми полюсами и кристаллизовалась постепенно обобщающая фигура, воплощающая в себе археомодерн не как составное, разложимое понятие, но как без-образный интериоризированный псевдосинтез. Это и есть наш Смердяков – «лакей-дракон». Он был тем общим, что превращало две окружности с различными центрами в единый русский эллипс.
И именно смердяковщина, которая легко угадывается в русской аристократии (и у героев Пушкина и Лермонтова, а особенно ярко в лице реального исторического персонажа Петра Чаадаева), является тем целым, которое представляет собой структуру герменевтического эллипса археомодерна.
Западнический фокус
В структуре описанного герменевтического эллипса можно отметить тот полюс, который воплощал в себе модернизацию (Модерн) и представлял собой часть западной судьбы. Западный человек, даже живущий в России, или отдельный русский (аристократ), полностью интегрированный в западное общество (что теоретически вполне возможно), является частью западной культуры, западной социальности и, соответственно, моментом логики развития западной истории. С точки зрения философии (что отчетливо показывает Мартин Хайдеггер) эта история была выражением различных этапов философского мышления. Западное общество и этапы его исторического становления вплоть до модерна представляли собой отражение развития западной философии. Поэтому модерн (Новое время) был частью западной судьбы, в каком-то смысле, ее целью, ее «телосом». Модерн вызрел в западной культуре, воплотился в ней и вылился за ее пределы в колониальном броске Европы к интеграции мира под своим началом (эпоха Великих географических открытий).
Полюс модерна в России в его чистом виде вполне может рассматриваться как крайняя периферия западноевропейского герменевтического круга, наподобие заблудившегося в малярийных болотах Амазонки в поисках Эль Дорадо озверевшего испанского конквистадора (19). О такой фигуре проникновенно писал Николай Гумилев:
Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор.
В дымном небе плавали кондоры,
Нависали снежные громады.
Восемь дней скитался он без пищи,
Конь издох, но под большим уступом
Он нашёл уютное жилище,
Чтоб не разлучаться с милым трупом.
Там он жил в тени сухих смоковниц
Песни пел о солнечной Кастилье,
Вспоминал сраженья и любовниц,
Видел то пищали, то мантильи.
Как всегда, был дерзок и спокоен
И не знал ни ужаса, ни злости,
Смерть пришла, и предложил ей воин
Поиграть в изломанные кости.
Ясно, что такому «конквистадору» не до философии, но даже в нечеловеческих условиях он остается носителем западноевропейской судьбы, которая выставляет западного человека в его фундаментальном и неснимаемом одиночестве перед лицом главной собеседницы, смерти, в структуре алеаторного кода, связанного со случайностью затерянного в лабиринтах растущего ничто европейского Dasein'а.
Но этот экзистенциальный заряд реальной (а не имитационно- смердяковской, и на самом деле, глубоко русской от этого) западной культуры на уровне народных масс совершенно не воспринимался и не расшифровывался. Поэтому модернизация как включение в западноевропейский процесс, в западноевропейскую судьбу распространялась на очень ограниченный слой русской политической элиты. Как представительница православной державы, стремящейся (пусть по прагматическим соображениям) сохранить суверенитет перед лицом других европейских держав, готовых в любой момент на него покуситься, эта элита геополитически была ориентирована преимущественно против Запада -- как по периферии русского владычества на Западе (Прибалтика, Украина), так и на Юге (Крым, Кавказ) и на Востоке (Центральная Азия, и начиная с определенного момента, Дальний Восток).
Эти геополитические обстоятельства никак не способствовали органичному усвоению начал западной философии даже русской аристократией. Российская элита развивала архетип отважного ландскнехта, оказавшегося на службе в чужой, непонятной и не интересующей его стране, но старающегося в меру своих сил служить ей за конкретный интерес.
Схематизация герменевтического эллипса
Принятие археомодерна в качестве базовой модели интерпертации особенностей ментальности русского общества последних веков подводит нас вплотную к проблеме корректной дешифровки того, чем на самом деле являлись попытки русских мыслителей XIX века построить «русскую философию». Графическое изображение герменевтического эллипса русского архемодерна подводит нас вплотную к основной проблематике нашего исследования. Рассмотрим следующую схему.
 |
Схема 1. Русский герменевтический эллипс (археомодерн)
На ней мы видим несколько фигур. Собственно эллипс обозначает русский археомодерн, представляющимся при поверхностном анализе чем-то цельным и единым, но на самом деле организованным вокруг двух довольно далеко друг от друга отстоящих (и, самое главное, имеющих разную качественную природу) фокусов.
Структура полюса
Фокус B (схема 1) есть фокус модерна. Весь секрет в том, что он принадлежит другому реально существующему, действительному герменевтическому кругу – кругу западноевропейской философии. То есть дискурс модернизации в русском обществе является провинциальным и глухим воспроизводством западноевропейской культуры, истории и, соответственно, философии. При этом сам по себе фокус В (схема 1) имеет свое ядро и свою периферию. В ядре находятся европейцы, поселившиеся (постоянно или временно) в России и сохраняющие органическую связь с герменевтическим кругом западной культуры.
В первую очередь, это либо русские цари и царицы, породнившиеся с европейскими домами, либо сами этнические иностранцы. Естественно, что они появлялись на российском престоле не в гордом одиночестве, а везли с собой из Европы целую армию родственников, любовников и любовниц, фрейлин, шутов, докторов и гигантский обслуживающий императорских особ персонал, автоматически попадавший на высший этаж власти. Все они были носителями западноевропейского начала, что сказывалось и в том случае, если сами они были православными или принимали православие в России. В XVIII-XIX веках от русского православия осталась лишь форма, а содержание было в корне извращено различными западно-христианскими влияниями (католическими, протестантскими, мистическими, масонскими и т.д.) как изнутри новообрядческого духовенства (20), так и со стороны светской знати.
Иностранцами были заложены основы российской академической науки – в первую очередь, в рамках петровской Академии Наук, чей проект был полностью реализован при Екатерине I. Среди них выделяется целая плеяда ученых-иностранцев: медики Л.Л.Блюментрост, И.Д.Шумахер, историки Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер, физики Д. и Н. Бернулли, У.Т.Эпинус, математик Л. Эйлер, естествоиспытатель И.Г. Гмелин, академический функционер И.А.Тауберг, филолог Г.З.Байер, рисовальщик и искусствовед Я.Штелин и т.д. К этому следует добавить и иностранцев, завербовавшихся на русскую службу в поисках чинов и наград. Все вместе они и создавали содержание полюса B (схема 1), являясь истинными носителями модерна, хотя бы и периферийного, колониально-«конквистадорского».
Вокруг этого ядра в виде концентрических малых эллипсов группируется собственно русская среда тех, кто захвачен процессом европеизации и модернизации. Это представители русского боярства и особенно дворянства, стремящиеся по чисто практическим соображениям стяжать благосклонность их Императорских величеств и готовые ради этого жертвовать старыми традициями и устоями. Это и новая плеяда собственно русских ученых (подчас по происхождению разночинцев -- таких, как М.В.Ломоносов, -- но быстро поднимающихся в элиту), которые перенимают у иностранцев отдельные аспекты их мышления, образуя основу российского интеллектуального класса. То есть вокруг полюса B (схема 1) мало-помалу складываются концентрические фигуры, русского общества, в первую очередь, аристократического.
При этом чем дальше они удаляются от собственно иностранного ядра, тем больше в них стирается строгость структуры зарадноевропейского мышления, размываемая притягивающими влияниями второго фокуса (А) (схема 1), который представляет собой полюс архаики. Размывание западноевропейского ядра особенно заметно в русских разночинцах второй половины XIX века, близких к народным массам, хотя и не только в них, как показывает случай русских консерваторов начала того же века -- А. С. Шишкова, С. Н. Глинки, М. Л. Магницкого, Ф. В. Ростопчина, А. С. Стурдзы, С. С. Уварова, и славянофилов -- А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, братьев К. С. и И. С. Аксаковых, или А. С. Пушкина, заинтересовавшегося народной культурой «сверху», с позиции аристократии.
Складывающиеся вокруг полюса B (схема 1) круги, постепенно расширяясь, меняют форму, превращаясь в эллипсы по мере того, как русское Начало, фокус A, оказывает на них все большее влияние. Рассмотрим теперь подробнее сам этот фокус.
Фокус архаики
Фокус А (схема 1) отмечает архаическое начало в герменевтическом эллипсе. Он-то и может рассматриваться как потенциальный центр того гипотетического герменевтического круга (не эллипса!), который можно было бы назвать «русской философией», возможности которой посвящена данная работа. Мы наметили этот круг пунктиром (схема 1), чтобы подчеркнуть его гипотетический характер. Как такового его нет. Но может ли он быть, мы и попытаемся выяснить в ходе нашего исследования с опорой на философию Мартина Хайдеггера. Пока же нам важно, что в реальной структуре русского общества этот фокус находится в подчиненном положении и сооответствует широким массам, народу, тому, что можно назвать архаическим началом русского общества. С учетом этого иерархического соподчинения следует расположить герменевтический эллипс русского археомодерна вертикально.
 |
В
 |
![]() А
А
Схема 2. Русский герменевтический эллипс: вертикальное расположение, подчеркивающее иерархическое сопряжение фокусов.
Финальный герменевтический эллипс складывается из расширения процесса модернизации и европеизации, постепенно включающего в себя все более широкие слои русских людей. Полюс А (схема 2) – фокус архаики – представляет собой своего рода «посторонний аттрактор», влияние которого видоизменяет общую структуру социума и его логоса и искажает его пропорции, имитирующие (по замыслу модернизаторов) герменевтический круг западноевропейской культуры, науки и философии. Особенно отчетливо это можно наблюдать в XIX веке по мере распространения проекта «народного Просвещения», когда под влияние западнического по своим основным параметрам образования попадают большие сегменты простого русского народа.
Глава 3. Философы археомодерна
Славянофилы и западники: обнаружение археомодерна
Появление русских консерваторов первой четверти XIX века (так называемая «русская партия» -- Шишков, Растопчин, Глинка и т.д.), и особенно славянофилов, на этой схеме может быть представлено как достижение «барским» евроцентричным эллипсом, расширяющим свой охват, точки второго фокуса – А (схема 2) и первые внятные и осознанные интуиции русской интеллектуальной и политической элиты относительно того, что Россия является самобытной и оригинальной культурой и цивилизацией, а не просто «европейской страной».
Можно предложить третью схему герменевтического эллипса, на которой будет видно, как расширение модернизации, идущей от полюса B вниз, в народные массы, в определенный момент соприкасается со скрытым русским Началом, фокусом A (схема 3), которое служит центром притяжения, своим воздействием искажающим круг и превращающим его в эллипс. Славянофилы являются историческими первыми, кто достигает этой точки.

|
![]()


![]()
![]() Герменевтический круг западноевропейской философии
Герменевтический круг западноевропейской философии
 |
|
![]() славянофилы
славянофилы
Гипотетический круг
русской философии
Схема 3. Русский герменевтический эллипс: структурное изображение позиции славянофилов
Славянофилы первыми зафиксировали предчувствие самой возможности русской философии. Не завершившие, и даже толком не начавшие процесса ее создания, они утвердили в рамках археомодерна первую интуицию гипотетического русского герменевтического круга (отмеченного на схеме 3 пунктиром).
Славянофилы обнаружили и проявили эллиптический характер русской культуры, приблизились к осознанию архемодерна и попытались преодолеть его обращанием к гипотетической «народной традиции», к Святой Руси, к периоду Московского царства, к крестьянскому быту и собственно русскому Православию.
Синхронно с ними и в том же самом культурном, историческом и социальном контексте явление археомодерна было вскрыто и на противоположном фокусе – в точке В (схема 3). Ярчайшим представителем такого вскрытия был Петр Чаадаев, ученик известного консервативного философа и эмигранта из Франции Жозефа де Мэстра. Чаадаев так же, как и славянофилы, обнаружил патологичность русского эллипса, чутко схватил уродливость и гротескную искаженность русской культуры, представляющей собой глубокую периферию Запада и историческую аномалию. Но в отличие от славянофилов Чаадаев видел иное направление преодоления этого состояния культуры – в сторону полной и абсолютной интеграции в западную парадигму, то есть от русского герменевтического эллипса к герменевтическому кругу западноевропейской философии. Чаадаев предлагал очистить археомодерн от архаического фокуса (А), чтобы российская культура максимальным образом интегрировалась в общеевропейскую. При этом анализ Чаадаевым болезненности и противоречивости русского археомодернистского эллипса в целом совпадал с симметричным, но противоположным по знаку анализом славянофилов.
[вставить схему 4 из файла схемы4-5]
На схеме 4 представлены основные идейные течения России XVIII – начала XX веков в их соотношении с полюсами герменевтического эллипса. Они составляют контекст, в котором развертывались первые попытки создания собственно русской философии. Чисто философские направления представлены на схеме 5.
[вставить схему 5 из файла схемы4-5]
Между славянофилами, заинтересовавшимися полюсом А, и западниками, сконцентрировавшимися на полюсе В (схема 4) и проходило становление русской культуры XIX века, в которой впервые (если не считать имитационные пробы пера XVIII века – Г.С.Сковорода) появляется тип «русского философа». Этот «тип» выражает в себе герменевтический эллипс археомодерна, и именно эта особенность составляет надежный инструмент, с помощью которого мы можем произвести корректную деконструкцию русской философии.
Два русских мыслителя-археомодерниста
Присмотримся внимательнее к двум мыслителям, бывшим современниками друг друга и к которым принято прилагать понятие «русский философ». Это Владимир Сергеевич Соловьев (1853 —1900) и Николай Фёдорович Фёдоров (1829 -- 1903).
Владимир Соловьев и Николай Фёдоров могут быть представлены как два философа, выражающие разные стороны русского археомодерна. Оба они безусловные археомодернисты, в творчестве обоих модернистские (западнические) и архаические (собственно, русские) элементы перемешаны густо, плотно и неразрывно. Очевидно, что ни тот, ни другой их ясно не рефлектировали и не отдавали себе отчета в несопоставимости и гетерогенности этих элементов, то есть не осознавали границы в своем философствовании между «русским» и «нерусским». Но вместе с тем, можно заметить, что западнический полюс (фокус В) ярче присутствует у Владимира Соловьева, выступавшего апологетом католицизма и объединения всех христианских Церквей, в то время, как народное, архаическое, иррациональное, начало больше дает о себе знать в творчестве Николая Фёдорова.
Вместе с тем с точки зрения сословного происхождения В. Соловьев являлся выходцем из крестьян, хотя позже его предки пошли по духовной стезе, а отец, С.М.Соловьев, был выдающимся русским историком, а Н. Федоров был незаконорожденным сыном графа П.И.Гагарина. Что-то изначально «смердяковское» было в обоих из них – Соловьевы проделали путь из «грязи в князи» (от фокуса А к фокусу В), а Федоров, напротив, рухнул «из князей в грязь», в скромную и небогатую разночинную жизнь, нареченный по имени крестного отца из простолюдинов чужим именем (а не Гагариным), хотя семья настоящего отца (в частности, его дядя Константин Иванович Гагарин) его на первых порах материально поддерживала.
Владимира Соловьева: маргинал европейского дискурса
В философии В. Соловьева фокусы русского археомодернистского герменевтического эллипса выделяются довольно просто. В фокусе В, в западническом ядре, расположены комплекс его либеральных представлений, идея личности, увлечение западноевропейскими философами, и особенно Гегелем, и в качестве религиозного выражения (вполне в духе Ж.де Мэстра или П. Чаадаева) -- привязанность к католицизму (хотя до сих пор историки не уверены, принял ли философ перед смертью католицизм как конфессию или все-таки умер православным). Идейная приверженность к католицизму у Соловьева очевидна: программный труд «Россия и Вселенская Церковь» (21) не оставляет в этом не малейших сомнений. В этой части убеждения Соловьева вполне могут быть интепретированы как крайняя периферия европейского герменевтического круга.
Периферийность выражается не просто в синкретизме соловьевских заимствований из разнородных источников, хотя в такой мере, как у Соловьева, это просто немыслимо для подлинно европейского мыслителя: Соловьев одновременно обращается к рационализму, к диалектике, к материализму, к эволюционизму, к позитивизму, к схоластике, к мистике, причем подчас в самых крайних и темных ее выражаниях. Такое безразличие к автономной структуре европейских философских направлений, неспособность или нежелание сделать выбор и развивать свою мысль в рамках какой-то одной школы или нескольких строго определенных школ лишает Соловьева какого-либо значения для европейских философов. Интерес Соловьева к широкому спектру взаимоисключающих европейских идей может быть признан похвальным, но его неразборчивость, поспешность и горячечность в выводах и обобщениях дисквалифируют его как философа в европейском смысле слова, маргинализируют, превращают в «чудака» и «оригинала».
Вместе с тем, бросается в глаза анахронизм Соловьева, его отстраненность от той проблематики, которой во второй половине ХХ века всерьез занимается европейская философия. Создается впечатление, что западноевропейские эпохи у него сплющиваются в некий неразличимый комок и проблематика Ренессанса, схоластики, первых этапов Нового Времени, романтизма, немецкой классической философии, кантианской и неокантианской гносеологии, ранней феноменологии, психологии и новейшие позитивистские и нигилистические тенденции рассматриваются на одном дыхании. При этом к устаревшим на Западе много столетий назад и в XIX веке бывшим на грани, а то и за гранью философии неоплатонизму и герметизму он относится с неподдельным интересом, вниманием и доверием.
В. Соловьев не схватывает главного в западноевропейской философии – ее исторического нерва, ее логики, того, что Хайдеггер назвал Gestell. Философия Запада притягивает и отталкивает Соловьева: он путается в ее лабиринтах.
Неудивительно, что его учение на западную философию большого впечатления не произвело и существенного влияния не оказало. В отношении универсальности католичества, теократии и теософии довольно подробно высказывались Ж. Де Мэстр, Л. Бональд или Ф. Кортес, а либеральных мыслителей и гуманистов, причем высшего качества, в Европе хватало и без В. Соловьева.
Образ Софии – болезнь и прозрение
Но вот вторая сторона творчества Владимира Соловьева была намного более оригинальной. Ее с полным основанием можно отнести к фокусу А нашего герменевтического эллипса (схема 4). Речь идет об образе святой Софии. В духе средневекового, а отнюдь не модернистского стиля мышления Нового времени, идея «святой Софии» приходит В. Соловьеву в «мистическом видении», что в рамках рационализма XIX можно было бы расценить не иначе как экзотику, а то и помешательство. Интерпретация этого «видения» или «озарения» в квазирациональных теориях и составляет нерв теорий В. Соловьева в течение всей его жизни. Экзальтированность и наивность этих поисков подчас заходила так далеко, что философ одно время был готов принять за «воплощение Софии» авантюристическую оккультистку и шарлатанку Елену Петровну Блаватскую, являвшуюся одновременно агентом влияния российских спецслужб.
Отношение В. Соловьева к Софии было каким угодно, но только не философским, в понимании европейской философии XIX века. Скорее это напоминало экзальтированный мистицизм католических персонажей вроде Генриха фон Сузо, который настолько вжился в стихию созерцания «женского ангела», явившегося ему на воздухе, что плел для небесной возлюбленной цветочные венки. Для XIV века это было на грани, но в Новое время такого «чудачества» себе не позволял ни один «серьезный» философ, за исключением шарлатанов, спиритов и оккультистов.
Многие другие проявления В. Соловьева в жизни были на грани прямого помешательства. В. Асмус пишет о некоторых биографических подробностях его натуры со ссылкой на его друга Е.Н.Трубецкого:
«Трубецкой свидетельствует, что у Соловьева были "всякого рода галлюцинации -- зрительные и слуховые; кроме страшных, были комичные, и почти все были необычайно нелепы". Как-то раз, например, лежа на диване в темной комнате, он услышал над самым ухом резкий металлический голос, который отчеканил: "Я не могу тебя видеть, потому что ты так окружен". В другом случае, рано утром, когда Соловьев только что проснулся, ему явился восточный человек в чалме. Он произнес "необычайный вздор" по поводу только что написанной Соловьевым статьи о Японии ("ехал по дороге, про буддизм читал, вот тебе буддизм") и ткнул его в живот необычайно длинным зонтиком. Видение исчезло, а Соловьев ощутил сильную боль в печени, которая потом продолжалась три дня.
Такие и другие болевые ощущения у него бывали почти всегда после видений. По этому поводу тот же Трубецкой как-то сказал: "Твои видения – просто-напросто – галлюцинации твоих болезней". Соловьев тотчас согласился с ним. Но, как говорит Трубецкой, это согласие нельзя истолковывать в том смысле, что Соловьев отрицал реальность своих видений. В его устах эти слова значили, что болезнь делает наше воображение восприимчивым к таким воздействиям духовного мира, к которым люди здоровые остаются совершенно нечувствительными. Поэтому он в таких случаях не отрицал необходимости лечения. Он признавал в галлюцинациях явления субъективного и притом больного воображения. Но это не мешало ему верить в объективную причину галлюцинаций, которая в нас воображается, воплощается через посредство субъективного воображения во внешней действительности. Словом, в своих галлюцинациях он признавал явления медиумические. Как бы мы ни истолковывали спиритические явления, какого бы взгляда ни держались на их причину, нельзя не признать, что сами эти явления переживались Соловьевым очень часто.» (22)
Замечание о «нелепости галлюцинаций» Соловьева чрезвычайно выразительно: оно подчеркивает, что Соловьев был жертвой потока нецензурированных атак бессознательного, поднимающихся напрямую из архаического ядра – не только его личности, но и самой русской культуры, выразителем которой Соловьев, безусловно, являлся.
Если все же отвлечься от клинической стороны внутренней жизни Соловьева, то можно попытаться придать его взгляду на Софию рационализированную форму.
София для Соловьева была ключем к толкованию мира, инструментом противоречий сознания, маршрутом преодоления противоположностей в самых разных сферах. Ясного определения этой инстанции он не давал и дать не мог, так как она отражала структуру его иррациональной интуиции, будучи символом вселенского женского начала, прилагаемого в некоторых ситуациях к самому Божеству. Конечно, этот образ В. Соловьев не выдумал самостоятельно и в традициях западноевропейских мистиков мы встречаем обращение к нему у Генриха Сузо, Якова Беме, Готфрида Арнольда, Й.В.Гете; присутствует он и в некоторых местах «Ветхого Завета», и в патристике. Но для второй половины XIX века и философии Нового времени подобная тема выглядела совершенным анахронизмом, что еще более маргинализировало В. Соловьева и его учение в глазах представителей западной философии того времени, подходившей к финальным заключениям в стиле Киркьегора, Шопенгауэра и Ницше. Рассуждать о Софии в эпоху явственного обнаружения сущности западной философии как нарастающего и тотального нигилизма было, по меньшей мере, странно и несвоевременно.
Обращение к Софии, нелепое в контексте современной Соловьеву западной философии, которая, бесспорно, существенно на него повлияла, прекрасно объясняется влиянием фокуса А русского археомодернистического эллипса (схема 3). Это закономерное проявление «странного аттрактора» русской ментальности и русской культуры в их архаическом измерении, голос архаики, вплетенный в дискурс Модерна. Ставя в центр (квази)рациональной философии иррациональный концепт Софии, Соловьев, по сути, запускает типичный основополагающий механизм археомодернистской интерпретации: он стремится объяснить разумное через неразумное, логическое через алогичное, упорядоченное и структурированное через интуитивное, хаотическое и избегающее какой бы то ни было ясности.
Будучи отчасти современным и западным, В. Соловьев в своих воззрениях, на самом деле, зарывается вглубь психических измерений русской культуры, погружается в коллективное бессознательное народа, отдается на произвол пронзительным энергиям «нуминозности» (Р.Отто (23)), той сакральности, которая предшествует любым теологиям, теориям, культам и религиям. Не случайно последователи Соловьева, создававшие культурные парадигмы «серебряного века», несколько позже именно так и расшифруют этот образ, а А.Блок открыто и однозначно отождествит Софию Владимира Соловьева с Русью, русской душой и тайной народной идентичности.
Не будучи монахом и даже регулярным посетителем богослужений,
В. Соловьев оставался в течение всей жизни девственником – девственность, чистота, непорочность были одновременно стволовой линией его мышления. В этом состоит архаическая черта радикального стремления к целостности, к законченности, к восстановленному андрогинату, воля к которому проецируется не только на область идей, но и на личную практику (нечто совершенно немыслимое в либертарианском или даже формально моралистичном обществе Модерна). Соловьев стремится «теургически» воплотить в жизни и судьбе свой иррациональный идеал и следует по этому пути со всей фанатичностью, присущей, скорее шаману, осуществляющему сакральную трансгрессию, или буддистскому монаху, нежели мыслителю-рационалисту.
В Софии и софийности как свойстве Софии вскрывается собственно русское в Соловьеве -- тот пласт мировосприятия, который выражает архаический опыт народа, отказывающегося жить в высокодифференцированных травматических структурах западного Модерна и предпочитающего интегральность прямого и целостного, холистского мировосприятия, предшествующего делению на строгие пары взаимоисключающих понятий – духовное/телесное, божественное/земное, мужское/женское, рациональное/эмоциональное, этическое/эстетическое, субъектное/объектное и т.д. Софийность – это слегка «облагороженное» название прямого и дорационального архаизма, уходящего вглубь души -- на несколько этажей ниже не только просвещенческого рационализма Нового времени, но и религиозно-государственного православного логоса собственно русского Средневековья.
В образе Софии Соловьев дает волю архаическим интуициям русского бессознательного, позволяет спонтанно и почти бесцензурно пробираться к глубинным росткам собственно народной, древней стихии, целиком бессознательной и иррациональной, но стремящейся выразить себя, выбиться из-под гнета криво установленного логоса западнических элит. Здесь-то и могло бы быть локализовано начало собственно «русской философии». Нащупав Софию как архаический фокус, ранее вдохновлявший и направлявший интуиции славянофилов (осознававших его, впрочем, менее отчетливо, выпукло и концентрированно), Соловьев мог бы предпринять попытку закладки здания «русской философии» как собственно русского круга, а не археомодернистского, псевдоморфистского эллипса. Именно в этом смысле следует интерпретировать и шаги его последователей – С.Булгакова, П.Флоренского, вплоть до поэтов и художников «серебряного века».
Софиология – это самый близкий к цели эксперимент по доказательству возможности русской философии, который только имелся в нашей истории. Можно сказать, что в силу этой интуиции мы были близки к появлению русской философии, к ее актуализации, как никогда.
Но при этом Соловьев не делает из своей интуиции всех заложенных в ней выводов. В процессе своих размышлений он постоянно сбивается на западничество, подыскивает для выражения своих прозрений совершенно не соответствующие их архаической природе философские понятия, суждения и теории. До конца не разобравшись в открытом им же самим «световом измерении» русского бытия, он поспешно пытается примирить его с европейскими теократическими утопиями совершенно иной природы и иного характера, и самое главное – относящимися к радикально иному философскому кругу. Поэтому В. Соловьев остается археомодернистом.
Всеединство как бегство от философии
Еще одним ключевым моментом размышлений Соловьева является тезис о «всеединстве». Он также представляет собой отзвук глубинной архаической интуиции о «склеенности» (24) между собой мировых оппозиций и различий.
«Всеединство» не есть «единобожие» в христианском смысле. Это и не материалистический монизм науки Нового времени. Это форма самовосприятия интенционального (в смысле Ф. Брентано и Э. Гуссерля) предфилософского, дологического начала, которое успокаивает невроз рассудочных различений и умиротворяет человека в стихии нежной материнской тьмы. Но западноевропейская философия в базовых истоках основана как раз на радикальном и необратимом разрыве с таким «младенческим», «женским» состоянием и переживанием, на принятии героической и мужской позиции вечно различающего и поэтому глубоко трагического рассудка как своей едиственной судьбы. Всеединство Соловьева – это что угодно, только не философия, так как отражает не просто нефилософский, но контрфилософский опыт, выражающий обстоятельства, при которых философии как таковой как раз и не может возникнуть. Максимум, к чему взывает философия, основанная на принципе единства, – это к финальному вос-соединению или к трансцендентности чистого бытия, лежащего за горизонтом философии как ее недосягаемый исток, цель, гипотеза, предпосылка. Не-всеединство есть абсолютное условие философии. Если бы Соловьев ясно отдавал себе в этом отчет и сумел сопрячь тезис о всеединстве, равно как и тезис о Софии, с русским полюсом, то он получил бы в высшей степени важный, быть может, решающий аргумент. -- Если мыслить «софийно», если мыслить «всеединство», отталкиваясь от «всеединства», -- одним словом, если мыслить по-русски, то мы окажемся в зоне, жестко противоречащей базовым установкам западноевропейской философии, причем, не только ее отдельным ответвлениям (прошлым или современным), но самой ее фундаментальной архитектуре, включая западную религиозную философию (как христианскую, так и дохристианскую). Это было бы прозрение в возможную философию Матери, организованную совершенно иначе, нежели философия Отца. Но В. Соловьев толкует эту чрезвычайно важную интуицию в негодном ключе, пытаясь через «клейкость» («глишроидность» в психиатрии) сознания искусственно соединить в себе Запад, который он плохо понимает, с Россией, которую он остро чувствует, но не может адекватно перевести на уровень мышления. Когда же Соловьев говорит о Востоке, то получается и вовсе карикатура, почерпнутая из европейских философских фельетонов: Европа не понимает Восток, не знает его и по настоящему не интересуется им, считая его по умолчанию «недо-Западом» -- в том же духе, как греки считали всех не греков «варварами», не просто говорящими на иных языках, но не говорящими вообще, исторгающими набор бессмысленных звуков, то есть своего рода «животными».
В определенные моменты – например, в статье о «Трех силах» (25) – В. Соловьев приближается к пониманию особости русской идеи, ее отличия от западной (и восточной), то есть стоит вплотную к «русской философии», контуры которой он, кажется, уже различает. Но тут же он вновь скатывается в псевдозападный универсализм, консервативно-европейское прожектерство, беспорядочный и необоснованный либерализм. Говоря о том, что у русского народа есть «вселенская миссия», он описывает ее как миссию «строителя» Вселенской Церкви, понимая под этим объединение христианства под эгидой Папы (26). И так повсюду.
Одним словом, В. Соловьев остается в плену археомодерна и в целом оставляет после себя наследие-симулякр. Взятое таким, как оно есть, оно лишь усугубляет археомодерн и укрепляет безысходность герменевтического эллипса. Фокус В (западничество) в этом эллипсе блокирует развитие фокуса А (возможность русского герменевтического круга, то есть собственно русской философии), но фокус А (схема 4), в свою очередь, мстит и саботирует рациональность активными и частыми вторжениями бесцензурного бессознательного, размывая стройность логических структур, превращая мышление в фарс, а реформы в безобразие. Как таковая «философия» В. Соловьева есть недоразумение. Но если мы сумеем в ней выделить и изолировать из архемодернистического контекста собственно русский, архаический, глубинный, «нуминозный» момент, если нам удастся распутать силки западничества и вызволить из них саму стихию Русской Софии, мы сможем расшифровать важнейшее послание, в ней содержащееся. И в этом случае она превратится в ценнейший фрагмент нового, только возможного (или невозможного – это еще предстоит определить) собственно русского герменевтического круга (а не эллипса).
Николай Фёдоров и «отцы-мертвецы»
Николай Фёдорович Фёдоров (27), современник В. Соловьева, также является философом археомодерна. Он не столько мыслит, сколько бредит, но в несколько ином, нежели Владимир Соловьев, режиме. Показательно, что и он всю жизнь прожил светским девственником, не монахом и не благочестивым христианином, но скорее, шаманом, выжимающим из своей аскезы всполохи нуминозных видений и интуиций. Если Владимир Соловьев созерцает мистическую Софию, то Николай Фёдоров воскрешает мертвых. Если обратиться к нашему герменевтическому эллипсу, здесь со всей очевидностью мы имеем дело с фокусом А (схема 3) – с ярким выражением архаического начала. То, что мертвые живы, что они никуда не ушли и живут рядом с нами – это глубинная, корневая интуиция архаического сознания. В форме теологического упования на события последних времен присутствует она и в развитой и высоко дифференцированной христианской доктрине. Но Н. Фёдоров явно имеет в виду не ее, но навязчиво преследующую его архаическую практику экстаза, в ходе которой мертвые воскрешаются не Богом, не трансцендентной силой, но с помощью имманентных, сугубо человеческих, здесь и сейчас присутствующих методов и процедур. Речь идет о своего рода некромантической теургии, практиковавшейся в некоторых неоплатонических школах (например, Ямвлихом и его последователями из Сирийской и Пергамской школ неоплатонизма). При этом для процедуры воскрешения мертвых Н. Фёдоров предполагал воспользоваться новейшими достижениями точных наук – исследованиями в области химии, магнетизма, физики и т.д. Далее, развитие науки было необходимо, по Н. Фёдорову, чтобы осваивать космос после того, когда на земле все место будет заполнено вскрешенными мертвыми. Кроме того, важность развития космических летательных аппаратов диктовалась, по его мнению, еще и тем, что в космос могли улететь «частички мертвых», и человечество должно отыскать их и вернуть назад. При этом – совершенно по-скопчески – он ратовал за отказ от «культа Жен» (то есть от естественного рождения) и от пищи (так как в «пище содержатся частички мертвых предков»). Люди должны научиться управлять природными и атмосферными явлениями и после этого они смогут летать, где захотят.
С такими идеями в трезвом и рациональном западном мире можно было бы претендовать только на койку в психиатрической клинике, а не на причастность к разряду философов. В России же «философ» больше, чем философ, и Н.Фёдоровым восхищались Л.Толстой и Ф.Достоевский, А.Платонов и М.Шагинян, К.Циолковский и В.Вернадский – вплоть до левых (парижских) евразийцев (Л. Карсавин, С. Эфрон, П. Сувчинский).
Психопаталогия Н. Фёдорова могла бы стать полюсом чистого архаизма, если бы он сумел подобрать к ней точные формулы в прямом опыте русского бытия. В этом случае это была бы не патология, но терапия, подвергающая индивидуализации донные энергии, накапливающиеся в русском коллективном бессознательном и стремящиеся вырваться наружу. То, что мертвые живы (и соответственно, живые мертвы) есть выражение глубинной интуиции «целого», нуминозное восприятие человека как эйдоса, как архетипа, рассыпанного на множество сингулярностей, но сохраняющего свое самотождество в особом онтологическом и антропологическом измерении. Если мир акта есть распад тотальности и расчленение эйдоса, то сотериологическая задача человека восстановить это утраченное единство, воссоздать, собрать воедино фрагменты, оживить то, что лишь представляется мертвым. Этот импульс несет в себе и свернутые версии темпоральности, и представление о качественном пространстве, и догадку о «бытии-к-смерти», и чистую стихию «заботы» (если воспользоваться экзистенциалами Dasein'а, выделенными М. Хайдеггером).
Одним словом, Н. Фёдоров, как и В. Соловьев, подходит к полюсу русской архаики вплотную – так, что в определенный момент создается впечатление, что он вот-вот разомкнет, взломает механизмы археомодерна и пустится в плавание в свободном океане чистого русского бреда к вычленению структур бессознательного и тем самым, в свою очередь и со своей стороны, приблизится к конституированию русской философии… Но… Но этого не происходит, и Н.Фёдоров незаметно для себя самого соскальзывает в дискурс западнического модерна, начинает рассуждать о прогрессе, о ценности музея и развитии техники, о возможности управлять погодой и строить совершенные автоматы. Не выдерживая атак стихии бессознательного в самом себе, под влиянием цензуры своей «графской» генетической половины, Фёдоров снова и снова срывается в псевдорационализм, воспевает западную науку и соединяет грядущее воскрешение мертвых с достижением технического гения «просвещенного человечества». И сочетание глубинных иррациональных (чисто русских) интуиций с разрозненными фрагментами западноевропейского рационализма (еще более периферийного и нелепого, чем в филопапизме В. Соловьева) существенно девальвируют тексты Н. Фёдорова, придавая его учениям свойство болезненного и противоречивого патологического потока сознания.
И снова, точно так же, как у Соловьева, взятое таким, как оно есть, наследие Н. Фёдорова представляется отталкивающей свалкой суждений, замечаний, обрывков, пародирующих процесс философствования (не только западного, но и восточного – например, китайского или индусского, где обязательно присутствует логика и структурированность, пусть и отличные от западноевропейских). Мысль Н. Фёдорова полностью вписывается в герменевтический эллипс. Но если мы, преодолев брезгливость, попытаемся разобраться в нем глубже, мы точно так же, как и в случае с В. Соловьевым, обнаружим там явно различимое присутствие фокуса А (схема 3), отдельные озарения и пункты, относящиеся к возможной, но так и не сложившейся, так и не состоявшейся в данном случае «русской философии».
Два наиболее репрезентативных русских мыслителя XIX века – Владимир Соловьев и Николай Фёдоров – представляют собой памятники тому, как русской философии не получилось; тому, как архемодерн сумел укротить и обескровить, извратить и в конце концов погубить пробуждающуюся русскую мысль.
И вновь к этому можно отнестись двояко: констатировать провал или, напротив, увидеть мерцающее подтверждение самой такой возможности. Если что-то тяготело к тому, чтобы состояться, но не состоялось, быть может, это состоится когда-то потом, в новых условиях и на новом историческом витке (куда бы он ни вел – в пропасть или к небесам, и даже если это был бы виток на одном месте, верчение волчком, «вождение бесом»).
Серебряный век и софиология
Интуиции Соловьева и Фёдорова легли в основу культурной парадигмы «серебряного века».
Софиологию и учение о «всеединстве» развивали последователи Владимира Соловьева – С.Н.Трубецкой, Е.Н.Трубецкой, С.Л.Франк, Н.О.Лосский, П.А.Флоренский и особенно С.Н.Булгаков, постаравшийся придать ей наиболее систематизированное выражение.
Огромное влияние софиология оказала на русских поэтов-символистов и акмеистов (В.Брюсов, А.Блок, А.Белый, Н.Гумилев, А.Ахматова, И.Анненский, Вс. Иванов, Ф.Сологуб, З.Гиппиус, К.Бальмонт, С.Городецкий, Н.Кузьмин, О.Мандельштам), а также на близкие к ним художественные, театральные и литературные круги. Все циклы поэзии А.Блока можно интерпретировать как поэтическое развертывание интуиции Софии, открывающейся то в образе Прекрасной Дамы, то в виде Девы-Руси.
Так или иначе на софиологические темы откликались и В.Розанов, и Н.Бердяев, и Д.Мережковский, и М.Гершензон, и практически все русские философы.
Вожди русской софиологии – отцы С. Булгаков и П. Флоренский.
Сергей Булгаков и Павел Флоренский представляют собой в этой цепи особый случай. Оба классические носители археомодерна: их личная судьба, идеи, интеллектуальный путь прекрасно вписываются в герменевтический эллипс. У обоих мы встречаем колебания между крайним модернизмом (ранний марксизм Булгакова, сближение с большевиками Флоренского) и предельными формами архаики (софиология и имясловие, которые были свойственны обоим). Кроме того, Флоренский создал в начале 1920-х годов «учение о мнимостях в геометрии»(28), на основании которого остроумно доказывал справедливость аристотелевско-птоломеевской и дантовской геоцентрической космологии и заблуждения Коперника, причем делал он это на основании теории относительности Эйнштейна, опытов Майкельсона и Морлея, математики Г.Римана и Ф.Клейна (29). Показательно, что на Флоренского в юности существенное влияние оказала личность архимандрита Серапиона (Машкина) -- экстравагантного, экзальтированного, противоречивого, страдающего алкоголизмом и помешательством религиозного деятеля, сочетавшего различные крайности: любовь к Французской революции и призывы к жесткой теократии, противостояние светским властям и апологетику тайных политических убийств и т.п. (типичный случай русского археомодерна в его клинической форме).
Фигуры Сергия Булагакова и Павла Флоренского чрезвычайно демонстративны в том смысле, что в их творческих исканиях впервые всерьез поднимается проблема совместимости русского философствования с Православием. Поэтому анализ их теорий подводит вплотную к очень важной теме: какое место православная традиция и православная догматика занимает в общей структуре русского археомодерна.
[вставить схему 6 из файла схемы4-5]
С самого начала следует подчеркнуть, что речь идет о новообрядческом Православии, то есть о той религозной форме, которая стала официальной и господствующей в Российской Империи после раскола XVII века (см. схему 6). А именно строго с этого момента и следует отсчитывать историю русского археомодерна и, соответственно, установление герменевтического эллипса с двумя фокусами.
Первые попытки философского осмысления русской православной традиции предприняли еще славянофилы. Но в их подходе Православие обобщенно воспринималось как нечто, имеющее отношение к русской самобытности, то есть к полюсу А нашего эллипса (схема 3) -- в богословские нюансы они не углублялись. Владимир Соловьев более концентрированно включился в осмысление религиозно-догматических начал христианства, но, как мы видели, не нашел ничего лучшего, чем обратиться к эйкуменическому католичеству (влияние полюса В (схема 6)). В творчестве Сергия Булгакова, принявшего в определенный момент священство, и в случае еще раньше ставшего священником отца Павла Флоренского мы видим уже серьезнейшие попытки системного осмысления православной богословской проблематики и постановку вопроса о ее отношениях как с христианской догматикой в целом, так и с современной философией и наукой.
В этой инициативе чрезвычайно важно одно обстоятельство. Находясь под влиянием софиологии и образа Софии, Булгаков и Флоренский уже в силу этого тяготели к архаическому полюсу герменевтического эллипса и, следовательно, в их теориях можно проследить то, как сам этот интуитивно обозначенный полюс проявлял себя в соприкосновении с церковной догматикой. Серьезность намерений обоих мыслителей и их несомненная богословская компетентность являются надежным основанием для того, чтобы на их примере проследить глубинные особенности самого археомодерна в его взаимодействии с православным вероучением. И тут судьбы идей и учений Булгакова и Флоренского чрезвычайно показательны и делеко выходят за границы индивидуальной судьбы философов.
Если богословские декларации Соловьева, и тем более Федорова, еще трудно рассматривать как нечто цельное и систематизированное, то взгляды двух представителей следующего поколения представляют собой намного более серьезное явление.
Булгаков и Флоренский: попытка мыслить по-русски
Сергей Булгаков и Павел Флоренский были глубоко русскими людьми, оба родом из мелкого уездного духовенства. Сергий Булгаков (1871--1944) родился на Орловщине в Ливнах, а Павел Флоренский (1882--1937) в Елизаветопольской губернии (на территории нынешнего Азербайджана). Мать Флоренского была армянкой знатного рода (Сапаровы/Сапарьян). Оба были людьми выдающегося ума и многогранных способностей, освоившими немало научных дисциплин, включая математику, экономику и т.д. Оба в течение всей жизни занимались философией, и особенно тем, что связано с религиозными и догматическими вопросами христианства.
Можно предположить, что Булгаков и Флоренский поставили перед собой задачу, развивая идеи Соловьева, которого считали своим учителем, построить нечто подобное русской философии, причем с опорой на нащупанный славянофилами и Соловьевым собственно русский полюс (фокус А (схема 3)) с сознательным отвержением и отторжением полюса западного -- как современного, так и исторического. Увлекшись в один период западными философскими теориями и даже марксизмом (Булгаков был в юности одним из ярчайших представителей радикально марксистской интеллигенции и написал ряд серьезных работ по политэкономии в социалистическом и даже коммунистическом ключе), они постепенно и сознательно от них отказались, сосредоточившись на попытках построить нечто принципиально новое, имеющее отношение к особости русской культуры и русского общества. В этом они пошли дальше Соловьева и Федорова, продолжая в той или иной степени тенденции попыток русских людей самостоятельно помыслить самих себя и осознать свое общество, свою историю, наметив их новые горизонты.
Булгаковым и Флоренским русское Православие было воспринято как та точка, которая наиболее полно представляет русскую самобытность и глубинные основы русской миссии, а, следовательно, они до определенной степени отождествили архаический полюс русскости -- фокус А (схема 6) – с православной традицией и православным богословием. В один момент Булгаков во всеуслышание объявил о том, что философия не способна дать настоящие ответы на главные вопросы и искать истины следует исключительно в лоне церковного вероучения. В согласии с этим он и принял церковный сан. Насколько это соответствует действительности, поможет понять приведенная выше схема 4.
Однако и в этом случае Булгаков и Флоренский отнюдь не довольствовались простым воспроизведением церковных канонов и догматов: они пытались их понять, осмыслить, воспринять заново, свежо и пылко, как фундаментальную жизненную и философскую программу. По сути, они опознали в Православии и православном учении ту возможность русской философии, которую мы исследуем в настоящей работе. Эта гипотеза о тождестве возможной русской философии, русского герменевтического круга с православным вероучением ими была проработана серьезно и основательно. Поэтому результаты их трудов имеют для нас колоссальное значение.
София, исихазм, имясловие
Начальным моментом в их теориях следует признать именно мысль о Софии -- софиологию. Можно даже сказать, что Православие они рассматривали через софиологию, а не наоборот. Это принципиальное обстоятельство, оно позволяет четко идентифицировать в их мотивации само архаическое начало, рвущееся на поверхность из-под стягивающих и болезненных оков имитационно европейского рационализма фокуса В (схема 4).
В центре внимания софиологов в Православии стояла неоплатонистская линия -- мистика Ареопагитик, учения отцов- каппадокийцев (св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, св. Максим Исповедник), традиция исихастов (преп. Симеон Новый Богослов), и особенно учение святого Григория Паламы о «божественных энергиях». Во всех этих разделах православного богословия софиологи выделяли идею о прямой связанности мира тварного и мира Божественного, об их неразрывном соединении, о пропитанности природы и человеческого бытия ангельскими и божественными силами. В этом и состояло ядро софиологии – идентифицировать в дольнем мире реальность присутствия мира горнего, обнаружить трансцендентность имманентного во всех окружающих вещах, вплоть до самых низких и обыденных, телесных и «профанных», и пережить ее в горячем и прямом священном (нуминозном) опыте.
Учение святого Григория Паламы, сформулировавшего основные моменты исихастской мистики, в философском плане подчеркивало наличие в Божественной Троице наряду с тремя Лицами (ипостасями) еще и неипостасных «энергий» (дословно, «действий»), которые изливаются из нее вечно – и тогда, когда Творение есть, и когда его нет. При этом их излияние не связано строго с «домостроительством» («икономией») каждого из Трех Лиц Пресвятой Троицы – с домостроительством Отца (творение), домостроительстом Сына (спасение) и домостроительством Святаго Духа (утешение, совершение), но вместе с тем соучаствуют во всех этих домостроительствах подобно тому, как и сами Лица Троицы, будучи Одним, соучаствуют в домостроительстве каждого из Них. Учение о «божественных энергиях» было разработано св. Григорием Паламой в ходе его полемики с противниками исихастской практики «умного делания» и созерцания Фаворского Света -- вначале с Варлаамом Калабрийским (учителем Петрарки, униатом и платоником, перешедшим в конце жизни в католичество и окончившим свои дни на Западе в сане епископа), позже с Акиндином и Никифором Григорой. Палама доказывал «нетварную природу» Фаворского света, открывшегося апостолам в миг Преображения Христа, и настаивал, что с помощью монашеских духовных практик – творения Исусовой молитвы, особых созерцаний, основанных на погружении ума в сердце, неподвижности – можно сподобиться видения этого Фаворского света и в наше время. После сложных и многообразных событий, разбирательств, отягощенных политическими коллизиями между двумя византийскими династиями – Кантакузинов и Палеологов – византийская Церковь признала учение Г. Паламы строго соответствующим православным догматам, а сам он после смерти был канонизирован и возведен в ранг святых; его же противники были осуждены и низложены.
В этом софиологи увидели возможность толкования Святой Софии как персонифицированого образа «божественных энергий» исихастского учения, истолковывая их как дополнительный в отношении трех основных «икономий» путь связи мира с Богом.
Учение Паламы было доведено до крайнего выражения в движении так называемых «имясловцев», начавшемся в 1907 году с публикации книги схимонаха Иллариона (в миру И. И. Домрачева) «На горах Кавказа» (30), где он описывал опыт исихастской практики и особенно акцентировал значение Молитвы Исусовой, способной творить чудеса. В своем простом и незамысловатом повествовании этот старец среди прочего утверждал, что чудодейственная сила этой молитвы состоит в том, что в «имени Божием содержится сам Бог». Эта теория была осмыслена как вероучение в Андреевском ските на Афоне схиномонахом Антонием (Булатовичем), принята многими в Пантелеймоновом монастыре и увлекла большое число русских монахов в России и, шире, представителей русской интеллигенции. Примкнули к «имясловцам» и Сергей Булгаков, и Павел Флоренский, и философ Алексей Федорович Лосев. Несмотря на то, что это учение было признано ересью, а русские монастыри на Афоне пришлось брать штурмом, чтобы искоренить его, Сергий Булгаков оставался сторонником «имясловия» еще и в 1920--30 годы (в 1953 году в Париже посмертно была издана его книга «Философия имени» (31)).
Эти богословские мотивы доведенного до своих самых радикальных выводов исихастского (паламитского) учения сопряжены с софиологией самым тесным образом. Применительно к богословской проблематике учение о Софии представляет собой последовательное стремление преодолеть ту догматическую бездну, которая конституируется в онтологии христианства догматом о «творении из ничто» и о строгой трансцендентности Бога. Этот дифференциал радикальной трансцендентности Творца в отношении твари имеет прямое отношение к структуре монотеизма как такового, а, с точки зрения Хайдеггера, она составляет суть учения Платона об идеях и главную отличительную черту западноевропейской философии, которая, двигаясь поступательно от Платона до Ницше, лишь увеличивает на каждом этапе зазор между образцом и копией (позже субъектом и объектом) и все более утверждает референциальное понимание истины. Если принять это положение Хайдеггера, то можно интепретировать софиологию как стремление выйти на путь построения философии (в данном случае, религиозной философии), который был бы отличным от главной силовой линии философии Запада. Иными словами, в софиологии мы имеем дело со стремлением опосредовать контраст между Творцом и тварью, характерный для догматического монотеизма, но вместе с тем уклониться от высокого (и все время повышающегося) дифференциала магистрального пути западной философии, наследующей этот вектор и в Новое время, хотя в ином постхристианском, буржуазно-демократическом, прогрессистском и позитивистском контексте.
На пороге русского круга
Тут мы видим уже почти осознанное и отрефлектированное стремление уйти от полюса В герменевтического эллипса, и даже, быть может, разрушить сам этот эллипс, образовав вокруг фокуса А (схема 3) самостоятельный круг автономного и самобытного русского мышления. Православная мистика и исихазм, в том числе и его крайняя форма – имясловие -- видятся софиологам как вполне подходящая для этого религиозно-догматическая платформа.
Имясловие исходит из простого богословского хода: подлинная, горячая вера в действительность трансцендентного начала (Бога) снимает его трансцендентность, преодолевает ее – на этом основании противники имясловия обвиняли его приверженцев в «пантеизме», в низведении Бога до мира и его стихии. Приблизительно те же обвинения были сформулированы и против учения о Софии в версии Сергия Булгакова, поскольку, по уверениям обвинителей, софиологи вводят в Пресвятую Троицу «четвертую ипостась» -- собственно Софию, представляющую собой нечто промежуточное между нетварным Богом и тварным миром. И обращение к этой «ипостаси» призвано снять фундаментальную модель креационистской референциальности (Творец-Творение). Отождествление имени Божьего (знака, материального – звукового – символа) с самим Богом как чудо «умного делания», свершающееся в зоне присутствия Святой Софии (имманентного присутствия Бога, по аналогии с каббалистическим учением о Шекине или с суфийскими теориями о «близости Друга»), было для софиологов важнейшим концептуальным элементом, позволяющим подобрать мыслительный код к обоснованию своей позиции в максимальном отдалении от доминирующей западноевропейской рациональности. Александр Блок, отождествивший Софию с Русью, был чрезвычайно близок к истине: в софиологии и была предпринята попытка обосновать возможность собственно русской философии с опорой на специфически истолкованное и доведенное до логических пределов (даже выходящее за них!) исихастское учение.
Здесь мы видим, что и у В. Соловьева, и у С. Булгакова, и у П. Флоренского, и у имясловцев, и у Н. Федорова интуиция фокуса А (схема 3), то есть архаического ядра, тесно и неразрывно сопряжена с идеей имманентности, с идеей инклюзии, со стремлением любой ценой и любыми средствами преодолеть разделение, заложенное в природе мышления, утвердить ту инстанцию, которая могла бы служить точкой примирения противоположностей – причем здесь и сейчас. А так как в «нормальных» условиях такого преодоления двойственности достичь нельзя, то сама философия и сама жизнь оживлялись эсхатологическими ожиданиями и предчувствиями, облеченными то в оптимизм революционного энтузиазма и веру в «прогресс» человечества, то в мрачную интерпретацию современности как Апокалипсиса – в духе «Трех разговоров» (32) позднего В. Соловьева или последней книги С. Булгакова «Апокалипсис Иоанна» (33).
Православие в его мистическом ядре видится софиологам как выражение этой имманентности, и поэтому совершенно логично они поддерживают в нем все те тенденции, которые наиболее ярко акцентируют имманентность и близость Божества к миру и человеку.
Русские вопросы
Здесь мы подходим к очень важной черте. Русская Православная Церковь и в Советской России и за рубежом отнеслась к такому толкованию Православного учения чрезвычайно настороженно, а в некоторых случаях и жестко отрицательно. Имясловцы были отлучены и, как мы видели, физически разгромлены (многие были подвергнуты тюремному заключению), а учение Сергия Булгакова о Софии было формально подвергнуто осуждению как несоответствующее догмам Церкви и истине. При этом сам Сергий Булгаков ни отлучен, ни даже запрещен в служении не был.
Это означает, что софиологи на своем пути к построению русской философии дошли до границы того, что могло быть приемлемо для Православия (по крайней мере, в его новообрядческой форме), и даже сделали несколько шагов за эту границу. Это подводит нас к важному моменту: если, отбросив многочисленные напластования археомодернистических и западнических влияний у самих софиологов (С. Булгаков в какой-то момент жизни на короткий период был увлечени католичеством, а в Париже активно занимался эйкуменическим движением, что имеет мало отношения к поиску чисто русской философии), мы сосредоточимся на их интуициях фокуса А (схема 3), то нам надо будет заново проработать вопрос о том, до какой степени и в каких формулировках архаическое начало русского мышления и потенциально выстраиваемая вокруг него русская философия соотносились бы с Русским Православием? То, что между ними есть определенная связь, несомненно. Но формализация этой связи в виде софиологических теорий показывает нам границы и пределы этого процесса и этой установки.
Сформулируем эту проблем, с учетом опыта анафематствований и отлучений софиологических и радикально-исихастских исканий, следующим образом:
- можно ли построить русскую философию на фундаменте русского православного вероучения, не заходя в зону «ереси»?
- совместима ли возможная русская философия с Православием вообще (по крайней мере, с современным Православием)?
- необходимо ли искать в дальнейшем ту структуру, которая могла бы послужить переходным модулем между интуициями русского фокуса и церковной православной догматикой?
Сам факт подобных вопросов, чрезвычайно важных для нового захода на выяснение возможности русской философии, основан на том живом и чрезвычайно важном пути, который проделали русские софиологи в своей трагической, сложной и все же чрезвычайно окрашенной археомодерном (от которого, по сути, они так и не освободились) судьбе.
Константин Леонтьев: византизм
Несколько в стороне от разбираемого нами направления в русской мысли конца XIX -- начала XX века стоит другой русский философ -- Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891). С точки зрения собственно философских и догматических проблем он существенно уступает и Соловьеву, и Булгакову, и Флоренскому, но по целому ряду параметров отличается от них в сторону большей интеллектуальной трезвости и психической уравновешенности. Впрочем, эстетизм и своеобразный дэндизм раннего периода творчества свидетельствует о том, что в определенной форме невротические расстройства были Леонтьеву далеко не чужды, хотя, по всей видимости, они были менее глубоки, чем у других русских философов, и не переходили в сферу психозов, которыми, скорее всего, страдало большинство из них (34).
Константин Леонтьев происходил из среды русского уездного дворянства, то есть был редким русским философом, принадлежащим к аристократии с обеих сторон – не бастард, не бывший крепостной и не выходец из провинциального духовенства. То есть по своим исходным сословным и социологическим характеристикам Леонтьев был изначально поставлен в зону близости к фокусу В русского герменевтического эллипса (схема 4). Ранние работы К. Леонтьева, преимущественно литературные, отличают либерально-аристократический романтизм и вольность изложения: их определенные либертарианские сюжеты послужили причиной их запрета к публикации царской цензурой.
Постепенно во взглядах К. Леонтьева происходит перелом. Свое чудесное излечение от смертельной болезни (предположительно холеры) он связывает с явлением Богородицы и по неожиданному выздоровлению твердо решает постричься в монахи, что через определенное время и происходит. В 1891 году незадолго до смерти он принимает тайный постриг в Предтечевом скиту Оптиной пустыни под именем «Климент».
К. Леонтьев, принадлежащий к поздним славянофилам, поставил перед собой задачу обосновать самобытность русской цивилизации как совершенно самостоятельного по сравнению с западной цивилизацией явления. Не углубляясь в структуру народного бессознательного и будучи относительно нечувствительным к архаической стихии, Константин Леонтьев попытался дать рациональное описание того, чем могла бы быть русская интеллектуальная и социологическая самобытность. Путь К. Леонтьева уникален тем, что на всех этапах судьбы ему свойственен определенный рационализм, который даже в период увлечения православной мистикой и становления на монашеский путь не изменяет ему, удерживая от прямого воздействия архаического полюса А (схема 4) в различных выражениях, несмотря на то, что он был лично знаком с Соловьевым и жарко спорил с ним о вере и религии.
Константин Леонтьев по своему типу более напоминает европейских консерваторов – таких, как Доносо Кортес или Морис Баррес, которые в юности активно участвовали в либерально-модернистской политике и принадлежали к революционно-романтическим кругам, а позже перешли на консервативные и контрреволюционные позиции. Леонтьев проделал сходный путь, встав на сторону самобытности русской цивилизации сознательно и рационально. Для него была кристально ясна структура западнического полюса, внятна (до определенных пределов) общая логика западноевропейской культуры, которую он не пытался «идеализовать», «перетолковать» или «усовершенствовать» (как многие другие русские философы-археомодернисты), но предложил попросту отбросить целиком, сосредоточившись на поисках собственных духовных и интеллектуальных основ русской культуры. Можно сказать, что К. Леонтьев совершает чрезвычайно важное действие: он, по сути, порывает с доминацией эллипса и предлагает сознательно и рационально (!) (без харизматического шаманского камлания) строить здание «русской философии», то есть созидать самостоятельный русский философский круг (а не эллипс). Он вкладывает в возможность русской философии, правда, обоснованной им извне, довольно поверхностно и приблизительно, всю свою веру.
Но Леонтьева с самого начала интересует не столько фиксация русского архаического фокуса А (схема 3), хотя, как мы видим, и в его жизни мистика играет значительную роль, сколько набросок периферии этого возможного русского круга, схематическое описание его общей структуры, русский контур. И в этом он обращается за поиском вдохновения не к Западу, но к Востоку, рассматривая социологическую структуру Османской империи как источник вдохновения для обоснования собственной, русской, автономной от Запада культуры. В этом Леонтьев повторяет исторический жест идеолога Ивана Грозного Ивана Пересветова, еще в XVI веке восхищавшегося османским социумом (его знаменитая формула, утверждавшая, что Руси необходима «правда турская, а вера християнская»). Леонтьев фиксирует сходство и близость имперской культуры турок с Российской империей и замечает, что, чисто теоретически вполне может существовать общество со своей социальной структурой, культурой, философской традицией и религиозными принципами, не имеющее прямых пересечений с судьбой Запада и следующее своей собственной логике. Имперская Турция, где он служил некоторое время консулом, становится для Леонтьева доказательством того, что можно создать и веками поддерживать вполне развитый и конкурентоспособный со всех точек зрения социальный порядок в полном отрыве от западноевропейской культурной традиции. Если это возможно в настоящем и было возможно в прошлом, то почему бы не взять это за образец и не построить на этом основании проект будущего социального устройства, целиком и полностью основанного на собственно русских ценностях, традициях, началах и верованиях, независимо от того, соответствуют ли они западноевропейским стандартам или нет?! По сути, К. Леонтьев призывает рассмотреть историю цивилизаций плюрально, обосновывая возможность существования нескольких параллельных историко-культурных моделей, каждая из которых проистекает из собственных источников и следует своими путями, сталкиваясь и пересекаясь, но не навязывая друг другу универсальных путей развития.
Леонтьев не особенно далеко продвинулся в том, чтобы описать, какой конкретно могла бы быть структура русской цивилизации и, соответственно, русской философии. Он лишь выделил в качестве ее основы восстановленное в своих изначальных культурных и традиционных параметрах Православие, которое он в социологическом смысле предложил отождествить с византизмом (35). В духе византизма он требовал возродить духовно нагруженное (исторической миссией) самодержавие, повысить роль Церкви и православных традиций в общественной жизни. Вместе с тем в деле отвержения Запада, и особенно присущих ему модернизационных тенденций в духе буржуазной демократии, он предлагал идти до конца – вплоть до поддержки антикапиталистических инициатив социализма, который он намеревался соединить с монархией. Такое соединение, в его случае, означало не археомодерн, но нечто, прямо противоложное ему – радикальное и последовательное отрицание западничества, выраженного в тот период главной социально-политической и философской парадигмой – либерально-демократического капитализма.
Константин Леонтьев всерьез отнесся к возможности построения самобытного русского общества за пределами тупикового патологического археомодерна и сформулировал несколько стартовых позиций, с которых он призывал эту инициативу осуществлять.
Идеи Леонтьева при его жизни, да и после его смерти, не вызвали большого энтузиазма в русском обществе и не получили должного развития. Его попытка вырваться из археомодернистского эллипса к собственно русскому герменевтическому кругу оказалась единичной и не была подхвачена никем. И тем не менее она имеет неоценимое значение. В Леонтьеве, в отличие от софиологов, нам интересны не интуиции, но вполне рациональные культурные и социо-политические утверждения и предвосхищение описания грядущего самобытного русского общества на основе вполне логических структур, хотя эта логика в корне отлична от европейской. Леонтьев не столько вскрывает бессознательное ядро (фокус А (схема 3)), сколько намечает – пусть пунктирно и фрагментарно -- контур возможной русской философии, которую он обозначает как византизм.
Вместе с тем, будучи убедительной социально-политически и заманчивой с философской точки зрения, эта инициатива ничего не сообщает нам о проблемах соотнесения возможной русской философии с догматическим содержанием православной традиции. Поэтому предложение осознанного рационального утверждения, восстановления и принятия всей полноты православной традиции и, сответственно, мистического богословия, не дает окончательного ответа на вопрос: до какой степени и в какой форме это возможно осуществить с точки зрения губинного обоснования русской самобытной идентичности. И судьба софиологов и софиологии вскрыла, сколько сложностей существует на этом пути.
Данилевский: славянский историко-культурный тип
Другим русским мыслителем, относящимся к поздним славянофилам, был Николай Яковлевич Данилевский (1822--1885). Данилевский происходил из рода высокопоставленных аристократов, его отец был генералом. Он не был профессиональным философом, уделяя преимущественное внимание естествознанию, в частности, ботанике. В своей фундаментальной работе «Россия и Европа» (36) Данилевский подходит к принципиальному положению о множественности цивилизаций или, как он выражается, «культурно-исторических типов». Выделяя западную цивилизацию и, соответственно, западноевропейскую философию в отдельный романо-германский культурно-исторический тип, Данилевский релятивизирует не только гуманитарную парадигму западной культуры, но описывает естественные науки Запада как продукт регионального, локального развития, имеющий довольно ограниченную (и отнюдь не универсальную) применимость. Это положение Данилевский подробно доказывает в своем труде, посвященном критике дарвинизма (37).
С точки зрения Данилевского, романо-германский культурно-исторический тип явлется лишь одной из возможных моделей духовного развития. Иные культуры и народы способны создать и создавали неоднократно в древности культурно-исторические типы, основанные на совершенно иных предпосылках и ценностных началах. У каждого из культурно-исторических типов есть свой ограниченный географический ареал распространения и свой отпущенный историей временной цикл, в рамках которого этот тип развивается. Поэтому вместо идеи всеобщего однонаправленного прогресса необходимо перейти к циклическому пониманию истории и измерять ее серией локальных циклов, сосуществующих рядом друг с другом и подчас взаимодействующих между собой. Прообраз такого подхода можно увидеть в работах итальянского философа и историка Джамбатиста Вико (1668 – 1744), а спустя два столетия очень сходные теории сформулируют немецкий философ Освальд Шпенглер в своей знаменитой работе «Закат Европы» (38) и вслед за ним английский историк Арнольд Тойнби (39).
Подход, предложенный Данилевским применительно к нашим схемам (схема 1 и схема 3), может способствовать ясному выделению в герменевтическом эллипсе западноевропейского герменевтического круга -- не как органической части эллипса, а как внешней, посторонней, чужеродной структуры, которую можно изолировать, отделить и поместить в соответствующий ей романо-германский контекст. Иными словами, западноевропейский герменевтический круг как романо-германский культурно-исторический тип может быть рассмотрен как одна из возможных (и действительных) версий философии наряду с другими.
В качестве действительных и состоявшихся в истории Данилевский называл 10 культурно-исторических типов. Девять из них относились к иным духовным формам и имели отличное от европейского культурного типа самобытное устройство, доказывая тем самым необходимость плюрального понимания культуры и цивилизации. В разные исторические моменты каждый из культурно-исторических типов пребывает в различных фазах исторического развития, поэтому некоторые из них исчезли, некоторые продолжают существовать, одни находятся на подъеме, другие в упадке. Кроме того, помимо действительных, уже сложившихся и состоявшихся культурно-исторических типов вполне могут возникнуть и развиться новые образования. Так, Данилевский полагал, что на наших глазах формируется новый культурно-исторический тип с центром в России, который он назвал «славянским.
Таким образом, Данилевский совершил важнейшее открытие: он социологически обосновал возможность русской философии на основе славянского языка и особых культурных ценностей, которые, в отличие от иных культурно-исторических типов, еще не получили полного и окончательного оформления и пребывали в эмбриональном состоянии. Данилевский не уточняет детально, какова структура свлянского культурно-исторического типа, ограничиваясь лишь общими описаниями. Но с философской точки зрения он делает чрезвычайно много, позволяя идентифицировать романо-германский культурный тип как герменевтический круг, искусственно, насильственно и извне наложенный на русское общество и навязанный ему в качестве «универсального», в то время как на самом деле он является продуктом географически внешней и темпорально ограниченной структуры. Иными словами, теория Данилевского описывает ту методологию, на использовании которой должна была бы основываться конструкция грядущего славянского культурного типа, взятая как проект, осуществление которого невозможно без предварительного освобождения от необоснованных претензий западничества на универсальность, то есть без освобождения России от Европы и европейского влияния.
Непроработанность темы положительного содержания славянского культурно-исторического типа и приблизительность формулировок отнюдь не умаляют значения идей Данилевского: по его же собственному убеждению в случае славянского культурно-исторического типа мы имеем дело не с чем-то уже существующим, законченным и состоявшимся, но только с начальной стадией процесса его становления, который может пойти по самым разным траекториям. Если и можно что-то сказать о корнях и семенах этого созидающегося здания (а к нему относится, безусловно, Православие, характерные черты русского народного быта и определенные вехи в истории – например, многовековая борьба против Европы и идущей от нее военной, политической и культурной агрессии), то о самом зарождающемся явлении ничего определенного утверждать невозможно. Иными словами, Данилевский очерчивает нам социологическое поле для возникновения русской философии и этим ограничивается, не уточняя содержания и структуры этого явления, так как речь пока лишь идет об обосновании возможности. И с этой (социологической) задачей Данилевский прекрасно справляется.
С философской точки зрения теории Данилевского имеют еще и ту ценность, что позволяют строго идентифицировать в комплексе археомодерна собственно западную составляющую и вынести её за скобки. В парадигмальной схеме герменевтического эллипса (схемы 1, 3, 4) это можно истолковать как призыв к извлечению из структуры одного из фокусов – фокуса В. Это, по замыслу Данилевского, должно естественным образом привести к нормализации герменевтической ситуации и постепенному созданию органического русского герменевтического круга вокруг фокуса А, на который не будет более оказываться искусственного давления со стороны второго фокуса, что, собственно, и превращает круг в эллипс.
Данилевский, как и Леонтьев, не вникает в сущность полюса А интуитивно, не дает в своих трудах воли архаическому началу, но описывает возможность русской философии извне, социологически.
В целом, Леонтьев и Данилевский, наверное, ближе других русских мыслителей подошли к демонтажу археомодерна, изложили условия и описали методики этого демонтажа, указали на историко-социологический и культурный контекст, в котором его следует производить, и сформулировали начальные установки (граничные условия и предварительные гипотезы) относительно того, какие ценностные ориентиры должны быть заложены в основание органичного русского герменевтического круга.
Евразийцы и русское дело
Следующим этапом, продолжающим традицию Леонтьева и Данилевского, были работы русских евразийцев 1920-х--30-х годов -- Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, Н.Н. Алексеева, Г.В. Вернадского, В.И. Ильина, П.П. Сувчинского, Э. Хара-Давана, Я.А. Бромберга и т.д.). Среди евразийцев, кроме последователя В. Соловьева и неоплатоника Льва Карсавина (1982--1952) и эпизодически публиковавшегося в изданиях евразийцев С.Л.Франка (также вдохновлявшегося идеей Соловьева о «всеединстве» и неоплатонизмом Н.Кузанского), не было философов, но все они так или иначе внесли свой вклад в прояснение вопроса о возможности русской философии.
Евразийцы развили подход Леонтьева и Данилевского, возведя концепцию России как самостоятельный цивилизации в социально-политический и мировоззренческий догмат. Этот смысл они и вкладывали в понятие «Россия-Евразия», которое служило для того, чтобы подчеркнуть, что Россию следует понимать именно в этом цивилизационном смысле. В нашей схеме 1 это соответствует призыву к построению чисто русского круга вокруг фокуса А.
Продолжая тюркофилию Леонтьева и противостояние западническому подходу славянофилов, евразийцы стремились отодвинуть Россию дальше к Востоку (манифест евразийцев, написанный премущественно П.Савицким, так и назывался -- «Исход к Востоку» (40), а главная книга основателя евразийства Н.С.Трубецкого – «Наследие Чингисхана» (41)) и переосмыслить значение контактов России с Азией и, в первую очередь, роль монгольских завоеваний в русской истории. Основываясь на концепции множественности культурно-исторических типов Данилевского, евразийцы выделили еще один – «туранский» -- культурно-исторический тип, характерный для кочевых евразийских империй (от скифов и сарматов до тюрок и монголов) и показали его влияние на русскую культуру и особенно на социо-политические и стратегические особенности Московской Руси, заимствовавшей от империи Чингисхана важнейшие навыки имперостроительства и ряд особых социологических черт. Если для западников эти черты были аргументами для объяснения «отсталости» России от Запада, то евразийцы претолковали их как признаки особенности русской цивилизации, которых незачем стесняться и которые не следует преодолевать. С их точки зрения, влияние кочевых обществ Великой Степи на русский народ и русское общество было более положительным, чем европейское влияние. Альянс с Ордой Александра Невского способствовал сохранению России от воинственного католичества, объявившего в XIII веке крестовый поход против «восточных схизматиков». При этом «Яса» Чингисхана практиковала религиозную терпимость, что позволило Восточной Руси сохранить религиозную и культурную самобытность, тогда как русские в Литве, а затем и в Польско-Литовском королевстве оказались под удушающим религиозно-культурным гнетом и были постепенно превращены в людей второго сорта в силу конфессиональной принадлежности к Православию.
Ордынцы заложили в русских волю к централизации политической власти, воинственную степную этику, вкус к созданию гигантских континентальных государственных образований. Русские переняли у монголов эстафету Турана и после того, как Орда ослабла и рухнула, объединили всю Северо-Восточную Евразию под своим началом, восстановив геополитическое единство туранских территорий.
Однако острие евразийского мировоззрения было направлено не столько на позитивную переоценку культур Востока и вклада степных народов в русскую историю, сколько на обоснование возможности для России самобытного пути развития, на утверждение ее цивилизационной особости по сравнению с романо-германским миром, на критику европейского универсализма. Кроме того, евразийцы переосмыслили Октябрьскую революцию 1917 года, распознав в большевиках не просто «заговорщиков» и «разрушителей», но выразителей определенных настроений русского народа, который поддержал новую власть, надеясь с ее помощью свергнуть прозападную (археомодернистскую) монархию, которую евразийцы полемически называли не иначе как «романо-германским игом», воцарившимся в России начиная с Петра I. По мнению П.Савицкого, русским суждено возглавить всемирное движение против европейского империализма – силового, колониального, ценностного, культурного, экономического и т.д., и повести культуры и цивилизации против тех, кто стремится навязать всему миру локальные критерии и оценки в качестве «универсальных» и «всеобщих». В этом состоит всемирно-историческая миссия русских, русское дело. Именно на этих струнах русской души, по убеждению евразийцев, и играли большевики с их «интернационализмом», «мировой революцией» и «антиимпериализмом».
Как и в случае с Леонтьевым и Данилевским, мы не встречаем у евразийцев прорывов и прозрений непосредственно в вопросе о возможности русской философии. Но они существенно расширили и фундаментализировали социологический, исторический, культурный, мировоззренческий, политологический и геополитический контексты, в рамках которых эта возможность могла бы быть обоснована и доказана. Они проделали колоссальную подготовительную работу, направленную на демонтаж археомодерна и западничества в русском обществе и на выход к созидательной философской деятельности. Но самой этой деятельности они не произвели, остановившись лишь на подходах к ней. Это объясняется и сложными политическими условиями проживания в эмиграции, и проблемой установления в России тоталитарного большевистского режима, и тем, что археомодерн все еще сохранял свое влияние на русских интеллектуалов, заставляя их в сложных ситуациях вновь попадаться в ловушку западничества, страшась непростых перспектив порождения того, чего никогда, строго говоря, не существовало – аутентичной русской философии и русской культуры.
Так, в определенный момент внутреннего евразийского раскола основатель движения лингвист Н.С.Трубецкой под влиянием трудностей, с которыми сталкивалось евразийство, стал высказываться том духе, что русская культура все же остается в рамках западноевропейской и никак не восточной традиции (любопытно, что его оценки индийской религии представляют собой типичную евроцентричную карикатуру (43)). Протоиерей Георгий Флоровский покинул с критикой ряды евразийцев во имя «чистоты Православия», покаявшись в «евразийском соблазне» (44), и закончил свой путь довольно невнятной работой о «Путях русского богословия» (45) и участием в эйкуменическом движении. А парижские евразийцы (П.П. Сувчинский, С.Я. Ефрон и примкнувший к ним на определенном этапе Л. П. Карсавин) в 1930-е годы слишком сблизились с большевизмом и попытались взять идеи Николая Федорова в качестве суррогата евразийской философии. Все эти признаки очевидного археомодерна не умаляют значения евразийского движения для разбираемой нами темы. Их идейный курс был последовательным и чрезвычайно ценным, направленным на создание предпосылок для обоснования возможности русского герменевтического круга и расчищения завалов последних столетий русской истории, включая современные им противоречия советского периода.
Петр Чаадаев: философия как русофобская практика
Рассмотрим бегло мыслителей противоположного лагеря – русских западников.
Яснее всего излагает «смердяковскую» программу русского западничества П. Чаадаев в «Философических письмах» (46). Чаадаев удивительно проницателен в своем описании археомодерна, и то, что он разносит его вдребезги, опираясь на Европу как на образец и эталон, не умаляет значения его анализа. Если постоянно держать в уме «русофобскую» интенцию автора, его преклонение перед Западом в качестве исходной прозиции и не обращать на это внимания, то картина русского общества, нарисованная Чаадаевым, будет чрезвычайно точной. Вот, например, чаадаевский пассаж о русской философии:
«Первобытные народы Европы, кельты, скандинавы, германцы, имели своих друидов, своих скальдов, своих бардов, которые на свой лад были сильными мыслителями. Взгляните на народы северной Америки, которых искореняет с таким усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов: среди них имеются люди, удивительные по глубине. А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?»(47)
Если понять этот пасаж буквально, то он будет представлять собой малообоснованное утверждение, что у русских не было культуры, что они не способны думать, причем не просто в сравнении с европейцами, но даже в сравенении с северо-американскими индейцами! Но за «смердяковщиной» проглядывает точное наблюдение. Стоит только заменить слово «думать» на слово «философствовать» -- и Чаадаев будет совершенно прав (однако, пример с северо-американскими индейцами в любом случае будет явно неудачным: у индейцев есть культура, мифы, мышление, но у них нет философии). «А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал (философствовал – А.Д), кто за нас думает (философствует – А.Д.) теперь?» И в такой форме это замечание правомерно. Показательно, что сам Чаадаев называет свой текст «Философическими письмами»: перед нами попытка русских начать философствовать после того, как обнаружено отсутствие в прошлом философской традиции.
То, что было раньше, Чаадаев распознает как неудачную «имитацию Запада»:
«То, что у других народов является просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т.е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их. Таковы же и мы». (48)
Таким образом, русская культура, по Чаадаеву, «всецело заимствованная и подражательная». При этом Чаадаев сетует не на то, что она была навязана русским, но на то, что она не проникла вглубь, не была ассимилирована должным образом, не стала для русских своим, не пустила корни вглубь общества.
И самое главное в этом отрывке. «У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса», -- жалуется Чаадаев и попадает точно в цель. Описанная им картина и есть яркое описание того саботажа, который осуществляет архаический полюс по отношению к полюсу Модерна, к полюсу «прогресса» и «развития». Именно этот полюс – полюс A (схема 4) – и ответственен за то, что западное влияние не затрагивает глубины народной души, не проникает дальше самого поверхностного пласта, не вызывая ни ответственности, ни верности, ни понимания идей, теорий, концепций, учений.
И далее:
«(…)Очевидно, что на душу каждой отдельной личности из народа должно сильно влиять столь странное положение, когда парод этот не в силах сосредоточить своей мысли на каком-то ряде идей, которые постепенно развертывались бы в обществе и понемногу вытекали одна из другой, когда все его участие в общем движении человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому подражанию другим народам. Вот почему, как Вы можете заметить, всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения, парализуются в нашем мозгу». (49)
«Силлогизм Запада нам не знаком», а «лучшие идеи (имеется в виду идеи Запада – А.Д.) … парализуются в нашем мозгу». Все верно. Глядя с позиций некоего «совершенного» европейца, проникшего, в отличие от остальных русских, в суть европейского духа, в его «силлогизм», и получившего возможность созерцать этот дух без искажений, П. Чаадаев действительно начинает «философствовать» и его письма, действительно, заслуживают название «философических». Но это философия относится к европейскому герменевтическому кругу, это -- что угодно, но только не русская философия. Это нерусская философия и в его случае – философия откровенно русофобская. Закономерно, что Чаадаева раздражает в русском народе все, даже внешность:
«Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц». (50)
«Немота русских лиц» возникает от того, что Чаадаев не находит в них чего-то, что было бы созвучно европейской истории, европейскому логосу, европейской философии. В этих лицах нет западного дискурса. «А раз нет западного дискурса, -- делает вывод Чаадаев, -- то нет и никакого другого».
П. Чаадаев ясно понимает, что Россия пребывает вне истории (здесь снова следует вспомнить обоснованную М. Хайдеггером связь между историей и историей философии, составляющих для людей Запада строго одно целое).
«Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили».(50-1)
И снова удивительно проницательное замечание. Чаадаев видит, что русские уклоняются от истории, то есть от времени, и тяготеют, скорее к пространству, « раскинувшись между двух великих делений мира». В этом он видит злой рок России. Мы же увидим позднее, что эти же качества и нераспространение на нас «всеобщего закона человечества» могут быть интерпретированы совершенно в иных тонах и нагружены совершенно иным смыслом.
В любом случае, Чаадаев откровенно и кристально четко определяет то направление, по которому следует идти русским, если они хотят заниматься именно философией, а не плутать в археомодернистских тупиках. Это направление связано с вхождением в европейский герменевтический круг и поиском в нем своего индивидуального места. Этот маршрут закономерен, но представляет собой нечто иное, нежели русская философия. Несовместимость русскости и философичности сам Чаадаев демонстрирует предельно убедительно: чтобы философствовать, надо победить русскость, в первую очередь, в самом себе, и тем самым осуществить акт духовной эмиграции, переместиться душой в Европу, на «родину силлогизма». Философия – это не здесь. «Русская философия» есть эвфемизм или нонсенс. «Либо философия, либо Россия», -- ставит дилемму Чаадаев, и выбирает философию. Он имеет на это все основания.
В принципе, для нашего исследования позиция Чаадаева чрезвычайно конструктивна, так как своим откровенным западничеством и русофобией она обнаруживает археомодерн, размыкает его и даже частично преодолевает в направлении фокуса B и далее – к самому центру европейского герменевтического круга, находящегося вне России.
«Туда, туда, на запад…»
Философскую духовную эмиграцию Чаадаева развил и воплотил в поэзию и личную судьбу еще более крайний западник, представляющий собой идеальный архетип для всего этого направления -- Владимир Сергеевич Печерин (1807–1885). Печерин был западником с самой ранней юности. Вот как писал он об этом сам в переписке с Федором Васильевичем Чижовым:
«С самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам, какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду, в степях южной России я часто следил за заходящим солнцем, бросался на колени и простирал к нему руки: «Туда, туда, на запад...» (51)
Печерин закончил свою жизнь в полном соответствии с этим стремлением. Он эмигрировал в Ирландию (самую западную часть Европы!), принял католичество и стал католическим священником. Ему принадлежат (не опубликованные при жизни) стихотворные строки, резюмирующие «смердяковскую» повестку дня:
«Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать её уничтоженья.
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!» (52)
Умеренные западники
Столь чистые случаи радикального и ответственного выбора исключительно западнической парадигмы (вплоть до эмиграции и полной смены идентичности, включая религиозную) в русской истории чрезвычайно редки и, как правило, большинство русских западников -- П. В. Анненков, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин, Н. П. Огарёв, И.С.Тургенев и т.д. – оставались в рамках археомодерна, время от времени впадая в «патриотические чувства» или просто соскальзывая в архаическую невнятность. Эта тенденция явственно просматривается и у либералов (таких, как Кавелин), и у революционных демократов (таких, как Герцен и Огарев), в разных контекстах и при разных обстоятельствах ощущавших свое отличие от европейского культурно-исторического типа и сбивавшихся на противоречивые и маловразумительные формы изложения своих позиций. Археомодернистический характер спора западников со славянофилов однажды довольно тонко подметил Герцен, указав на структуру герменевтического эллипса:
«Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинаковая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчётное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей всё существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орёл, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». (53)
Как русские славянофилы не могли до конца порвать с западничеством и приступить к полноценному строительству русской философии, так и русские западники были не в силах проследовать логичным (русофобским) маршрутом Чаадаева-Печерина и попытаться адаптироваться к «новой родине», где и лежали ключи к европейской культуре и философии, от имени которой они пытались выступать в России и по образцу которой они собирались ее переделать. Эта невнятность вполне объясняется доминантой герменевтического эллипса, но от этого труды русских интеллектуалов – как относительных западников, так и относительных славянофилов – не становятся более содержательными. И те и другие зависают где-то на полдороге, чтобы сказать или сделать что-то внятное, определенное, последовательное. «Сердце» в приведенном пассаже Герцена можно сопоставить с фокусом А, но на него-то как раз в должной мере не обращали внимания ни славнофилы, ни западники. Славянофилы лишь декларировали свои намерения идти в этом направлении, но не отваживались совершить решающий жест и погрузиться внутрь себя -- в сердечную область России. В то же время западники, выбирая ориентиром ум, «прогресс», рассудок, науку, «просвещение» и философию, в свою очередь, были привязаны к русской сердечности наподобие якоря. По сравнению со Смердяковым, П. Чаадаевым и В. Печериным русские западники, отмеченные искренней любовью к народу и его традициям, морально выигрывали, но в то же время с технической точки зрения они только запутывали общую картину, тогда как радикальные и почти карикатурные западники, напротив, помогали справиться с болезненным тупиком археомодерна.
Русский «Lebenswelt» Василия Розанова
Василий Розанов стоит среди других русских мыслителей особняком. В определенном смысле он является самым русским из них, а, следовательно, находится ближе всего к самому архаическому полюсу. Розанов знает Запад и европейскую культуру, понимает их, и целиком и полностью отвергает – сознательно и радикально. В этом он идет по стезям славянофилов, и особенно Констатина Леонтьева, которого он ценил, пожалуй, выше других. И хотя В. Розанов, будучи философом, законченной философии не создал, его интуиции, прозрения, откровения ближе всего к тому, чтобы доказать, что русская философия возможна, то есть ближе всего к этой философии. Сам Розанов ее не создает, но он приближается вплотную к ее обоснованию, стоит на грани, предчувствует ее скорую возможность. Это предчувствие обрывочно и предварительно, но в некоторых моментах -- бездонно глубоко.
Сам метод философствования у Розанова в определенных моментах предвосхищает экзистенциализм Хайдеггера. Он отбрасывает западную «метафизику» с порога (в отличие от Хайдеггера, правда, совершенно не разобравшись в ней, что не принципиально) и обращается к тому, что представляется ему безусловным, наглядным, наличествующим. Метафизика Нового времени превратила мир в механизм:
«Декартовская мерзость: животное есть машина, а человек есть мыслящий дух, cogito ergo sum – эта типичная католическая и даже вообще христианская гадость – проникает всю европейскую цивилизацию». (54)
Но зоологический подход материалистов и сторонников эволюции нисколько не близок Розанову.
«Дарвин не заметил, что у природы блестят глаза. Он сделал ее матовой. Она у него вся матовая, без масла и сока. А сок есть.
Природа с потухшими глазам. Бррр…
Он дал пакость, а не зоологию.
«Музыки не надо, есть граммофон»: вот дарвинизм и история дарвинизма.»(55)
Европейская цивилизация, особенно современная, ненавистна Розанову вся целиком. Вот как он понимает ее основные истины:
«Человек происходит от обезьяны.
Атомы. И они движутся. Вот и все.
Кусочки и их движения. Такова космология. Где тут родиться нежному.
Где же тут остаться нежному.
Человек -- скотина. А я да ты две скотины.
Система скотских отношений -- социология ( Конт, Спенсер)
Мир вообще свиньи. Все они должны быть сыты.
А «сытость» мировая проблема (социализм).
Скажите, пожалуйста, где тут остаться «священному» (…)». (56)
Концентрация Запада – его философия, представляющая собой
сплошное «сужение»:
«Все определение есть сужение (философия).
И определять не нужно.
Пусть будет мир неопределен.
Пусть он будет свободен.
……
……
……
Вот начало хаоса. Он так же необходим, как разум и совесть».(57)
И напротив:
«На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения. Не две и не три: а тысячу. Это – "координаты действительности ". И действительность только через 1000 точек на нее зрения и определяется».(58)
«Координаты действительности» -- это попытка схватить окружающий мир и свое собственное бытие в экзистенциальном моменте их феноменологического обнаружения – по ту сторону отвлеченных нормативных предписаний. Розанов стремится передать эти координаты максимально точно – ценой любых жертв, в первую очередь, жертвы рассудочностью, логичностью, последовательностью, соответствием стандартам «образованности» и «просвещенности».
«К черту ratio! Я хочу кашу с трюфелями. А на рай потому и надеюсь, потому что всеконечно признаю и утверждаю ад.»(59)
На пике отвержения ratio Розанов достигает настоящих пророческих вершин – его мысль подходит к границам мыслимого:
«Первый из людей и ангелов -- я увидел границу его. А увидеть грани, границы — значит увидеть небожественность».
«Первый я увидел его небожественность. И не сошел с ума. Как я не сошел с ума? А, может быть, я и сошел с ума.»(60)
Поразительно, но у В. Розанова есть множество ссылок именно на археомодерн; он тонко чувствует его, он переживает его, он страдает от него.
«Россия -- страна, где все соскочили со своей оси. И пытаются вскочить на чужую ось, иногда – на несколько чужих осей. И расквашивают нос, и делают нашу бедную Россию безобразной и несчастной.
Следы и последствия 200 лет “подражательной цивилизации”.»(60-1)
Вместо этого Розанов формулирует для русских свое послание:
«Вот что, русский человек: вращайся около своей оси.
Той, на которую ты насажен рождением. На которую насажен Провидением.
Где у тебя “Судьба”.
Не рассеивайся. Сосредотачивайся. Думай о “своем” и “себе”.
Даже если у тебя судьба к “Рассеянности” – ну, и не сдерживайся – “будь рассеян во всем”. Тогда выйдет ясность. Будет ясен человек и ясна жизнь. А то – сумерки и путаница. Ничего не видно. У нас ведь как: рассеянный-то человек и играет роль сосредоточенного, угрюмый – весельчака, пустозвон обычно играет роль политика. Все краски смешаны, цвета пестры и ничего не разберешь.
Пусть будет разврат развратищем, легкомыслие – легкомыслием, пусть вещи вернутся каждая к своему стилю. А то вся жизнь стала притворна и обманна».(60-2)
Стремление Розанова к феноменологии и заставляет его сконцентрироваться на русском, так как в окружающем его мире есть только русское, хотя и основательно загаженное археомодерном (смесью русского с нерусским).
Розанов почти нащупывает русский дазайн и проникает в его суть. Некоторые его формулы могут быть признаны каноническими в определении русского Начала:
«Русским вообще ничего НЕ НУЖНО». (61)
Показательно, что в его текстах огромную роль играют материальные предметы и продукты питания. Он гениально провидит связь еды с русским Началом:
«Что же русский человек: покушал, заснул. И совсем незачем было сюда прибавлять “промышленность и торговлю”».(62)
Обильно вводя в философскую публицистику тему снеди, он вскрывает фундаментальную сторону русского «жизненного мира», в котором пища играет роль особого языка, подчас более внятного, нежели собственно вербальные конструкции. В течение всей жизни Розанов проявляет постоянную озабоченность едой и с фатальной закономерностью, умирая, мучается от голода. На последних страницах предсмертной книги «Апокалипсис нашего времени» Розанов пишет:
« Впечатления еды теперь главное. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек...» (63)
А в последних письмах к Д.Мережковскому и З.Гиппиус совсем пронзительно и отчаянно:
«Пирожка бы... Творожка бы...»(64)
Это не ситуативное высказывание, в этом весь Розанов. Откровенно и искренне он описывает русский «жизненный мир» до его исподнего – до фундаментальной эсхатологической апокалиптической философии материи.
Розанов бредит и делает это обаятельно, естественно и эстетично, не таясь того, что делает. Все основные мотивы творчества Розанова ( русскость, антирационализм, еда, сон, божественность мира, и главное – хаос) мы встретим в следующем разделе книги, где будем анализировать структуры русского дазайна.
Дмитрий Мережковский: третий завет и две бездны
Показателен случай друга Розанова – философа, историка и писателя Дмитрия Мережковского.
Как и все проницательные русские того времени, Д. Мережковский остро осознает, что происходит «что-то не то», но не может понять, что именно. Пытаясь рационализировать археомодернистский русский невроз, он создает (имеющую мало отношения к западноевропейской философии, но «много» отношения к структуре русской культурной патологии) теорию «двух бездн» и претендующую на их преодоление концепцию «третьего завета» («новое христианство»). Одной «бездной» Мережковский называет «языческую систему плоти», а другой -- «спиритуалистическую бездну духа, сознания». Между ними идет извечная борьба. И смысл этой борьбы -- чтобы обе бездны были преодолены в особом диалектическом моменте синтеза, когда реализуется «третий завет»(65).
Оставив в стороне высокопарные обобщения, пародирующие одновременно рационалистическую западноевропейскую философию XIX века и гностическую мистику, можно легко распознать в конструкции Мережковского указания на все тот же герменевтический эллипс. Мережковский (как и Розанов) чувствует, что его фокусы болезненно несводимы друг к другу: фокус А (схема 1) он переживает как «язычество» и «плоть», «русскую плоть», а фокус В (схема 1) – как «дух», «европейский дух». Но как и Соловьев с его «всеединством» и софиологическим универсализмом, выраженном в теократической универсалистской утопии, он тщится примирить их между собой. Понимая, что это невозможно сделать в настоящем, Мережковский относит вожделенный миг «излечения» от раскола в мессианское будущее.
Важно, что и у Мережковского, и у Розанова, и у софиологов архаический, собственно русский полюс интуитивно воспринимается как «плоть», «язычество», «материя» «субстанция». Таково в целом психотическое отношение западнических элит к автохтонным славянским массам: их бытие – «там, внизу», во «тьме» невежества и непросвещенности, в обстановке пережитков, предрассудков и темных легенд -- воспринимается как нечто «низменное», «материальное», «телесное», чего следует стесняться, но что одновременно фатально и непреоборимо притягивает к себе, как страсть, половое влечение или еда.
Иван Ильин: русский патриотизм на прусский манер
В философе Иване Ильине мы встречаемся с почти карикатурной попыткой создания бравурной версии русского национализма, успешно обходящей все сколько-нибудь важные и существенные темы, принципиальные для выяснения возможности русской философии, и подменяющей вопрошание и выявление болевых точек потоком право-консервативного сознания, копирующего клише европейского национализма применительно к русскому обществу. Такого общества, о котором пишет Иван Ильин, находясь в эмиграции, никогда не существовало, не существует и не может существовать: речь идет о нормативной пруссаческой грезе, желающей представить Россию четко работающим социальным механизмом германского типа – с отлаженной моралью, звонким официозным патриотизмом, конвенциальной религиозностью и психической упорядоченностью. В результате такой конструкции из поля зрения Ильина выпадает все сколько-нибудь значимое для России содержание – здесь ничего не сообщается ни о западническом полюсе, фокусе В (который с порога отметается как несуществующий), ни о специфике архаического полюса, ни о фокусе А (который вообще оставляется без внимания), ни о герменевтическом эллипсе, который должен был бы у всякого нормального русского человека вызывать, как минимум, гнетущее беспокойство (у Ильина он почему-то ничего не вызывает). Своим невежественным апломбом и казенным «национализмом» И. Ильин, возможно, обязан матери-немке Каролине Луизе Швейкерт фон Штадион.
Свои философские тексты И. Ильин строит в духе персонажа повести Н.С.Лескова «Железная воля» (66) Гуго Карловича Пекторалиса, «выписанного в Россию вместе с машинами». В них есть «железная воля» борьбы с коммунизмом до последнего дыхания, без какого бы то ни было понимания как природы советского режима, так и причин, приведших к падению монархии и к Октябрьской революции, равно как и понимания структуры русского общества. И. Ильин «аккуратно и бесталанно» (словами Н. С. Лескова о Гуго Пекторалисе), механически воспроизводит русский национализм, патриотизм и бравый монархизм, умудряясь пройти мимо всех содержательных сторон русской истории, которая осуществляется на его глазах, при его участии и с его помощью. Так как в таком чисто немецком казенном мышлении нет ничего русского, мы без большого ущерба оставляем его тексты и теории без рассмотрения.
Подытожить обзор русских мыслителей можно на уже приводившейся обобщающей схеме 5.
Глава 4. Как философствуют серпом и молотом
Три особенности марксизма: европеизм, универсализм, революционность (критика)
Перейдем к теме советско-марксистcкой философии.
Прежде чем соотнести марксизм с его историей в русско-советском обществе, надо высказать некоторые преварительные соображения. 1. Исторически и географически марксизм является органической частью западноевропейской философии, базируется на ее предпосылках и развивает ее фундаментальные основания и методы. Маркс и Энгельс жили и мыслили в Западной Европе XIX века, осознавая себя закономерными наследниками европейской интеллектуальной и социально-политической истории. К. Маркс был учеником Г.Ф. Гегеля, философия которого фундаментально повлияла на его мировоззрение и структуру его мысли. К. Маркс и Ф. Энгельс создавали свое политическое и философское учение применительно к Западной Европе и именно ее рассматривали как историческую арену, на которой суждено было реализоваться их революционным пророчествам – в том числе социалистическим революциям, откуда они должны были, по мысли авторов, перекинуться на весь остальной мир по мере его естественного исторического и социально-политического развития.
2. Будучи органической частью западноевропейской философии, марксизм в полной мере впитал в себя присущий ей европоцентризм, рассматривающий европейскую историю и основные этапы ее экономического, политического и социального развития как универсальный путь, по которому суждено пройти всем остальным народам и культурам. Западноевропейский культурный круг сами европейцы традиционно рассматривали как нечто универсальное и всеобщее, а отличие других незападных культур от западной считали не просто инаковостью и особостью, но историческим отставанием, недоразвитостью, задержкой на предыдущем этапе исторического развития. Европейскую судьбу западная философия рассматривает как судьбу человечества как такового, как всеобщую мировую судьбу. Марксизму эти свойства западноевропейской ментальности присущи в полной мере, и именно в духе такой философской герменевтики Маркс и Энгельс отождествляли описанную ими схему развития, приблизительно соответствующую этапам западноевропейской истории, с однонаправленной и всеобщей логикой социально-экономического, политического и культурного развития всего человечества. Строго в духе европоцентризма Маркс считал невозможным осуществление социалистических революций нигде, кроме Европы, так как именно в Европе капитализм и свойственные ему процессы достигли своего пика, а социалистические революции могли осуществиться только в высокоразвитых капиталистических странах с мощным городским пролетариатом. По этой причине Маркс отрицал саму возможность пролетарской социалистической революции в России, бывшей в XIX веке аграрной полукапиталистической страной: по меньшей мере, она была невозможна до того момента, как соответствующие революции произошли бы в более развитых европейских странах – Германии, Англии, Франции и т.д. Вместе с тем, Маркс полагал, что все общества, расположенные вне Европы, рано или поздно повторят европейский путь. Следовательно, реализацию коммунистических проектов Маркс связывал исключительно с европейским будущим, вытекающим из европейского же прошлого. И во всем этом он, вслед за Гегелем, видел универсальный характер – в той мере, в которой европейское человечество было историческим выражением всего человечества. Как Европа принесла всему миру капитализм (в том числе через колонизацию), так она была призвана принести ему в будущем коммунизм (через социальный прогресс и мировую революцию).
3. Марксизм был критической философской теорией, подвергающей социальное, экономическое, политическое устройство капиталистического западноевропейского мира нещадному разоблачению. Признавая судьбоносность западной истории и философии, Маркс призывал к перевороту, к опрокидыванию их основных закономерностей и внутренних смыслов. Но эта перевернутая картина тем не менее сохраняла – хотя и с обратным знаком – структуру западноевропейского герменевтического круга. Западу в его настоящем состоянии (капитализм, буржуазные отношения) марксизм противопоставлял Запад будущего, который надо было построить на основании альтернативных принципов –диктатуры пролетариата, обобществления средств производства и, наконец, бесклассового общества и т.д. Если вся история Запада, согласно Марксу, была процессом нарастающего обострения классовых противоречий и путем к экзальтации классовой борьбы вплоть до ее кульминации в капитализме, то будущее связывалось с переворотом всех пропорций и «концом истории». При этом судьба Запада (и соответственно, судьба человечества), по Марксу, состояла в движении общества к финальному идеалу коммунизма через строго необходимые фазы развития – «экономические формации» (общинно-родовой, рабовладельческий, феодальный и капиталистический строй). В «Манифесте Коммунистичсекой партии» (67) Маркс и Энгельс подчеркивают, что их антикапитализм стоит слева от капитализма, со стороны будущего, а не справа, со стороны феодального и реакционного прошлого. И авторы Манифеста тщательно перечисляют, с какими формами социализма им не по пути: это реакционный социализм (в том числе, феодальный, мелкобуржуазный и немецкий), буржуазный социализм, утопический социализм.
Эти особенности марксизма объясняют и то, что, марксизм, являясь органической частью западной философии и продуктом западноевропейской социальной истории, может быть корректно интерпретирован только и исключительно в контексте соответствующего герменевтического круга. И тот факт, что марксизм пользовался большой популярностью вне этого круга, объясняется тем, что в нем была заложена критика этого самого круга – причем фундаментальная и подчас чрезвычайно глубокая, вплоть до его оснований. Марксизм был формой западной философии, ориентированной против главных тенденций этой философии. Марксизм мыслил себя как предельную форму западноевропейской истории и одновременно как ее преодоление, как «конец истории». У Гегеля идея «конца истории» как ее завершения и преодоления была выражена иначе -- а именно, в идеале прусской монархии, где должны были реализоваться пропорции полного восстановления Абсолютной Идеи в форме воссозданного в культуре и политике субъективного духа. Немарксистская версия гегельянства в ХХ веке вдохновляла итальянских фашистов на построение собственной версии «идеального государства» (Дж. Джентиле). Но в любом случае «конец истории» (коммунизм) Маркса мыслился именно в контексте западноевропейской капиталистической модели, как ее преодоление, возможное только там и тогда, где и когда капиталистическая система полностью состоится, установится, разовьется, утвердится, все заложенные в ней противоречия выйдут на поверхность, а европейский промышленный пролетариат сплотится в мощную рабочую коммунистическую партию. Какие-то другие версии возможных социалистических революций Маркс не рассматривал, так как в рамках его теории в недокапиталистических и недоевропейских обществах социалистической революции произойти не могло. Такая уверенность была не просто второстепенной деталью марксистского мировоззрения, но вытекала из самой структуры марксистской мысли.
Русский марксизм как радикальное западничество
Русские марксисты XIX века, в частности, плехановский «Союз освобождения труда», с самого начала были вынуждены сообразоваться с этим пунктом марксистского учения. Они представляли собой крайне западнический фланг (схема 4) революционно-демократического движения. Народники, позже эсеры, попытались поместить западнические социалистические идеи в русский контекст, адаптируя социализм к русскому народу и получая в результате довольно оригинальный набор идей, теорий и интуиций, в чем-то созвучный некоторым концепциям славянофилов. Такое народничество было в целом археомодернистским, но повышенное внимание к архаическому полюсу А (схема 1) и оппозиция существующему романовскому «статус кво» (схема 4) нередко подводили их к попыткам переосмысления всего русского герменевтического эллипса и углублению в «народ». Вместе с тем ориентация на западные образцы социалистической идеи сбивали последовательность собственно народнических начинаний -- маршрутов, направленных вглубь русской народной массы не для привития ей европейских гражданских и демократических клише, но для изучения глубинных основ народной жизни.
В любом случае русские марксисты по сравнению с народниками были радикальными западниками, так как заведомо отрицали какую бы то ни было самобытность русской социальной истории и рассматривали Россию как периферийную европейскую страну, чрезвычайно осталую и архаичную, но движущуюся, как и все остальные страны, по одному пути и в одном направлении (см. схему 7).
[вставить схему 7 из файла схемы4-5]
Единственно, что следовало обосновать русским марксистам, чтобы заниматься активной революционной борьбой, а не сидеть сложа руки, ожидая, пока социалистические революции прокатятся по странам Западной Европы, так это возможность ускоренного капиталистического развития России и скорейшего установления в ней буржуазного строя.
Парадокс большевистской победы: произошло то, чего не должно было бы произойти
Владимир Ленин, русский марксист второго поколения, с особым энтузиазмом взялся за доказательство того, что Россия уже в начале XX века являлась достаточно развитой европейской капиталистической страной и могла участвовать в общеевропейском революционном движении на равных. Так, в своей работе «Развитие капитализма в России»(68), полемизируя с народниками, он доказывает, что капиталистические отношения сложились в значительной степени и на селе, что единственным революционным классом является промышленный городской пролетариат, уже достаточно многочисленный и социально аткивный, чтобы быть массовой основой революционного движения. Этот тезис Ленина расходился со взглядами Маркса на возможность революции в России, но его можно было обосновать в духе общего русского западничества. Если правящая романовская верхушка считала Россию европейской страной и упорно рассматривала русскую культуру через оптику западноевропейского герменевтического круга, то почему так же не могли поступить представители разночинной интеллигенции революционного толка, заимствовав у Запада не апологетическую и эволюционно-реформаторскую либеральную модель модернизации, а революционно-демократическую, социалистическую и коммунистическую?!
Русский марксизм, таким образом, явился органичным дополнением цельной картины русского западничества правительственного (монархического) и либерально-капиталистического (реформаторского, буржуазного) толков. Монархизм и либеральная буржуазия представляли собой периферию западноевропейского идейно-политического мэйнстрима, а русские марксисты воспроизводили на русской почве маргинально-пролетарские течения и революционные идеи того же европейского общества. Но в отличие от других русских западников русские марксисты ставили перед собой радикальную задачу: им предстояло решить сразу две проблемы – не просто догнать Запад по уровню капиталистического развития, но и сокрушить только что установленный и как следует не устоявшийся капиталистический строй. При этом бланкистский темперамент многих марксистов -- в первую очередь, самого Ленина, а также Льва Троцкого и других радикалов -- предполагал, что свершить все это необходимо «здесь и сейчас», немедленно и не откладывая на «потом».
Сложилась парадоксальная ситуация: немногочисленные и разрозненные марксисты в стране со слабо развитым городским пролетариатом, неустоявшимися капиталистическими отношениями, с доминацией аграрного сектора и с чрезвычайно архаичным, сельским, «средневековым» по своей психологии населением, со слабой пролетарской партией, раздираемой внутренними дрязгами, оказались более фанатичными, собранными и, в конечном счете, успешными в реализации марксистского социально-политического сценария, нежели гораздо более структурированные, ортодоксальные и последовательные, более влиятельные и многочисленные революционные партии Западной Европы.
Если вначале Ленин доказывал, что Россия -- европейская держава, в которой протекают общеевропейские процессы и к подходу европейской пролетарской революции у нее есть шанс поучаствовать в ней на полноценных основаниях, то к 1917 году, примеряясь к сложным обстоятельствам политического кризиса, спровоцированного во многом Первой мировой войной и отречением Императора Николая Второго, Ленин уже доказывает (притянутыми ссылками на Маркса) возможность осуществления революции первоначально в одной стране -- в России (69).
Захват власти в октябре 1917 года большевикам удается. Еще более невероятным является то, что удается удержать эту власть и добиться победы в гражданской войне.
Антизападническое западничество
В 1924 году лидеры советского государства, и в том числе сам Сталин, еще полностью уверены, что успехи СССР – только первый такт общеевропейского революционного процесса. Ещё в мае 1924 года Сталин в брошюре "Об основах ленинизма" писал:
"...Свергнуть власть буржуазии и поставить власть пролетариата в одной стране, ещё не значит обеспечить полную победу социализма. Главная задача социализма -- организация социалистического производства -- остаётся ещё впереди. Можно ли разрешить эту задачу, можно ли добиться окончательной победы социализма в одной стране, без совместных усилий пролетариев нескольких передовых стран? Нет, невозможно... Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства, усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно, - для этого необходимы усилия пролетариев нескольких передовых стран"(70).
Спустя несколько месяцев, в декабре 1924 года, он изменил эту формулировку на прямо противоположную. И с тех пор идея построения социализма в одной стране, конкретно -- в России, без победы его в скором времени в остальных, в первую очередь, промышленно развитых капиталистических странах Европы, стала официальной догмой, в том числе и философской, советской системы.
Оставив вне рассмотрения причины того, как могли случиться столь странные с теоретической точки зрения (по меньшей мере, с точки зрения марксизма) события, обратим внимание на то, как это укладывается в общую картину русского герменевтического эллипса. Здесь мы стоим перед некоторым несоответствием. Марксизм как философия принадлежал к европейскому герменевтическому кругу, но представлял собой его критическое измерение. Будучи частью европейской культуры и истории, он выступал в радикальной оппозиции к этой культуре и этой истории в их конкретном выражении. Будучи помещенным на российскую почву, он, с одной стороны, оказывался на полюсе самых крайних западников – на полюсе В (см. схему 7). В этом смысле марксизм продолжал линию русского западничества от масонов до декабристов и революционных демократов. С этим связана и позитивная оценка Лениным капиталистических преобразований в России, то есть ее европеизации и промышленной модернизации. В этом смысле его полемика с народниками велась с позиции представителя фокуса В против представителей фокуса А (см. схему 7), тяготеющих к апологии самобытности русского крестьянства и к отказу от идеи необходимости построения капитализма в России (идея «русского социализма» встречается уже у А. Герцена, позже еще яснее у Михайловского, Ткачева и т.д.(71)).
Но вместе вместе с тем марксизм (в том числе и западный) есть радикальная критика Запада, капитализма, буржуазного строя, а значит, он содержит в себе (пусть и в особой, парадоксальной, диалектической форме) отрицание политико-социального, культурного и экономического содержания фокуса В (собственно западничества). Получается, что с философской точки зрения в русском контексте мы имем дело с «антизападническим западничеством» -- с идеологией, которая одновременно утверждает Запад как нечто универсальное и тем же жестом эту западную универсальность преодолевает, снимает, заявляя, что «завтра уже наступило», что «Запад в России закончился» (так и не успев толком начаться).
В этом контексте русский марксизм – по крайней мере, после того, как Октябрьская революция становится свершившимся фактом – представляется определенным реваншем полюса А (архаического народного начала) перед лицом полюса В (чистого западничества, воплощенного исторически в политической элите Российской Империи и в растущем до 1917 года классе буржуазии). Едва ли этот парадокс был в должной мере осмыслен широкими народными массами, но именно он представляется ключом к пониманию истинного места марксизма в истории России.
Этим предопределена в России двойственность как марксизма, так и всего советского периода. Будучи частью западноевропейской философии, то есть западного герменевтического круга, марксизм был инструментом радикальной и беспрецедентной модернизации страны (фокус В). Именно таким марксизм и явился с очень многих точек зрения:
- он осмеивал народные традиции как пережитки древних времен;
- разрушал религию и религионые основы;
- искоренял архаические формы культуры и вводил новые -- «прогрессивные»;
- проводил последовательную индустриализацию и урбанизацию, разрушая инфраструктуру села;
- развивал атеистическую и материалистическую науку;
- прививал народу образ жизни и мышления, свойственные нормативам европейского Просвещения;
- насильственно насаждал рационалистическое и механицистское мировоззрение.
В этом смысле он являлся в высшей степени западничеством.
Но, с другой стороны, марксизм:
- деблокировал широкие народные массы, открыв им путь к верхним стратам общества, и уничтожил европеизированную и западническую по своей структуре романовскую политическую и экономическую элиты;
- упразднил буржуазные отношения, выражающие квинтэссенцию западной модели социально-политического развития;
- укрепил и сохранил политическую независимость России от стран Европы;
- расширил влияние русских на близлежащие регионы;
- по факту стал общечеловеческим авангардом в противостоянии Европе и ее колониально-универсалистским устремлениям.
В этом смысле марксизм в СССР не просто продолжил основную линию Российской Империи, но мог восприниматься как реванш русского народного духа в отношении отчужденных политических элит санкт-петербургской монархии, то есть как выражение фокуса А (схема 1).
Троцкизм и национал-большевизм
В советском обществе в 1920 годы можно было легко обнаружить крайние выражения обоих рассматриваемых фокусов. В этот период соратник Ленина по революции и один их самых пассионарных большевиков Лев Троцкий отчетливо формулирует западнический полюс советского большевизма, настаивая на том, что без осуществления пролетарских революций в развитых европейских странах социализм в СССР построен быть не может, а если он и будет построен, то в скором времени переродится. Эта позиция, выражающая собой классический полюс В в нашем герменевтическом эллипсе, представляет собой логически и философски непротиворечивую конструкцию: если социалистическая революция и смогла каким-то чудом победить в периферийной европейской стране (не без сверхусилий самого Троцкого), то она сможет интегрироваться в настоящий посткапиталистический мир только вместе с другими европейскими обществами. Это обстоятельство могло аргументироваться как ссылками на практические и экономические моменты из жизни молодой Советской России, так и на классические тексты ортодоксальных марксистов. Но самое важное, что это было совершенно справедливо с точки зрения полюса В: в «левом проекте» Россия смогла бы избавиться от бремени археомодерна только через интеграцию с Западом, став его органической частью, пусть даже и сложным путем – через пролетарскую революцию. Эта революция представляла собой прыжок русского общества в западный герменевтический круг и, следовательно, должна была разделить с Европой ее судьбу (вместе строить социализм и осуществлять мировую революцию).
На противоположном полюсе в тот же период в СССР кристаллизуются национал-большевистские идеи (72). Они исходят из разных источников – от дворян, перешедших в Красную Армию; царских «спецов»; белых иммигрантов, ностальгирующих по России и осознавших, что они ее теряют навсегда после проигрыша в гражданской войне; от творческой интеллигенции, распознавшей в большевиках носителей «новой Святой Руси» (В. Брюсов, В. Хлебников, Б. Пильняк, А. Платонов, «скифы» -- А. Блок, Н. Клюев, С. Есенин, А. Ремизов, Е. Замятин, О. Форш, А. Чапыгин, К. Эрберг, А. Белый, Е. Лундберг, Р. Иванов-Разумник, С.Мстиславский и т.д.); от тысяч эсеров, перешедших к большевикам; от коммунистов-прагматиков, понимающих значение патриотических чувств для строительства социалистического государства (В.Тан-Богораз, И.Лежнев). Идеологические основы национал-большевизма яснее всего оформляют сменовеховцы Н.Устрялов(73), Г. Кирдецов, С. Лукьянов, Ю. Ключников и евразийцы П. Савицкий, П. Сувчинский, В. Ильин, Г. Вернадский(74) в эмиграции. Их тезис сводится к следующему: в Революции победили марксисты, но после победы под давлением народной стихии (фокус А) они непременно переродятся в нечто новое и построят русское и народное общество – по ту сторону европеизма, капитализма и Запада (как внешнего, так и внутреннего, воплощенного ранее в романовской элите).
Но снова, как и в царской России, в обществе сложился дуализм модернистической элиты (на сей раз в этой роли выступила Коммунистическая Партия, носительница правящего дискурса) и архаических масс, пытавшихся толковать все происходящее на свой лад. В 1920-е годы это нашло отражение в показательном социологическом различии между «большевиками» и «коммунистами». В романе Б.Пильняка «Голый год» приводятся слова русского мужика деда-знахаря Егорки:
"Нет никакого Интернационала, есть народная русская революция, бунт - и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича". - "А Карла Марксов?" (спрашивают его – А.Д.) "Немец, говорю, а стало быть, дурак". - "А Ленин?" - "Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы, должно, коммунисты... А коммунистов -- тоже вон! Большевики, говорю, сами обойдутся". (75)
Аналогичное различие между русскими большевиками (фокус А) и коммунистами (фокус В) делает в национал-большевистской (сменовеховской) газете «Накануне» бывший обер-прокурор Синода С.Лукьянов, причисляя Ленина к «большевикам» и «русским оппортунистам», а Троцкого и Зиновьева к коммунистам.
Троцкизм в советской ситуации занял фокус B ; национал-большевизм – фокус А (схема7). Эти идеологические позиции соответствовали структуре археомодерна в его обоих проявлениях, и, следовательно, выражали очень глубокие философские закономерности. В культуре и философских дискуссиях того периода (включая русскую эмиграцию) различимы две отчетливые тенденции, в русле которых можно было бы расчитывать на преодоление герменевтического эллипса и выход к модели философского круга (русского или западного). В случае победы троцкизма и, соответственно, интеграции России в Соединенные Штаты Европы (или из-за возможного поражения СССР в авантюрной попытке осуществить в одиночку «мировую революцию» и логически следующей за ней оккупации), это означало бы окончательную интеграцию в западный герменевтический круг. В случае возобладания национал-большевизма сам марксизм в скором времени переродился бы в нечто иное -- в самостоятельный социально-политический дискурс, напоминающий левое народничество, евразийство или тот альянс Империи с социализмом, о котором мечтал Константин Леонтьев.
Национал-большевизм и евразийство в 1920-е годы предложили новое обоснование возможности русской философии, затронув при этом социологическую, внешнюю сторону проблемы, как это сделали за полвека до них Данилевский и Леонтьев. В этом смысле следует рассматривать период сотрудничества с большевиками философа и богослова Павла Флоренского. Именно так понимали большевизм на первых этапах Николай Клюев и Александр Блок. В случае такого исторического поворота марксистская догматика была бы переосмыслена, а, возможно, и отброшена вовсе, уступая место новой идеологии. Это также означало бы разрыв герменевтического эллипса и крушение археомодерна, но только с иным исходом. Без всякого сомнения, развитие событий по второму сценарию сделало бы вопрос о возможности русской философии первоочередным.
Сталин: археомодерн по-советски
Но, как мы знаем, в результате в СССР победели не троцкисты и не национал-большевики, но линия Сталина, а сторонники всех «уклонов» (из обоих фокусов) были постепенно подвергнуты репрессиям и сведены на «нет». Так, начиная с 20-х и до конца 80-х годов ХХ века в СССР формировалась новая версия археомодерна – марксистская. Герменевтический эллипс не разделился на круги, но сохранился в своей структуре, обретя новое – на сей раз марксистское – оформление. Снова русская философская мысль была заблокирована и помещена в тупиковую ситуцию, с фатальным расслоением смыслов. Это предопределило общий строй советской философии, которая была, конечно, не философией в полном смысле слова, но комом нарастающих противоречивых нелепостей.
Сталин поставил во главу угла сохранение статус кво, которое сложилось по состоянию дел на 30-е годы ХХ века. Большевикам удалось захватить и удержать власть в Российской Империи; сломить сопротивление белых; собрать разбегающиеся национальные окраины; укрепить диктатуру Коммунистической партии; построить экономику на новых социалистических началах; превратить марксизм в правящую тоталитарную идеологию; уничтожить буржуазию как класс; искоренить частную собственность и, в довершение всего, сохранить независимость и суверенитет страны перед лицом капиталистического окружения мощных европейских держав.
Все эти показатели были столь внушительными, а удельный вес социализма и его социально-политических преобразований в построении нового советского общества был настолько велик, что у Сталина, стоящего на вершине гигантской коммунистической империи, были все субъективные основания для того, чтобы искренне поверить в то, что в СССР победил именно марксизм в его ортодоксальной версии, пропущенной через призму бланкистского подхода Ленина и первых большевиков.
Советский археомодерн, противоречивый как философская конструкция, в 1930-е годы выглядел настолько внушительно с позиции политической мощи и энергии масс в построении нового типа общества, что он вполне мог быть воспринят как нечто устойчивое, достаточное и органическое, доказывающее свою состоятельность социальными, политическими и экономическими успехами. Всем «правым» демонстрировались достижения социалистической экономики (основанной на коммунистических и марксистских идеалах и ценностях), всем «левым» – состоятельность советской державы, способной в одиночку развиваться, оставаясь независимой и боеспособной. Сталинская философия была философией конкретных дел, а не абстрактных идей. Социализм, индустриализация и крепнущая держава служили лучшим аргументом в любом споре, и наоборот, любая критика (как «справа», так и «слева», как от троцкистов, так и от национал-большевиков) представлялась неуместной, «субъективной» или даже «диверсионной».
К 1930-м годам советский археомодерн сложился в полной мере, а в 1937-ом Сталин, уже не колеблясь, расправлялся со всеми прежними «попутчиками» на всех флангах: в этот период репрессиям подверглись все, кто пытался поставить под вопрос советский археомодерн (или был обвинен в этой попытке), независимо от содержания подобных вопрошаний.
Советская философия как токсические отходы
Сталинский период силовым образом подавил любое намерение попробовать разложить советский археомодерн на составлящие. Малейшее поползновение в этом направления, начиная с 1937-1938 годов, было немыслимо. И все же жесточайшие репрессии ничего не могли поделать с философской природой проблемы археомодерна. Она была отложена, загнана вглубь, но не снята. О ней нельзя было не то, что бы говорить вслух, но даже думать. И тем не менее двойственность герменевтического эллипса в полной мере прослеживается на всех этапах СССР.
Советские массы интерпретируют официальную идеологию скорее «по-большевистски», партийные элиты – скорее «по-коммунистически», хотя постепенно, по мере проникновения в партийную элиту представителей народных масс, это различие начинает стираться, и вся конструкция смещается в сторону археомодерна с преобладанием народных, «патриотических» настроений.
Однако попытки вывести это переосмысление на уровень сознания и перетолковать коммунистические доктрины в духе русского почвенничества до самых последних мгновений существования Советской власти планомерно и жестко подавлялись «интернационалистской» составляющей. Вплоть до реформ Горбачева, приведших всю советскую систему к краху и полной ликвидации вместе с самим советским государством, ни «троцкистские», ни собственно «марксистские» попытки разблокировать археомодерн со стороны западнического полюса возобладать не могли. В разных пропорциях на отдельных этапах советской истории периодически всплывали и опускались соответствующие фокусы, но структура герменевтического эллипса оставалась неизменной.
Поэтому вся совокупность текстов советских философов, если о чем-то и повествует, то только об этом интеллектуальном изнывании. Какой бы вопрос философии в этом контексте ни поднимался – деятельность, человек, язык, материя, сознание, история, мышление, тело, субъект, объект, душа, первоначало, -- он обязательно соскальзывал к невразумительной ахинее, сквозь которую в лучшем случае можно было прорваться либо к смутному «троцкизму» (то есть минимальному соответствию западноевропейской – пусть критической и революционной – интеллектуальной методологии), либо к еще более завуалированному русскому архаизму (например, в форме «космизма»). В худшем же случае горы написанных книг не несли в себе вообще никакого содержания, являясь образцами недешифруемого мыслеподражания.
Конечно, на периферии советского общества и в русской эмиграции отдельные люди пытались мыслить адекватно, но избавиться от археомодерна они могли только в одном случае -- в случае полной интеграции в западноевропейский герменевтический круг. Этому отчасти способствовала эмиграция или в редких случаях крайние формы диссиденства в самом СССР, хотя чаще всего это тоже означало интеллектуальную болезнь, отличную лишь от институционализированной и тоталитарно-догматической болезни общесоветского мышления, которая в общем случае и была принята за норму. Для корректного и внятного движения в сторону собственно русской философии не оставалось вообще никакого социального «места» -- все было занято герменевтическим эллипсом советского образца, жестко блокировавшим любую попытку сделать шаг в каком бы то ни было направлении.
Советская философия могла бы претендовать на содержательность только в том случае, если бы была отнесена к тому или иному герменевтическому кругу. Но именно этого жеста ей и не позволяло сделать сложившееся к 1930-м годам и сохранявшее свое значение «статус кво». Именно потому, что в нее с самого начала было внесено догматическое противоречие, аксиоматическая ложь, нормативная болезнь сознания, советская философии при всем желании не могла сформулировать ничего содержательного или подлежащего интепретации. Все было впустую.
Как в Древнем Китае в эпоху Цинь амбициозная династия, поставив своей целью изменить параметры древней культуры и религии, попыталась навязать принципы философии легизма вместо древнейших конфуцианства, даосизма и буддизма, но после сожжения множества книг и жесточайших репрессий, оказалась чем-то эфемерным и пала, не оставив следа, спустя несколько лет после смерти ее основателя, так и советская философия утратила всякую релевантность в одно мгновение – в миг гибели СССР в 1991 году – представляя собой отныне свалку «токсических отходов» плененного и униженного интеллекта.
Глава 5. Свято место по-прежнему пусто
Герменевтический эллипс в постсоветский период
Следует сказать несколько слов о социально-культурной ситуации в российском обществе, сложившейся в 90-е годы ХХ века, после распада СССР, и в наше время, в начале XXI века.
Советский археомодерн в 1991 году рухнул. И в этот момент снова два полюса дали о себе знать. Один из них выразился в либерал-реформаторах, другой – в тех, кого либерал-реформаторы называли «красно-коричневыми». Либералы решили проводить очередной тур «модернизации» и «вестернизации», что включало в себя активное знакомство советской публики с западной культурой, обществом и, частично, философией. Либералы (по крайней мере, в первый период) почти открыто ставили перед собой задачу деблокировки археомодерна, отождествляемого ими с советской системой. Этот проект полностью вписывался в логику русского западничества предыдущих эпох – как либерального, так и «троцкистского» в советское время. С философской точки зрения это начинание сводилось к новой попытке ввести российское общество в контекст западной философии – через переводы зарубежных авторов, внедрение новых эпистем и, в конце концов, через включение российского интеллектуального дискурса в общий мэйнстрим дискурса западного.
Альтернативный проект формировался на противоположном идейном полюсе, где в оппозиции либералам-западникам объединились коммунисты-консерваторы и вновь появившиеся (во многом искусственно и неорганично) «националисты» и «традиционалисты». Так как к этому полюсу примкнули далеко не все коммунисты (значительная часть из них «перешла в либералы»), то с определенной долей приближения можно сказать, что после оттока оппортунистов и случайных людей, среди коммунистов 1990-х годов остались те, кто осознанно (меньшинство) или интуитивно (большинство) разделяли национал-большевистскую платформу – в духе Устрялова и евразийцев. Отсюда включение в программные документы КПРФ таких тем, как «православие», «империя», «традиция, «геополитика» и т.д., немыслимых для ортодоксального марксистского контекста. К этому же полюсу тяготели и разрозненные группы консерваторов немарксистского толка, появившиеся вместе с распадом тоталитарной системы – «неоевразийцы», «неомонархисты», «неоправославные», «русские националисты» и т.д. В этом явлении мы видим предварительную группировку сил вокруг фокуса В нашего герменевтического эллипса, которая стала возможной после крушения советской машины.
Политически в 1990-е годы это направление представляло собой оппозицию власти, в то время как либерал-реформаторам удалось подчинить себе власть (Президент Ельцин и его окружение) и получить контроль над доминирующим общественным дискурсом. «Патриотическая оппозиция» могла стать средой, где вполне уместно было поставить вопрос о возможности русской философии на новом историческом витке (параллельно инициативам новых западников). Однако этого не произошло – ни в социологическом (обобщенном, описательном, внешнем), ни тем более в содержательно философском измерении. Этот социальный полюс не предпринял никаких усилий для продумывания и утверждения своего проекта по преодолению археомодерна в духе движения к русскому герменевтическому кругу и ограничился пассивным сопротивлением западническим реформам, не уделяя внимания ни идейной консолидации своих рядов, ни выработке вменяемой идеологической программы, не говоря уже о постановке серьзных философских проблем. Все ограничилось полемикой и публицистикой.
В 1990-е годы в определенный момент сложилось впечатление, что герменевтический эллипс разомкнут и Россия, распадаясь, частично интегрируется в западный мир, претендовавший к концу ХХ века на глобальность и безальтернативность в мировом масштабе (в духе универсалистских колониальных претензий западной культуры, но только с большим размахом и более впечатляющими результатами повсеместного внедрения своих кодов и парадигм). Впервые, если не считать короткого периода между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, в России политическая власть и контроль над мировоззренческими установками оказались в руках радикальных западников – носителей западнического мышления и адептов западной судьбы. Это сопровождалось ослаблением суверенитета России и частичным введением внешнего управления страной. В философском смысле эти процессы представляли собой попытку экстерминации фокуса А и его влияния на все общество в целом (см. схему 8 и место на ней феномена, который можно назвать «ельцинизмом»).
[вставить схему 8 из файла схемы4-5]
Археомодерн Владимира Путина
Однако к концу 1990-х годов влияние либерал-реформаторов на общий интеллектуальный климат в стране стало сокращаться. Если в начале 1990-х это направление имело значительную поддержку в социальных средах, возлагающих большие надежды на сближение России с Западом, то к концу ХХ века надежды сменились разочарованием, и негативный баланс реформ (как экономический, так и социальный, психологический и культурный) стал очевиден для многих. В этот период Ельцина на посту президента сменил Путин, что означало серьезный мировоззренческий сдвиг. Путин восстановил в России параметры археомодерна, укротив западнический полюс и слегка снизив давление на полюс собственно русский (фокус А) (см. схему 8). Модель общества эпохи Путина представляла собой возврат к привычному для России последних столетий герменевтическому эллипсу, при котором не только закрывается возможность преобладания одной из двух непротиворечивых моделей, но любая внятная интеллектуальная деятельность заведомо блокируется массой археомодерна, опирающегося на силовой потенциал государственной машины. Путин постепенно отобрал у правящей верхушки либералов их влияние, но при этом никак не поддержал и славянофильский полюс «патриотической оппозиции», предоставив ему возможность стерильного маргинального прозябания в автономном режиме.
Так снова в очередной раз и в новых идеологических и социально-политических условиях в России установилась система, препятствующая самой постановке вопроса о выборе философского герменевтического приоритета и заведомо исключающая сколько-нибудь серьезное обсуждение темы возможности русской философии.
Отличие нынешней эпохи от сталинской (в интересующем нас контексте) состоит, однако в том, что Сталин на любой философский вопрос давал жесткий ответ в виде демонстрации достижений социализма, политической крепости советской державы и работы мощнейшего репрессивного аппарата. Поэтому инерции его хватило на несколько десятилетий. Режим Путина несопоставимо более мягок и серьезными достижениями похвастаться не может. Поэтому его устойчивость и долговечность оказываются под вопросом, а его интеллектуальная тупиковость и патологичность очевидны уже сейчас. Если у него и есть запас прочности, то он состоит только в потенциальной апелляции к архаическому полюсу (фокус А), чего Путин и его ближайшее окружение старательно избегают.
Глава 6. Русское архэ
Археомодерн и его истина. С «грязного» листа
В этом историческом моменте – моменте путинского археомодерна -- мы находимся сейчас, и это предопределяет контекст нашей постановки вопроса о возможности русской философии и специфику нашего взгляда на то, что мы имели за плечами на предыдущих этапах русской истории. Снова, как и в последние несколько веков, мы имеем дело с археомодерном, с герменевтическим эллипсом, который самой своей структурой блокирует возможность внятной постановки вопроса о пути излечения болезни. Археомодерн категорически отказывается осознавать себя как болезнь, и вопрос о выборе лечения тем самым заведомо лишается смысла. Более того, археомодерн категорически отказывается осмыслять себя как то, что он есть, то есть как археомодерн. В этом смысле само выражение «возможность русской философии» вызывает у профессионалов нервное отторжение: в археомодерне такая постановка вопроса исключается заведомо или ответ опережает вопрос.
«Русская философия есть свершившийся факт, -- с недоумением пожимают плечами одни (патриоты), -- как можно ставить ее под вопрос?» «О какой «русской» философии может идти речь? Философия – одна и едина, и русские авторы внесли туда свой вклад, как и все остальные», -- возмущаются другие (западники). «Все и так есть, и одновременно нет» – таков универсальный тезис археомодерна, расчленяющий смысл любого высказывания на серию внутренне не связанных между собой, рассеянных и перепутанных псевдоубежденностей.
Таким образом, если мы хотим вопреки всему подойти к месту, где вопрос о возможности русской философии ставится со всей строгостью и основательностью, мы должны фундаментально вникнуть в ситуацию археомодерна, в его структуру, в его композицию, в его герменевтический механизм. Именно археомодерн является главным препятствием на пути не только русской философии, но и ее возможности, и даже возможности корректно мыслить об этой возможности. При этом археомодерн устроен так, что скрывает самого себя и истину о самом себе, постоянно представляя себя не тем, что он есть, то есть, укрываясь от направленного на него внимания плотной пеленой ложных утверждений о себе и своей сущности. Архемодерн постоянно лжет о самом себе, и в этой лжи заключается не его намерение, но его структура. Как только мы распознаем эту структуру как ложь (в техническом смысле), мы сможем утвердить истину об археомодерне, поскольку то, что ложь является ложью, есть истина. Ложью самого археомодерна является то, что его якобы «нет» или то, что он якобы «не археомодерн», то есть не герменевтический эллипс, разлагающий осмысление любого явления, взятого в философском аспекте, на два взаимоисключающих интерпретационных вектора, автоматически и неизбежно превращающего смысл в дву-смысленность и, следовательно, в бес-смыслицу. При этом смутный и плохо осознаваемый (периферийный) смысл фокуса В (западного герменевтического круга) подрывается вообще никак не формализированной энергией интуититивного «полусмысла» фокуса А (как правило, направленного против западного), что порождает короткое замыкание философии, при котором вся система упорядоченного мышления перегорает, погружая интеллектуальный дискурс во тьму сбивчивых и обрывочных бормотаний. Эти бормотания и выдаются археомодерном за «норму», на чем философия успешно закрывается, а «философом» объявляется либо остолоп (77), либо острослов, либо чиновник.
Но истина об археомодерне и понимание его сути, напротив, является позитивным и созидательным философским утверждением. В конце концов, если что-то и можно сказать надежно и по-настоящему обоснованно о философских особенностях русской культуры в последние века, то это будет констатация ее археомодернистской природы. Проницательный Розанов выразил это в афоризме:
«Вся русская литература написана не на русские темы».(78)
Это базовое феноменологическое утверждение об археомодернистской природе русской культуры последних веков несет в себе огромный положительный смысл. Истина археомодерна, истина об археомодерне и его структуре представляет собой исходную точку русской феноменологии, так как в форме социальной и культурной данности (из которой вытекает и политика, и образование, и эстетика, и этика, и философия, и литература) мы имеем дело именно с этим. Невозможно начинать мыслить с чистого листа. Мы обречены на то, чтобы иметь дело с грязным листом -- с листом, загаженным и исчерканным бредовыми знаками, лишенными смысла, со скомканными, изжеванными, изорванными, изуродованными краями, который нам выдают за картину Рафаэля или текст «Божественной Комедии» Данте.
Если мы хотя бы на мгновение упустим из виду такое положение дел, то любое размышление о возможности русской философии только пополнит набор каракулей. Поэтому осмысление герменевтического эллипса и его структуры должно представлять собой фундаментальный подготовительный этап адекватного мышления в наших условиях. У тех, кто не осознает или, по меньшей мере, не ощущает интутитивно археомодерн как заболевание, как катастрофу, как духовную и интеллектуальную блокаду, нет никаких перспектив излечения. Иными словами, для тех, кто не способен распознать археомодерн как археомодерн и пробиться к истине о его лжи, русская философия невозможна и путь к постановке вопроса о ней заказан.
Дальнейшие разделы этой книги могут иметь значение только и только в том случае, если ситуация археомодерна осознана, осмыслена и принята как нечто, что следует преодолеть. Если же сохраняется недоверие, недопонимание или несогласие с данным тезисом, то дальнейшее чтение книги утрачивает смысл.
Юродство как интеллектуальная стратегия
Выделив проблему археомодерна в качестве основной и центральной при исследовании вопроса о возможности русской философии и показав, как эта проблема позволяет подобрать ключ к интерпретации структуры мышления русских философов, можно сделать следующий шаг и наметить горизонт, в рамках которого мы могли бы продвинуться на шаг дальше в исследовании главной темы.
Структура герменевтического эллипса, как мы видели, является тем фундаментальным парадигмальным моментом, который заведомо, в самом первом импульсе блокирует саму возможность русской философии. Но эта же структура одновременно является тем, что и позволяет эту возможность предварительно очертить. Речь идет о существовании фокуса А (схема1), который открывается нам не напрямую (в противном случае, мы бы с полным основанием говорили о действительности русской философии, а не задавались вопросом о ее возможности), но косвенно и как раз через превращения потенциального круга западноевропейской философии и интеграции русского общества в его структуры именно в эллипс. Само искажение западной философии в русском обществе, вскрытое нами как выражение его эллипсоидной структуры, и является косвенным указанием на наличие фокуса А. Таким образом, сбой функционирования нормативных структур западного мышления и систематическое извращение его семантических основ, то есть сама философская патология, своеобразная «глупость» русского общества, должны быть рассмотрены не как деструктивное и энтропийное свойство, но как косвенное и окольное свидетельство о влиянии и работе фокуса А, который выступает не напрямую, но через последовательный и упорный саботаж западных механизмов философского мышления. Возможность русской философии открывается нам через невозможность адекватного участия русских в герменевтическом круге западноевропейской философии, в самом явлении археомодерна как фундаментальной и систематической нормативной лжи. Археомодерн, представляющий собой с позиций Запада болезнь и извращение, с точки зрения возможной русской философии обнаруживает свой потенциал в том случае, если мы осознаем археомодерн как археомодерн и, тем самым, столкнемся не с его привычной ложью о самом себе, но с истиной о нем самом. Тогда ложь, болезнь и искажение откроют нам свое причинное измерение, и окажется, что это не просто «умаление» Запада вдоль траектории, направленной к чистой энтропии, но результат планомерной и последовательной работы иной автономной инстанции. В этом случае мы обнаруживаем причину «глупости» русских, которая постепенно проявляться как осознанная стратегия «оглупления» западного дискурса, намеренного подрыва его семантической целостности. Наряду с ментальной патологией мы можем распознать в этом осознанное и точно расчитанное юродство, призванное последовательно демонтировать западную философиию через осознанную стратегию ее деконтекстуализации и саботажа.
Теперь мы по-новому можем взглянуть на слова П. Чаадаева:
«В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишенные связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу».(79)
«Худшее, чем легковесность» -- это сознательная стратегия русского юродства по подрыву свзяности западноевропейского рацио. То, что «лучшие идеи» «парализуются в нашем мозгу», не случайность: мы делаем это намеренно и осознанно, мы парализуем их, превращаем в бесплодные заблуждения, мы вырабатываем для них противоядие, мы их гасим, сводим на «нет», расстворяем.
Увиденный с этой точки зрения, археомодерн открывается нам уже не столько как просто болезнь, сколько как намеренная болезнь, которая есть отказ от навязываемого норматива здоровья и, следовательно, не просто неспособность к здоровью в этом смысле, но намеренный отказ от него, выбор болезни как судьбы – в той степени, в какой содержание и структура предлагаемого императива нормы остается внешне навязанной, и конкретно – навязанной западно-ориентированными элитами. Это своего рода «шаманская болезнь», которая является в архаических обществах первым признаком избранничества будущего шамана к особому служению.
Болезнь шамана – это не просто выражение его психологической, профессиональной и социальной непригодности, но первый шаг к сложному сценарию испытаний и переживаний, в результате которых шаман не только восстанавливает утраченные параметры здоровья, но приобретает новые,считающиеся чудесными, целительными и сверхъестественными, свойства, благодаря которым именно он становится центральной фигурой племени, ответственной за решение важнейших задач по функционированию общества, природы, обрядов и социальных практик.
Архаика и arch
Теперь можно более тщательно рассмотреть полюс архаики, фокус А (схема 1).
Само называние этого полюса «архаичным» (откуда корень «архео» в «археомодерне»), с одной стороны, соответствует феменоменологической констатации его основных функций (воздействие фокуса А на толкование понятий и суждений в рамках герменевтического эллипса привносит в это толкование смысл, не совпадающий с модернистической семантикой европейского философского дискурса, по причине того, что он является «древним», «несовременным», «отсталым»). С другой стороны, можно отнестись к слову «архаичный» еще более внимательно и увидеть в нем понятие «начало» (по-гречески «arch» – «начало»), причем не только в историческом, но и в самом общем смысле. Фокус А, будучи полюсом «архаики», есть фокус Начала (или даже Первоначала). И если мы вдумаемся в это значение, то сможем вообще пересмотреть наше отношение к археомодерну.
Патологией в этом явлении выступает его неразделимость, нерасчленимость, видимость его цельности, претензия на то, что так и должно быть. Ложь относительного него заключается в том, чтобы выдать нечто искусственное, противоречивое, составное, болезненное и уродливое за естественное, последовательное, упорядоченное, целостное и эстетически приемлемое. Патологичность археомодерна состоит в его отказе от признания этой патологичности. Как только эта патологичность будет признана и принята, внимание автоматически будет привлечено к выяснению причин заболевания. А поиск причин, в свою очередь, рано или поздно приведет к обнаружению герменевтического эллипса и осознанию составной природы археомодерна, а также к корректному наименованию его составных частей. Как только мы опознаем археомодерн как болезнь, мы опознаем его как археомодерн. И наоборот, как только мы осознаем, что имеем дело именно с археомодерном, то немедленно вскроем его как болезнь. Внимательный анализ болезненности археомодерна и его структуры, размышление о его наименовании и о значении входящих в него понятий подведут нас к фундаментальному выводу: причиной появления археомодерна является столкновение двух антагонистических (или, по меньшей мере, корневым образом различных) начал, причем находящихся в разных стадиях соотношения со своими собственными ядрами. Это столкновение между западным герменевтическим кругом (западной философией, культурой, историей), находящимся в фазе всестороннего развития и на пике модернизации, и другим, русским, началом, пребывающим в ином цикле развития, на первичной стадии саморазвертывания, то есть в состоянии максимальной приближенности к своему ядру, в состоянии «начального начала», и даже «еще неначавшегося начала».
Модерн как завершающий продукт развития западного начала
Западный модерн есть результат развития западного начала. И смысл свой он обретает только в сопоставлении с этим началом и с предшествующими стадиями своего развития -- от западной архаики к западному модерну.
Нетрудно заметить, что претензии на универсальность Запад начал предъявлять не только в Новое время, настаивая на том, что его путь развития является универсальной судьбой человечества, которую Европа просто «прожила быстрее и полнее других». Еще на заре западной цивилизации, в греческую и римскую эпохи, представителей иных, не греческих и не римских, даже самых развитых, культур греки и римляне пренебрежительно причисляли к «варварам» и считали менее «полноценными», чем они сами, оправдывая этим свои «имперские» и «цивилизаторские» амбиции. Это не является, впрочем, свойством только греков и римлян, но характерно для всех империй и даже для отдельных племен, причисляющих к категории «человек» или «люди» только своих соплеменников или граждан.
Поэтому претензии западного модерна на универсальность являются не свойствами модерна, но свойствами любой культуры, в каком бы состоянии и на каком бы этапе она ни находилась. Если в последние века Запад навязывает себя как «универсальность модернизации», то ранее он навязывал себя как «универсальность цивилизации» (западной греко-латинской цивилизации), «универсальность христианской эйкумены», а в отношении восточных христиан (приравненных к «схизматикам») -- как универсальность западно-христианской (католической, или католико-протестантской) эйкумены. Каким бы образом Запад ни оправдывал и ни обосновывал свою претензию на универсальность, в конечном счете, она была и остается его волей к власти в планетарном масштабе.
Поэтому – помимо «пропагандистской» риторики -- смысл западной культуре придает только и исключительно ее соотнесенность с ее собственными корнями, началом, западным arch. Модернизация, которую несет с собой Запад сегодня, это плод развития его внутреннего потенциала, ядра, зародыша.
Версии слияния двух различных культур
Русский археомодерн не может быть рассмотрен также как наложение друг на друга двух разных исторических стадий или фаз одного и того же процесса: продвинутой стадии на отставшую, замедленную, тормозящую. Речь идет именно о наложении чужого (и модернизированного) начала на свое начало (менее модернизированное, находящееся ближе к истокам), а не о наложении нового на старое. Причем это наложение дисгармонично, уродливо, безобразно, болезненно.
Существует множество примеров иных наложений культур друг на друга, множество версий аккультурации, ассимиляции, интеграции, взаимопроникновения культур. И мы видим в истории, что далеко не всегда завоеватели и колонизаторы, которым удается захватить власть и стать элитой в завоеванных обществах, отличаются более высоким уровенем культуры или техники. Таковы германские варвары, покорившие Западную Римскую Империю, или турки-сельджуки, захватившие Византию. Соотношение уровней дифференциации культур (меры их удаления от их собственного ядра и развития заложенных в нем потенций) у господствующих и подчиняющихся народов может быть разнообразным. Поэтому в случае возникающих смысловых дуальностей далеко не всегда (хотя довольно часто) доминирующим является модерн, а подчиненной – архаика, может быть и наоборот, как в случае захвата кочевниками более развитых аграрных обществ и их подчинения. Каждое из культурных начал имеет свою структуру, историю и внутреннюю связность. При этом совершенно необязательно, что наложение этих культур дает нечто подобное тому патологическому эллипсу, который мы встречаем в русском археомодерне. В некоторых ситуациях обе культуры находят между собой гармоническое равновесие и либо распределяют легитимные зоны доминации (например, в кастовых обществах; в обществах, разделенных на отдельные культурные анклавы по территориальному, этническому или профессиональному признакам), либо постепенно осуществляют синтез своих семантических кругов, творя новый оригинальный круг, развертываемый вокруг нового единственного фокуса, который может располагаться в различных точках по отношению к двум прежним фокусам эллипса – либо ближе к фокусу завоевателей, либо ближе к фокусу завоеванных, либо между ними или даже в стороне. В одних ситуациях покоренные народы усваивают культуру завоевателей и начинают отождествляться с ней, в других --- напротив, завоеватели расстворяются в завоеванных. В каждом случае важно проследить постепенное возникновение гармоничной структуры нового герменевтического круга, который и предопределяет такие свойства культуры, как ее здоровье и гармоничность или ее патологию, искусственность и противоестественность.
В случае российского археомодерна мы имеем дело с тем случаем, когда между полюсами герменевтического эллипса существует полный разлад: ни один из них не может перевесить другой и, более того, не способен войти с другим во внятный и содержательный диалог. Это не синтез, не полное вытесение, не трансформация, не слияние и не сочетание. Это смутный конфликт, патовая ситуация, где нет возможности ни прийти к компромиссу, ни создать нечто новое, ни ясно изложить позиции обоих сторон.
В любом случае, будучи опознанной как болезенная, данная герменевтическая ситуация открывает целый спектр ее возможных решений, поскольку даже чисто теоретически мы можем разрубить этот эллипс на две составляющие и для начала развести их максимально далеко друг от друга.
Глава 7. Постижение Запада – преодоление Запада – освобождение от Запада
Ничтожность полюса А для западного герменевтического круга
Один из выделяемых в археомодерне полюсов, фокус В (схема1), представляет собой вполне законченную и конкретную философскую, историческую и культурную реальность с центром, находящимся вне русского эллипса – в Западной Европе, в ее истории, культуре, в последовательности и гармонии ее внутреннего развития. Внимательное рассмотрение областей, связанных в археомодерне с модерном, позволяет точно восстановить их подлинную семантику, исправить искажения, связанные с влиянием второго фокуса А (схема1), и тем самым уяснить значение или гамму значений каждого из рассматриваемых в западноевропейском круге элементов. Фокус В есть периферия западного герменевтического круга, и фиксируемый в этом качестве, он легко и непротиворечиво интерпретируется в общей структуре этого круга.
Русское западничество, таким образом, может быть интерпретировано как взгляд, брошенный из центра западного круга на свою периферию, как зона границы, где происходит соприкосновение «своего», «этого» (для Запада) с «чужим», «тем». Но если учесть универсалистскую претензию западной философии, то можно интерпретировать эту границу как границу «полноты», «всего» (для Запада) с «ничто». Это предопределяет «уничижительный» характер европейского взгляда на Россию независимо от того, имеем ли мы дело с полноценными европейцами, живущими в Европе, с подражающими европейцам русскими западниками или с обрусевшими европейцами, лишь частично сохранившими связь с европейской культурой.
В отношении «ничто» западная философия может поступить двояко: либо искусственно и механически спроецировать в это «ничто» свое содержание, то есть поместить туда самое себя, свою проекцию (что и составляет суть процесса европеизации и модернизации России), либо брезгливо отвернуться, приравняв его к «природе», «чистом объекту», кантианскому «ноумену», о реальности которого ничего нельзя сказать наверняка.
Можно легко представить и сочетание обоих подходов: проекцию, смешанную с игнорированием.
Проблема границы герменевтического круга и связанная с ней напрямую проблема «ничто» имеют огромное значение для западной философии, и мы к ней еще неоднократно будем возвращаться. Но эта проблема, поставленная со всей ясностью, не имеет никакого отношения к России; она имеет отношение только и исключительно к самой западной цивилизации, которая в некоторых ситуациях сталкивается с проблемой своих внутренних границ, а значит с проблемой ничто, сопряженной с конечным выяснением собственной определенности и цельности, поскольку проблема ничто может быть поставлена только перед лицом другой, не менее важной проблемы – проблемы «всего», «целостности». Кроме того, во многих философских контекстах проблема «ничто» и «границы» соотносится с не менее важной для западной философии проблемой «бытия». Но все это исключительно внутренняя проблема Запада и только его самого. С таким же успехом (и даже с большим успехом) она может распространяться не только на Россию, но на все, что угодно -- на любую сферу, в которой западное философское мышление фиксирует свою собственную границу (культурную, географическую, историческую и т.д.)
«Тайная гармония» Запада
Если мы сосредоточим внимание на собственной структуре западноевропейского герменевтического круга без соотнесения его с русским эллипсом, мы окажемся в уникальной ситуации: перед нами откроется законченное и гармоничное философское, духовное, культурное пространство, с множеством этажей, зал, комнат и коридоров. Мы увидим философскую страну, со столицами и окраинами, хижинами простолюдинов и дворцами знатных вельмож, с горами и безднами, взлетами и падениями, с фазами и этапами. И все это многообразие, включающее множество альтернативных маршрутов и вероятностей, объединено общим величественным строем западноевропейской судьбы, ее логикой, ее вектором развития, ее волей и ее миссией. И всё вместе, включая заложенные и еще не реализованные возможности, несет в себе контексты и дискурсы, языковые реки и океаны, структуры философских смыслов, многомерных и разнообразных, разнонаправленных или параллельных, диалектически переплетающихся или вступающих друг с другом в конфликт, но следующих общему курсу и объединенных внутренней, подчас едва различимой, укрывающейся «гармонией» -- той самой «тайной гармонией», которую Гераклит, один из основателей западной философии, считал «лучше явной». Эта «тайная гармония» Запада и дает высший смысл и внутреннюю ценность всем элементам этой культуры – от интенсивной философии до самых периферийных культурно-эстетических, политических, социальных, экономических и бытовых моментов.
Отречение в пользу Запада
Этот герменевтический круг вполне может постичь и неевропеец, если он приложит достаточно усилий для честного и фундаментального освоения западных ценостей, если он вживется в эту стихию, войдет в нее, следуя по той или иной тропинке, так или иначе сопряженной с целым. Судьба Запада до определенной степени является открытой, и тот, кто примет решение сделать ее своей, независимо от своего культурного происхождения, вполне может сделать ее своей судьбой, вступить в наследство этой культурной традиции. Нет ничего заведомо невозможного в том, чтобы причаститься к западноевропейской философии и даже при определенных обстоятельствах внести в нее свой посильный вклад. Открыта эта возможность для представителей всех этнических групп, религий и цивилизаций.
Но если представители сложившихся цивилизаций и четко оформленных философски культур (таких, как исламская, индийская, китайская, японская и т.д.), принимая базовые установки Запада, отказываются от одного философского формализма, от одного герменевтического круга в пользу другого с полным и ясным осознанием смены герменевтической парадигмы, одновременно имплицитной и эксплицитной, то русский человек, делающий своей судьбой судьбу Запада, призван отречься от чего-то исключительно имплицитного, неясного и неоформленного, что он сам и выразить-то, как правило, толком не может -- настолько оно размыто, смутно и неопределенно. Русский призван отречься от своего восприятия как «нечто» того, что западная философия и культура воспринимают как «ничто». И, на первый взгляд, нет ничего этого проще, так как русское «нечто» остается на уровне интуиции и смутных ощущений, и на интеллектуальном уровне пренебречь этим, как кажется, не составляет никакого труда. Однако в этом и коренится вся трудность. Принятие западной судьбы для русского поначалу представляется чем-то простым в силу того, что ему практически не от чего отказываться. И чем больше он будет погружаться в западный герменевтический круг, тем меньше будет оставаться того, от чего ему следовало бы отказаться. Но этот процесс может привести к парадоксу: отказываясь от того, что западная философия видит как «ничто», вставая на сторону герменевтического круга Запада, русский человек ни от чего не отказывается. То есть он не видит необходимости пересекать границу, оставляя по эту сторону что бы то ни было. Но ни от чего не отказываясь, русский не отказывается и от своей русскости, которая в такой ситуации кажется «ничтожной». Не отказываясь от этой «ничтожной» детали, русский осуществляет приближение – приравнивая «ничтожное нечто» (неформализованное и невнятное) к чистому «ничто». Тем самым он избавляется от необходимости прохождения процедуры обращения (конверсии), от обряда адапции, от важнейшего момента смены парадигм. Значит, он вступает в западноевропейский герменевтический круг как ни в чем не бывало, оказываясь с первых шагов как бы внутри этого круга -- уже по эту сторону границы.
Ни от чего не отказываясь, русский человек не отказывается от своей русскости. Она слишком ничтожна для того, чтобы от нее отказываться. И сама западная культура только укрепляет русского в этой уверенности. Поэтому русский двигается в западную философию свободно и раскованно. На первых порах это никак его не затрагивает. В этом и состоит подвох: раз русский в своей интеграции в западноевропейский круг ни от чего не отказался, он попадает туда принципиально таким же, каким был, то есть русским. И вот здесь-то и дает о себе знать русский фокус А (близкий к нулю, но не нулевой; ничтожный, но все-таки существующий). И именно он на каком-то этапе начинает действовать в качестве «странного аттрактора», постепенно все более и более искажая западный круг и превращая его в эллипс. И так рано или поздно мы приходим к тому, с чего начали – к сбитой, искаженной и патологической модели размывающейся герменевтики, к археомодерну. В нем структура западноевропейского круга, его смыслы, его судьбы и ускользнут от нас, превратятся постепенно в гротескные невнятные образы, сойдут со своих семантических орбит и контекстуальных мест, перемешаются в причудливой конструкции интеллектуальной галлюцинации.
Конечно, если русский уезжает на Запад, интегрируется в европейскую жизнь окончательно и бесповоротно, через определенное время русское начало может выветриться само собой, не находя никакой интеллектуальной опоры в западной культуре, не имея ни места, ни имени, ни смысла. Это начало может пропасть, а русский может стать законченным европейцем, полноценным носителем западной судьбы. Но если русский остается в России, где археомодерн является доминантной интеллектуальной средой, где все герменевтические пропорции чудовищно искорежены и фокус А (схема1) постоянно подпитывается невыразимыми, немыми, но чрезвычайно действенными и влиятельными энергиями, то шансов настоящей европеизации у него практически нет. Возможна только пародия. Русский археомодерн способен переварить не только интенцию стать европейцем, но и самих европейцев, которые вполне могут на каком-то этапе полноценно русифицироваться в культурном смысле, то есть оглупеть и стать экстравагантными самопародиями. И даже те русские, которые оказываются на Западе в силу обстоятельств, не имея ничего заведомо против западной культуры, как показывают многочисленные примеры, в какой-то момент начинают ощущать свое фундаментальное отличие от этого общества с иной семантичной структурой и иной судьбой. Иногда именно они, русские эмигранты на Западе, и предпринимают самые внушительные попытки формализовать и конституировать невнятное и не оформленное, но явно выпадающее из культурных смыслов Запада, русское начало в нечто более самостоятельное и отдельное. Иными словами, в эмиграции русские часто начинают понимать, что это «почти ничто», которое было слишком ничтожно, чтобы на него и внимание обращать, оказалось далеко не таким уж ничтожным, и более того, его значание, которым пренебрегли на входе в европейский круг, очень велико в интеллектуальной и культурной конституции русского человека. Поэтому наиболее внятными соображениями относительно особенности русской души, русской культуры, и даже о возможности русской философии, мы чаще всего обязаны русским, оказавшимся по тем или иным причинам за пределами России и способными посмотреть на Запад, другие страны и на самих себя несколько со стороны. Именно те, кто не расстворились в Западе, внесли наибольший вклад в позитивное переосмысление русской самобытности (таков, в частности, случай русских евразийцев, оформивших свои интуиции именно в условиях вынужденной эмиграции в Европу).
Философия и горизонты «неглупости»
«Ничтожность» русского в контексте европейской культуры весьма способствует сохранению и укреплению археомодерна. Она препятствует тому, чтобы мы смогли формализовать конфликтное семантическое сосуществование двух фокусов герменевтического эллипса, разделить их поле, ясно понять границу между западным кругом и собственно русским Началом. Нам кажется, что мы беспрепятственно понимаем Запад, и что это для нас естественно. И пока это затрагивает только поверхностные бытовые, технологические, стилистические элементы, все идет гладко. Не составляет проблем и усвоение определенных рациональных методик – например, естественных и, в некоторых случаях, прикладных гуманитарных наук. Единственная сфера, где все внутренние противоречия вскрываются и археомодерн дает знать о себе в полный голос – это философия. Здесь-то и обнаруживается вся бездна археомодернистского безобразия. Начиная философствовать, затрагивая сам нерв западной культуры, силовую линию ее судьбы, русские очень скоро переходят на диссонансы, соскальзывания, смысловые сдвиги, путаницу в понятиях и суждениях, обобщениях и выводах, все яснее с каждым следующим шагом демонстрируя глубокую степень выпадения из самой стихии философствования, создавая нелепые химеры, проявляя горячность и вдохновение, подчас даже гениальность (но чаще всего наивность и идиотизм) там, где студенты европейской школьной философии управляются без каких-либо проблем. Но, как правило, сами русские, пытающиеся философствовать, этих несообразий не замечают и, в упоении от самих себя, подражают философствующим европейцам – удачно или не очень удачно – имитируя их поведение в мыслительной сфере. В тайне все русские догадываются о том, что имеют дело с «мыслеподражанием». Но специфика археомодерна состоит в том, что он основан на лжи, и поэтому эта догадка, точнее, истинное знание, тщательно максируется, подавляется и рассеивается, возвращаясь волнами невроза или подчас психоза, столь свойственных русским философам, которые часто выглядят более глупыми, чем русские нефилософы, именно потому, что в их случае свойственная археомодерну изначальная культурная искаженность размещается в свете ясных лучей западной философии, в которых вся нелепость выходит наружу. Но археомодерн делает усилие и снова скрывает данность, делая вид, что «ничего не происходит», что «все идет своим чередом», «что так и надо». Так как критериев нет, то дальше начинается игра, в которой «философом» может быть признан уже какой-нибудь законченный остолоп, по совокупности признаков и причин вообще никакого отношения к философии не имеющий.
Вот этот момент является ключевым в заходе на излечение архемодерна. Чтобы выделить западноевропейский герменевтический круг, надо его отделить, отслоить от археомодерна. Но для этого надо уметь отличать глупость от «неглупости». Чтобы сделать это, надо быть «неглупым». Однако «неглупым» в этом философском контексте может быть только носитель западноевропейского герменевтического круга. Он, и только он, может четко сказать: вот -- философия, а вот – «нефилософия». Но дело в том, что западноевропейским философам совершенно не интересно разбираться в трудах философов русских: то, что в них похоже на западную философию, они и интерпертируют в западном ключе, а то, что не похоже -- сбои, нелепости, натяжки, несоответствия, то есть весь археомодернистский аппарат «мыслеподражания» – они не замечают или считают «погрешностью перевода». Так как собственно Россия как не-Запад для них есть «ничто», то эти «ничтожные» проявления «ничто», причем чужого «ничто», их нисколько не заботят.
Итак, западные европейцы безразличны к проблеме выделения в русском археомодерне того, что было бы собственно модерном, хотя теоретически и способны к этому. А русские, будучи сами археомодернистами, неспособны провести различие между своей имитацией и тем, что она имитируют.
Это создает основную преграду на пути постановки задачи излечения от археомодерна, и соответственно, подхода к осмыслению возможности русской философии. Только там, где в археомодерне можно выделить, изолировать и вынести вовне западноевропейский герменевтический круг, можно говорить о возможности русской философии, то есть о развертывании особого герменевтического круга вокруг русского фокуса А (схема1 – пунктир). Или наоборот: идентифицировать западноевропейский круг в герменевтическом эллипсе возможно только с позиций гипотетической русской философии (пусть потенциальной, возможной), так как для этого надо понять не только, что есть западноевропейская философия, но и где заканивается в русском контексте сфера ее компетенции и где начинается собственно русское. При этом собственно русское здесь должно быть взято не только как нечто интуитивно схватываемое, но как Начало, точнее, как Начало философии, способное развернуться в полноценную структуру, соспоставимую с масштабами, параметрами и горизонтами, характерными как для западноевропейской философии, так и для философии китайской, индийской, иранской, арабской и т.д.
Последовательность операций в строительстве русской философии
Выделение архемодерна как такового, способность, не закрывая глаз, столкнуться с его истиной уже само по себе есть обоснование возможности русской философии, поскольку, если бы этой возможности не было, не было бы и той позиции, откуда можно было бы распознать герменевтический эллипс как фигуру с двумя фокусами: ведь мы видели, что европейцы к такому выводу прийти не могут по одной причине, а пытающиеся имитировать философствование в западноевропейском духе русские – по другой. Только там, где наличествует возможность именно русской философии, то есть только там, где фокус А воспринимается как потенциальный полюс русского философского круга, как философское arch, как русское философское Начало, возможно:
-- назвать археомодерн «археомодерном»,
-- описать корректно его структуру,
-- отделить западноевропейский философский круг от археомодернистского эллипса,
-- подготовить пространство для сосредоточения внимания на построении русской философии.
И все это не последовательность нескольких операций, а одна и та же операция, так как все движения внутри этой топологии возможны только в ходе осуществления особого обобщающего единого шага, развертывающегося сразу во всех направлениях. Все сводится к новому и новому размышлению над фигурой герменевтичеcкого эллипса: в этом ключ. Осмысляя этот образ, мы можем совершить следующие последовательные шаги:
1) направиться к вычленению структуры западноевропейской философии;
2) приступить к изучению археомодерна через корректную интерпретацию основных его методологий, в каждой из которых на этом этапе можно выделить собственно западноевропейскую составляющую, которая станет для нас отныне осмысленной и однозначной (а не двусмысленной);
3) методом вычитания из археомодерна собственно европейского философского космоса получить остаток, не поддающийся корректной интерпретации в этих рамках, и тем самым наметить зону вероятного нахождения собственно русских – архаических – смыслов;
4) в зоне архаических русских смыслов попытаться выделить приблизительную структуру, предварительно и интуитивно наметить центр и периферию;
5) приступить к выяснению собственно русского герменевтического круга, доказывая возможность русской философии самим построением русской философии, то есть эксплицитным ее выведением из имплицитного русского философского Начала (arch).
Наряду с этой основной последовательностью, мы можем сосредоточиться и на иных направлениях, пойти разными путями и по разным маршрутам. Главное – мыслить археомодерн как таковой и искать возможности его преодоления.
Значение М Хайдеггера для выхода из герменевтического эллипса
К имени Мартина Хайдеггера мы не раз апеллировали, заявляя инициативу по выяснению и обоснованию возможности русской философии.
Хайдеггер важен для нас уже потому, что он является величайшим западноевропейским философом, жившим вплотную к нашему времени и, значит, актуализировавшим центральные темы этой философии. Кроме того, сам Хайдеггер считал себя мыслителем, завершающим европейскую философию и составившим развернутую эпитафию этой философии. В этом смысле он был пророком наоборот: он провозвещал грядущий смысл прошедшего, тогда как обычные пророки просто описывают будущее, наделяя его, сплошь и рядом, смыслом, заимствованным из прошлого и настоящего. И, наконец, внимательное исследование полноты хайдегеровского наследия показывает, что он создал полноценную и емкую историю философии, основанную на выделении главных моментов ее логики, ее алгоритма, что облегчает понимание структуры ее герменевтического круга и принципально для тех, кто стремится и надеется понять ее с начала и до конца.
Для задачи размыкания русского археомодерна философия Хайдегера и ее корректное постижение может иметь решающее значение.
Замкнутый цикл русского непонимания
Распознав археомодерн как археомодерн, то есть в его истине, мы с необходимостью пришли к выводу, что русские, пребывая под давлением археомодерна, неспособны в силу самого этого факта понять западноевропейскую философию, и эта неспособность, по правилам археомодерна, выражается в их уверенности, что они все очень даже способны. В рамках герменевтического эллипса этого осуществить нельзя, но признание этой неспособности уже само по себе есть решительный шаг к преодолению археомодерна. И как только мы признаем, что не понимаем и при сохранении таких условий не способны понять западноевропейскую философию, мы одним жестом освободим пространство от псевдопонимания и, в частности, от запутанного наследия, которое является мусором, бременем и ловушкой. Перечеркнув любое сделанное русскими философами суждение о чем бы то ни было как заведомо нерелевантное во всех смыслах, мы подготовим пространство для нового обращения к западной философии, которое станет местом нового выяснения: неспособны мы это сделать вообще или только в рамках археомодерна (а вне этих рамок, может быть, и способны)?
Ответ определится в процессе того, как, признав безусловную неспособность сделать это в рамках археомодерна и вынеся за скобки все, что так или иначе к этому относится (то есть все в творчестве русских и советских философов), мы приступим к постижению структуры западного герменевтического круга с нулевой отметки, признав, что нам неизвестны ни его частное, ни его общее, ни его центр, ни его периферия, ни его структура, ни вектора главных протекающих внутри него процессов. Но если это так, то мы должны будем заведомо отказаться от возможности переводить западноевропейскую философскую литературу от Парменида до Делеза на русский язык и с сомнением отнестись к возможности адекватно понять ее русским сознанием на языке оригинала -- ведь сам язык есть часть западноевропейского герменевтического круга, который мы условились считать неизвестным. Поэтому нам просто необходимо взять где-то начальное представление сразу и о целом, и частном, и о структуре, и о процессах, и о функциях, и о наборе аргументов, и о парадигмах, и о синтагмах, и о языке, и о дискурсе. На практике это означает, что нам пришлось бы принять за отправную точку такого философа, который составил бы наиболее внятную и убедительную и одновременно компактную и близкую к нам по времени историю философии, голографически заключающую в себе историю всего Запада, его культуры, общества и мышления.
Поверить Хайдеггеру
Мы не можем понять западную философию именно потому, что мы не имеем в своей собственной культуре точки пересечения ее смыслов -- ядра, которое по факту генетической принадлежности являлось бы инстанцией, придающей множеству философских и культурных явлений цельность, связность, последовательность и гармоничность. Будучи чем-то само собой разумеющимся внутри европейской культуры, эта точка, это ядро редко описываются западными философами эксплицитно. Лишь в определенные критические периоды западной истории великие мыслители берутся всерьез за такое выяснение.
Мартин Хайдеггер -- именно такой мыслитель, и мыслил он именно в критический момент западноевропейской истории, когда она достигла своей крайнего предела и встала перед фундаментальной проблемой «ничто», будучи призванной в экстремальной ситуации осуществить глубиную ревизию своего содержания, своей структуры, своего ядра и своей истории и описать это в эксплицитных понятиях. Все это и проделал Хайдеггер. Он и дает нам, русским, уникальную возможность понять то, что естественным образом мы понять не можем. Хайдеггер в этом смысле особенно уникален именно для нас. Он говорит прямым текстом о том, что составляет основу западной философии, размышляя над ее Началом и ее Концом, а также о возможности ее другого Начала (80). Для Хайдеггера путь этой философии принципиально завершен, и в нигилизме ХХ века она нашла свое исчерпание и свой предел. Поэтому только сейчас эта философия видна вся целиком – от истоков до ее крайних пределов, а, следовательно, перед нами лежит она целиком как развернутая актуальность. Не всякий может это осознать в должной мере и, может быть, в должной мере этого сделать не может никто, но Хайдеггер, так же, как Ницше, обращаясь «ко всем и ни к кому», делает это в пронзительной и ясной манере.
Для возможности русской философии мысль Хайдеггера может стать точкой отсчета. Если мы поверим Хайдеггеру, если мы примем его философию не просто как часть западноевропейской философии, но как ее сумму, повествующую нам обо всей ее структуре в целом, мы, при определенных обстоятельствах, будем способны преодолеть наше фатальное ограничение и ступить по ту сторону археомодерна. Это не значит, что мы спроецируем хайдеггеровскую философию на нашу культурную среду -- это бесполезно, ненужно и только усугубит патологию. Мы должны рассмотреть Хайдегегра и его идеи за пределом русского эллипса, в рамках чисто европейского культурного круга(81). Более того, следует принять философию Хайдеггера за сам этот культурный круг, за его голографическое выражение, с которым можно работать таким образом, что в ограниченные сроки и в ограниченном пространстве мы получим пусть схематичные и обобщающие, но полноценные представления о структуре всей западной философии.
Альтернативы Хайдеггеру
Встает вопрос: можем ли мы доверять Хайдеггеру? Ответ можно дать методом от противного.
Чтобы не доверять Хайдеггеру, надо иметь определенные основания и аргументы, почерпнутые из какого-то конкретного источника. Из какого? Например, из философии какого-то иного западноевропейского философа. Это логично, но для этого «другой европейский философ» должен отвечать некоторым условиям. Он должен:
1) создать полноценную, емкую и убедительную картину истории философии,
2) быть великим, гениальным и ослепительно мудрым,
3) ставить в своей философии наиболее центральные вопросы – о начале, бытии, мышлении и т.д.
4) стараться в своей философии описать саму структуру западноевропейской философии в целом, а не в частностях и отдельных направлениях,
5) быть максимально близким к нам по времени и учитывать наиболее важные события в философском процессе, и шире – в самой западноевропейской истории.
Мне даже отдаленно не приходит в голову ни одного имени, кроме Хайдеггера, которое было бы здесь уместно упомянуть. Разве что Витгенштейн и Гуссерль, но при всей их несомненной гениальности и актуальности в сравнении с масштабом Хайдеггера они теряются, а наиболее ценные моменты их философствования так или иначе затрагиваются и развиваются Хайдеггером. То же самое можно сказать и о Ницше, которого Хайдеггер считал «последним философом», но прочтение которого сегодня трудно даже себе представить вне хайдеггеровской интерпретации. Если все же кто-то выдвинет ту или иную кандидатуру, a priopri этому не стоит возражать (кроме откровенно нелепых предложений), но общий подход должен быть тем же: нам необходим гениальный европейский мыслитель, близкий нам по времени и разработавший полноценную и эксплицитную историю философии. В XIX веке такой бесспорной фигурой был Гегель, и именно через него только и можно было хоть как-то отнестись к западной философии. В ХХ веке в левом политическом контексте аналогичную функцию выпонял в чем-то продолжающий и развивающий Гегеля Маркс. Отталкиваясь от Гегеля и Маркса, любая неевропейская культура могла в ускоренном режиме составить себе определенное представление о европейской культуре в ее основных исторических и социально-политических измерениях. Но ХХI век диктует иные условия, и никакого, даже отдаленно сопоставимого с Хайдеггером мыслителя, мне не видится.
Вторая возможность сомневаться в адекватности выбора фигуры Хайдеггера проистекает из археомодерна. Гипноз этой структуры, во-первых, снимает идею необходимости постижения западноевропейской философии с нуля (для чего и необходима история философии), и во-вторых, развивая это первое нездоровое мнение, порождает стойкую и ни на чем не основанную уверенность, что «современный русский философ» и даже просто «некто, интересующийся философией» может «свободно» делать тот или иной вывод, то есть подвергать сомнению и критиковать кого и что угодно лишь на основании «личных взглядов, представлений и предпочтений». То, что индивидуум не способен создать философии с опорой только на свою индивидуальность и вне опоры на культурный контекст, ясно всем, кроме законченных либералов-фанатиков, но их случай мы подробно рассматривать не будем.
Мы ищем путей преодолеть археомодерн, выйти за его границы. Тот, кто не солидарен с этой инициативой, просто не должен приниматься в расчет.
Основные моменты западной философии
Изложение и анализ идей Хайдеггера и основных моментов его истории философии мы осуществили в книге «Мартин Хайдеггер: философия другого Начала»(82). Для нас сейчас важно, как применить этот анализ к другой задаче: выйти за пределы археомодерна через четкое представление о структуре западноевропейского герменевтического круга. Поэтому, отсылая к предыдущей книге за более содержательным и подробным разбором хайдеггеровских идей, мы воспроизведем здесь лишь самую общую схему, касающуюся истории философии.
1. Хайдеггер отождествляет историю философии Запада с судьбой Запада.
2. Сам Запад он считает универсальным явлением, а его судьбу – общеобязательной для всего человечества.
3. Вместе с тем эта судьба уникальна и имеет отношение только к Европе.
4. Западное человечество есть голограмма всего человечества, в этом его универсальность, его особенность и его философская миссия, совпадающая с самой философией.
5. Философия Запада имет строго фиксированное Начало (первое Начало – Анаксимандр, Гераклит, Парменид) и строго фиксированный Конец (Гегель, Ницше). Между ними простирается вся структура западноевропейской метафизики.
6. Смысл этой метафизики сводится Хайдеггером к онтологической проблематике, к различным версиям толкования соотношения между бытием (Sein) и сущим (Seiende) и к выбору между двумя возможностями понимания бытия – Sein и Seyn.
7. Пройдя все возможные этапы развертывания, западная метафизика в ХХ веке подошла вплотную к осознанию того, что в ходе своей истории она утратила бытие, на место которого вступила его противоположность – ничто.
8. В окончательном оформлении утраты бытия и постановки в центр ничто состоит смысл Нового времени, кульминацией которого стала философия Ницше, впервые четко обозначившего «смерть Бога» и наступление эпохи «европейского нигилизма».
9. Такой финал, согласно Хайдеггеру, был заложен в самом Начале западной философии, которая отнеслась к бытию как к сущему и этим ходом (лишь отчасти верным) предопределила судьбу Запада.
10.Западная история есть проживание трагической утраты бытия.
11.В ХХ веке эта драма достигла развязки. Смыслом истории стали грандиозные и последовательные этапы трагического опыта. Потребовалось две с половиной тысячи лет и высшее напряжение духовных сил, чтобы воплотить в культуре, философии и истории это трагическое положение дел.
Такова в общих чертах структура западной философии и ее герменевтического круга в изложении Хайдеггера.
Ничто и катастрофа
В центре круга стоит проблема бытия, сформулированная досократиками, а позже Платоном и Аристотелем. Эта проблема была оформлена в особых терминах, в особом контексте и ракурсе, что предопределило судьбу Запада. Эта судьба имеет самое прямое отношение к этим изначальным определениям – в семантическом и даже лингвистическом смысле, и эта семантико-лингвистическая связь играла решающую роль на разных этапах развертывания этой истории, предопределяя ось развертывания западной философии. Важно не только то, что бытие стало проблемой, важно и то, в каких терминах, словах, понятиях и образах, в каком этимологическом и семантическом контексте эта проблема была изначально сформулирована. Все последующие переформулировки, переводы и пересказы так или иначе соотносились именно с первичными формами.
Сам язык как явление стоит в центре философии; содержание языка выражает структуры мышления. Отсюда вывод об органическом единстве западной культуры, которая скреплена общностью семантических групп, логических и языковых структур, философских установок, действующих во все периоды с сохранением внутренних философских структур, скрепляющих все в нечто общее, целое.
Между досократиками и Ницше натянут канат, по которому, балансируя, с пируэтами, прыжками, отступлениями, сложными и рискованными движениями, передвигалась западноевропейская метафизика. Все в западной культуре – от самых возвышенных религиозных созерцаний до самых простых технических средств, мотиваций и бытовых установок -- пронизано лучами этой метафизики, черпает именно в ней смысл, содержание и значение.
Вся история Запада являестя текстом, смысл (интенсионал) и значение (экстенсионал) которого смыкаются в структуре этой метафизики, центрированной на проблеме бытия. Эта центрированность не всегда эксплицитная, но всегда главенствующая. Даже отсутствие вопроса о бытии интерпретируется отсылкой к нему -- как воля самого бытия, волящего свое сокрытие (Seinsverlassenheit).
Еще глубже лежит отношение бытия с ничто. В западной метафизике редко можно найти их верное (согласно Хайдеггеру) соотнесение; она либо, в духе Парменида, заявляет, что «небытия нет» («и напрасно», -- утверждает Хайдеггер, -- так как «небытие есть»), либо, в духе Платона, помещает бытие в область высшей идеи (упраздняя тем самым из него небытие и приравнивая к сущему), либо, в духе Плотина, сводит небытие к умалению Единого, либо, в случае максимально приблизившегося к подлинным пропорциям Гегеля, облекает онтологическую проблематику и проблему ничто в неверную систему «концептов» («понятий»). Упущенное из виду ничто и некорректно представленное и осмысленное бытие ведут западную метафизику по дороге развертывания указания на то, как и в чем произошла ошибка. Это выражается в развитии техники и Gestell, которые представляют собой механизмы действенного нигилизма, возвращающие в брутальной и разрушительной форме ничто туда, где оно было слишком поспешно и легковесно упразднено.
Таким образом, история философии, по Хайдеггеру, как и западная история как таковая, есть история катастрофы – фундаментальной вселенской метафизической катастрофы. Она-то и развертывалась от Гераклита до Ницше и принципиально завершилась на нем. Тот факт, что техника еще не уничтожила человечество окончательно, Хайдеггер объясняет задержкой, необходимой для того, чтобы окружающий мир пришел в соответствие с миром идей, в котором все уже состоялось. Правда, у этой задержки может быть и еще одни смысл.
Для самого Хайдеггера как для человека Запада конец западноевропейской философии есть тоже дело исключительно Запада. Только Запад обладает ключом к самой философии, и соответственно, только ему внятен смысл ее Конца. Это совершенно верно, так как и Конец и Начало (первое Начало) означают нечто конкретное только в контексте самого западноевропейского герменевтического круга. Смысл Конца философии, по Хайдеггеру, состоит в том, чтобы осмыслить, насколько неверной изначально была траектория, по которой пошло развитие этой философии. И именно осознание её ложности должно вывести Запад к истине и к новому Началу (другому Началу).
Обнаружение Dasein'а и его значение
Здесь кроется самое важное. Исследуя структуру изначального заблуждения и подготавливая почву для нового (другого) Начала и следуя на этом пути линии Гуссерля, феноменологии в целом и философии жизни, а также структуралистскому подходу, Хайдеггер, в созвучии с поздним Витгенштейном, обращается как раз к тому, что остается от достоверных моментов мышления после того, как из него будет вычтена вся западноевропейская метафизика. Ее Конец служит импульсом, подталкивающим Хайдеггера к выяснению той базовой пред-метафизической и даже пред-философской достоверности, на основании которой была построена вся позднейшая конструкция. Так он приходит к понятию Dasein (сюда же относятся тезис Гуссерля о «жизненном мире» (Lebenswelt), понятие «языковой игры» (Sprachspiel) Витгенштейна и «структуры» структуралистской философии).
Dasein – это то безусловное, что лежит в основании философии, но что в процессе становления западноевропейской мысли укрепляется в своем неаутентичном состоянии: так Хайдеггер трактует «онтологию» в целом. Что в этом Dasein'e является всеобщим, а что собственно западным? Это чрезвычайно важный вопрос. Dasein обнаруживается как фундаментальное явление на Западе и в значительной мере как глубинная критическая рефлексия относительно самой природы западной философии и метафизики. В этом своем генетическом и историческом измерении Dasein является открытием Запада, внятным в контексте именно западного герменевтического круга. Но вместе с тем, сам он является результатом вычитания из общего онтического феномена человека собственно западной философии и метафизики, то есть представляет собой остаток, сохранившийся после вынесения за скобки онтологии или, иными словами, тем, что остается от Запада, если из него вычесть его – сугубо западную – историю (и историю философии).
Но можно ли тогда причислять Dasein строго к моменту западного герменевтического круга, если его смысл состоит в освобождении от самого этого круга? Еще яснее на это указывает перспектива другого Начала и сопряженного с ним Ereignis'а, которые мыслятся Хайдегегром как прыжок прочь от западной метафизики. По Хайдеггеру, этот прыжок может осуществить только сама западная философия, которая призвана адекватно расшифровать саму себя как двух-с-половиной тысячелетнее заблуждение. Только тогда возможен поворот к новому Началу. Но чтобы быть чистым, это Начало должно быть совершенно иным, то есть, в каком-то смысле, незападным, коррелированным с западным радикально обратным образом, как истина коррелирована с ложью.
Если отнестись к предложению Хайдеггера о новом Начале с полной серьезностью и ответственностью, то оно перестанет быть обращенным только к Западу. Являясь отрицанием Запада, хотя и не простым, но коренящимся в глубинном переосмыслении всего пути западной истории, это Начало может быть отнесено и к незападному контексту. Что является точно и строго западным, так это философия и соответствующий ей герменевтический круг, причем философия, вытекающая из первого Начала и на нем построенная, из него происходящая и в соответствии с ним завершившаяся на Ницше и европейском нигилизме. Dasein является западным в той мере, в которой эта философия на нем надстроена и в которой (обратным образом – через режим неаутентичного экзистирования) он в ней выражается. Но сам по себе Dasein вполне мыслим и вне Запада. Да, чтобы понять его полезно окинуть взором всю картину западноевропейской философии; он станет в таком соотнесении внятным и объемным. Но если нам удастся проделать эту операцию корректно, мы прийдем к чему-то, что представляет собой базовое явление человеческого наличия, бытия и мышления в их чистом – предфилософском, до-начальном – виде. То, что Хайдеггер отрыл этот этаж в истоках западноевропейской философии и одновременно обнаружил его под ее обломками, является чрезвычайно важным обстоятельством, но не определяющим для природы Dasein'а. Природа Dasein'а не является западной – ни в логическом, ни в историческом, ни в метафизическом смыслах. Для Запада Dasein являет себя в философии и истории по-западному. Но есть культуры и общества, есть сферы бытия и человеческого проявления, где Dasein наличествует, но проявляет себя иначе, чем на Западе. Для западного человека признать это почти невозможно, но для остальных культур данный «расизм» необязателен. В философском смысле есть только западный человек, но, выйдя за горизонты философии, мы обнаруживаем и человека, и бытие, и мышление в других местах. Показательно, что согласно некоторым японским интеллектуалам – например, Томонобу Имамичи – сам Хайдеггер почерпнул представление о Dasein'е из японских источников, а конкретно, из работы японского комментатора Чжуан Цзы Окакуро Какудзо «Книга чая» (83). Одним словом, если внимательно вдуматься в Dasein, мы вполне можем обнаружить его признаки в самых разных культурах – как в развитых, так и в примитивных. Если есть человек, должен быть и Dasein.
И вот здесь мы затрагиваем самое главное. В отношении русского археомодерна и соответствующего ему герменевтического эллипса Хайдеггер может служить двойным ключом:
1) он позволяет обобщить западноевропейский герменевтический круг, выделить его внутри герменевтического эллипса и таким образом сделать возможным корректную и однозначную интерпретацию любого момента, понятия или эпизода философии в контексте структурированной западноевропейской метафизики (сам Хайдеггер называет эту операцию «феноменологической деструкцией», которую Ж. Деррида позднее обозначит как «деконструкцию»). Это значит, что русские впервые по-настоящему получают возможность выстроить адекватные пропорции философии независимо от того, присоединятся ли они к ее нынешнему нигилистическому состоянию, превращая ее в свою судьбу (это будет ответственный и осознанный выбор – как добровольное самоубийство), или поместят ее на справедливую дистанцию, за пределы собственно русского бытия, как посторонний и не порождающий никаких иллюзий объект (что будет являться освобождением от многовековой интеллектуальной диктатуры и обретением подлинной свободы мысли);
2) вводя Dasein и методику его экзистенциальной аналитики, Хайдеггер дает нам начальный инструментарий, который может быть использован для выяснения природы собственно русского Начала. Он открывает путь к выяснению предпосылок возможного развертывания русской философии по тому сценарию и в рамках той структуры, которые заложены в качестве её собственной подлинной судьбы в этом Начале; это и будет в таком случае русским новым Началом. При этом, если для Запада речь пойдет о другом Начале, то для русских – именно о первом Начале, так как то, что было для Запада первым Началом, для нас еще и не начиналось, а то, что якобы «начиналось», было недоразумением, «фальстартом» и историческим анекдотом.
Сделав над собой усилие и поняв Хайдеггера, мы оказываемся в радикально новых философских условиях: блокирующий русскую мысль герменевтический эллипс рушится, колесо западноевропейской метафизики откатывается от него на должное расстояние, оставляя нас один на один с русским полюсом, с фокусом А, и ничто больше не мешает нам сосредоточить на нем все наше внимание. Мы приступаем к этой задаче не всплепую и не в отрицательном режиме отбрасывания всего напоминающего нам Запад, но вооруженные предварительным аппаратом, выработанным для того, чтобы описывать и изучать явления, лежащие вне западной метафизики.
Можно назвать это направление русской феноменологией или аналитикой русского Dasein'а. Это, конечно, еще далеко не начало русской философии, но это, по меньшей мере, шаг к обоснованию ее возможности и к формализации тех предпосылок, на которых она может быть основана в перспективе.
Мы подходим к истокам рассмотрения русской судьбы как того, что прячется в глубине русских как явления. То, что в этом деле нам служит философия Хайдеггера (шире, феноменологический метод), можно рассмотреть как предварительную фазу, за которой последуют собственно русские – и в лингвистическом, и в методогическом смысле – этапы, и как компенсацию за то «колониальное» влияние, которое оказывала на Россию западная культура, блокируя перспективы нашего свободного и гармоничного развития.
--
Примечания
(1) См. Guenon R. Introduction generale а l'etude des doctrines hindoues. Paris, 1964; Idem. Orient et Occident. Paris, 1976. По-русски, см. Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М., 2004.
(2) Dumont L. Homo Hierarchicus. Paris:Gallimard, 1979; и особенно, Idem. Essais sur l'individualisme. Paris: Seuil, 1991. Во второй книге известный французский социолог Луи Дюмон убедительно показывает, что индийская культура и философия основана на индивидуализме и негативной оценке имманентной социальности не в меньшей, если не в большей степени, нежели современная западная либеральная буржуазная культура или западно-христианская религия, но делает она это совершенно иным способом и приходит к совершенно иным формам – аскеза, отрешенность, созерцательность, погружение в себя, йога и т.д.
(3) Здесь можно обратить внимание на следующее. Арабская и, шире, исламская философия, безусловно, явление масштабное и бесспорное. Не подлежит сомнению и самобытность и оригинальность исламского мышления и его богословских основ. Но нельзя не обратить внимание на ту огромную роль, которую сыграла в становлении исламской философии философия греков, распространенная во всем эллинистическом мире, значительная часть которого вошла в состав халифата, начиная с эпохи исламских завоеваний. Другим важнейшим сегментом исламской философии стали философы среднеазиатского региона, принадлежащие к доисламской философской традиции иранского происхождения. Так что совокупно оригинальная семитская религиозность наложилась в исламе на очень существенные блоки греческого и иранского мышления. В Китае же, признав уникальность и оригинальность собственно китайских философских школ – даосизма и конфуцианства, стоит обратить внимание на роль буддизма и буддистской философии, чрезвычайно распространенной в Китае и имеющей индоевропейское происхождение. Эти соображения требуют проведения тщательного исследования того, в какой степени исламская и китайская философии были именно арабской и китайской, а с другой, в какой степени они были вообще философиями, то есть четко структурированными саморефлектирующими системами рациональных и систематизированных знаний. В исламе вполне можно выделить изначальный арабо-семитский религиозный догматизм, созвучный отчасти иудаизму, на который философия и наложилась (это утверждают представители т.н. «чистого ислама», салафиты и ваххабиты, призывающие очистить ислам именно от «философии»). В Китае стоит внимательнее изучить вопрос о том, что в конфуцианской и даосской традициях Китая является собственно философским, а что можно интерпретировать как этико-социальные учения, не ставящие философских (гносеологических, онтологических и т.п.) проблем в центре рационального рассмотрения с соответствующим уровнем саморефлексии. Но эти соображения ни в коей мере не умаляют значения и самобытности ни исламской, ни китайской философии.
(4) Heidegger M. Heraklit. 1. Der Anfang des abendländischen Denkens (Sommersemester 1943) 2. Logik. Heraklits Lehre vom Logos (Sommersemester 1944). Fr./M.: M. S. Frings, 1979. (GA 55) , Idem. Vorträge und Aufsätze (1936-1953).Fr./M.:F.-W. von Herrmann, 2000. (GA 7)
(5) Fink E. Heraklit. Seminar mit Martin Heidegger. Frankfurt am Main, 1970.
(6) Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.:Академический проект, 2010; Он же: Логос и мифос. Социология глубин. М.: Академический проект, 2010; Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté : essai sur l'imagination de la matière. P.: J. Corti, 1947; Idem. L'Eau et les rêves: essai sur l'imagination de la matière. РP.: J. Corti, 1942; Corbin H. L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabî. Р.: Flammarion, 1977, и особенно: Durand G. Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris, 1960.
(7) Дугин А.Г. Археомодерн/ Дугин А.Г. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009. С. 285-381. Видео лекции Дугина А.Г. «Археомодерн» из курса «Социология русского общества», МГУ, 2009: http://www.evrazia.tv/content/sociologiya-russkogo-obshchestva-lekciya-2....
(8) Дугин А.Г. Запад и его вызов/ Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора, 2009.
(9) Spengler O. Der Untergang des Abendlandes – Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München: C. H. Beck, 1963.
(10) Дугин А.Г. Запад и его вызов. Указ. соч.
(11) Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Эксмо, 2009 С. 266.
(12) Там же. С. 266.
(13) Там же. С.266.
(14) Там же. С.115.
(15) Там же. С.148.
(16) В этих сюжетах Сатанаил стремится соперничать с Богом, но ему это никак не удается, так как он пытается создать подобия Божиих творений из неподходящего материала. См. Русская мифология. Энциклопедия. М.: Эксмо, 2006.
(17) Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука/Университетская книга, 1999.
(18) Дугин А.Г. Русская вещь. Т. 1, М.: Арктогея, 2000; Дугин А.Г. Кадровые/Дугин А.Г. Русская вещь. Указ. соч. С. 569-575.
(19) Фильм Вернера Герцога «Агирре, Гнев Божий» тонко передает экзистенциальное состояние европейского романтического типа.
(20) Показательны петровских времен фигуры таких видных деятелей Русской Православной Церкви, как Феофан Прокопович (1681 — 1736) и Стефан Яворский (1658 -- 1722), оба малоросса. Яростно полемизируя между собой, эти два церковных иерарха по сути перенесли на русскую почву европейские споры между протестантами и католиками: Прокопович защищал протестантские позиции, а Яворский – католико-иезуитские.
(21) Соловьев В. Россия и Вселенская церковь. М.:ТПО Фабула, 1991.
(22) Асмус А.Ф. В.С. Соловьев: опыт философской биографии// Вопросы философии. 1992, №8.
(23) Отто Р. Священное СПб.: АНО «Издательство СПбГУ», 2008; Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.
(24) Строй соловьевского мышления точно соответствует тому, что Жильбер Дюран называл функционированием воображения в режиме «мистического ноктюрна». В психиатрии это описано как «глишроидный» (дословно, «склеивающий») синдром, связанный с эпилептическими расстройствами. См. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический проект, 2010; Он же. Логос и мифос. Социология глубин. М.: Академический проект, 2010; и Durand G. Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris, 1960.
(25) Соловьев В.С. Три силы//Соловьев В.С. Смысл любви. Избранные произведения, М., 1991. С. 28-40.
(26) Соловьев В. Сочинения в 2-х тт. Т. 2, М., 1988. С. 227.
(27) См. главный труд Фёдорова: Фёдоров Н.Философия общего дела: в 2 т. М., 2003.
(28) Флоренский П. Мнимости в геометрии. М.: Лазурь, 1991.
(29) Можно составить себе представление о стиле этой работы на основании следующего фрагмента из нее. -- «Но, имея в виду предлагаемое здесь истолкование мнимостей, мы наглядно представляем себе, как, стянувшись до нуля, тело проваливается сквозь поверхность — носительницу соответственной координаты, и выворачивается через самого себя, — почему приобретает мнимые характеристики. Выражаясь образно, а при конкретном понимании пространства — и не образно, можно сказать, что пространство ломается при скоростях, больших скорости света, подобно тому, как воздух ломается при движении тел, со скоростями, большими скорости звука; и тогда наступают качественно новые условия существования пространства, характеризуемые мнимыми параметрами. Но, как провал геометрической фигуры означает вовсе не уничтожение ее, а лишь ее переход на другую сторону поверхности и, следовательно, доступность существам, находящимся по ту сторону поверхности, так и мнимость параметров тела должна пониматься не как признак ирреальности его, но — лишь как свидетельство о его переходе в другую действительность. Область мнимостей реальна, постижима, а на языке Данта называется «Эмпирием». Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и из совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей, но переход от поверхности действительной к поверхности мнимой возможен только через разлом пространства и выворачивание тела через самого себя. Пока, мы представляем себе средством к этому процессу только увеличение скоростей, может быть, скоростей каких-то частиц тела за предельную скорость с; но у нас нет доказательств невозможности каких-либо иных средств.» Флоренский П. Мнимости в геометрии. Указ. соч.
(30) Иларiон Схимонах На горах Кавказа. СПб., 1998.
(31) Булгаков С.Н. Философия имени. М., 1997.
(32) Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. М., 1988. Т. 2. С. 704 - 762.
(33) Булгаков С. «Апокалипсис Иоанна» (Опыт догматического истолкования), Париж, 1948.
(34) Заметим, что тяжелой формой шизофрении страдала жена Леонтьева, крымская гречанка Елизавета Политова, что позволяет заподозрить в самом Леонтьеве определенную тягу к психопатологии.
(35) Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. // Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872-1891). М., 1996.
(36) Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995.
(37) Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование. тт. 1—2. СПб., 1885—89.
(38) Шпенглер О. Закат Европы М., Мысль, 1993.
(39) Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1990.
(40) Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997.
(41) Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999.
(42) Савицкий П. Н. Континент Евразия,. Указ. соч.
(43) Трубецкой Н.С. Религии Индии и христианство /Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. Указ. соч. С. 293-328.
(44) Флоровский Г. Евразийский соблазн / Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 324–325.
(45) Флоровский Г. Пути русского богословия. Киев: Путь к истине, 1991.
(46) Чаадаев П.Я. Философические письма/ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. том 1, Москва, изд-во «Наука»,1991.
(47) Там же. С.20-21.
(48) Там же. С. 15
(49) Там же. С.17-18.
(50) Там же. С.19.
(50-1) Там же. С.21.
(51) Цит. по Симонова И. Переписка западника и славянофила: письма Владимира Печерина Федору Чижову// Независимая газета 20.02.2008 (http://religion.ng.ru/printed/206632)
(52) См. о Печерине --Гершензон М.О. Жизнь В.С.Печерина. М., 1910; Штрайх С. В.С.Печерин за границей в 1833–1835/ Русское прошлое. Исторический сборник. Пг., 1923; Печерин В.С. Замогильные записки./Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989.
(53) Герцен А.И. Былое и думы. М.: Правда, 1979.
(54) Розанов В. Мимолетное. М.: Республика, 1994. С. 14.
(55) Там же. С. 14.
(56) Там же С. 207.
(57) Там же. С. 95-96.
(58) Там же. С.354
(59) Там же С. 172
(60) Розанов В.В. Сахарна. М.: Республика, 1998. С.27.
(60-1) Розанов В. Последние листья. М.: Республика, 2000. С.143.
(60-2) Там же. С. 143.
(61) Розанов В. Мимолетное. Указ. соч. С. 193.
(62) Там же. С. 281.
(63) Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М.: Московская правда, 2001.
(64) Гиппиус З. Задумчивый странник. О Розанове/ Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания, Тбилиси, 1991. Т.2. С. 88-125.
(65) Мережковский Дм. Тайна Трех. М.: Республика, 1999; Он же. Мессия. Рождение богов. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000.
(66) Лесков Н. Повести. Рассказы. М.: Художественная литература, 1973.
(67) Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии/ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. С. 419–459.
(68) Ленин В.И. Развитие капитализма в России/Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 томах. Т.3, М.:Госполитиздат, 1958.
(69) Ленин В.И. Государство и революция: Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции/ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.:Издательство политической литературы, 1974. С. 1–120.
(70) Сталин И. В. Сочинения. Т. 8. С. 61.
(71) Левин Ш. М. Общественное движение и России в 60- 70-с годы XIX века. М., 1958. С. 334; Каратаев. Н. К. Народническая экономическая литература. М., 1958. С. 125—159; См. также : Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1911. Т. I. С.170—172; Ткачев П. Н. Избранные сочинения. М., 1935, т. V. С. 73.
(72) Агурский М. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.
(73) Устрялов Н.В. Национал-большевизм. М., 2004.
(74) Основы евразийства. М.: Арктогея центр, 2002.
(75) Пильняк. Б. А. Собрание сочинений в 6 томах. Т 1. М.: Терра, 2003.
(76) Сыма Цянь. Исторические записки. Т.I –VIII М.,1972-2002.
(77) Русское слово «остолоп» образовано от старого глагола «остолпети», буквально означающего «остолбенеть», «остолбенеть от удивления, изумления, недоумения». Но Аристотель утверждал, что философом становится тот, кто способен «удивляться» (qaumazein). Поэтому остолоп – это именно тот человек, который удивился (и тем самым стал на путь, ведущий к философии), но не справился с этим удивлением и застыл как вкопанный, превратившись в столб. Подобная судьба постигла любопытную супругу Лота, решившую (вопреки запрету) посмотреть, что за ее спиной , происходит с Содомом и Гоморрой.
(78) Розанов В. Мимолетное. Указ. соч. С. 78.
(79) Чаадаев П.Я. Философические письма. Указ. соч.
(80) См. подробнее: Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
(81) Именно этой цели и служит первый том, посвященный философии Мартина Хайдеггера. См. сноску (80)
(82) См. сноску (80)
(83) Okakuro Kakuzo. The Book of Tea, New York, 1906.
Часть 2. Очертания русской онтологии
Глава 8. Феноменология русского Начала
Пунктир русского герменевтического круга
После необходимых предварительных замечаний можно приступить к нашей основной теме – к исследованию возможности русской философии. Теперь намечен путь, на котором можно планомерно и последовательно этим заниматься:
1) мы исключаем западноевропейскую философию, вытекающие из нее науки и содержащуюся в ее ядре метафизику из круга рассматриваемых нами вопросов (отбрасываем западноевропейский герменевтический круг, размыкая тем самым археомодернистический эллипс) и
2) сосредоточиваем внимание на архаическом фокусе – на точке А (схема 1), то есть на русском Начале (arch).
Русской философией будет осмысление точки А именно как Начала, которое в явлении самой философии может (и должно) начаться. Таким образом, мы намерены сосредоточить наше внимание на фокусе А и пытаться осмыслить возможность (и параметры возможности) вычерчивания вокруг фокуса А русского герменевтического круга.

А (русское Начало - arch)
Схема 9. Пунктир русского герменевтического круга
Мы не ставим на данном этапе задачу прочертить горизонт русской философии сплошной чертой – будет достаточно и того, что мы попробуем обосновать саму эту возможность, то есть доказать, что намеченная пунктиром окружность возможна. Но одно это потребует от нас чрезвычайных усилий: русское Начало и само по себе говорит чрезвычайно тихо, а скрежет периферийных форм западноевропейского философствования, и особенно агрессивный поток продуктов его распада в современной нигилистической фазе, вовсе не позволяют что-либо услышать.
Проблема метода
Какими методами мы будем исследовать автономный фокус А (схема 9) и его содержание? Как вообще определить – априорно и гипотетически -- его структуру, даже если позднее мы уточним или пересмотрим наше представление о нем?
При рассмотрении археомодерна нам интуитивно было ясно, с чем мы имеем дело: фокус А (схема 9) как минимум выступал в качестве источника систематического саботажа и искажения философских методик западноевропейского герменевтического круга, спроецированного на зону русской культуры. С внешней, социологической точки зрения общее пространство вокруг фокуса А (схема 1) Николай Данилевский определил как «восточно-славянский культурно-исторический тип», а Константин Леонтьев -- как «русский византизм». В литературе и публицистике мы часто обращаемся к понятиям «русской самобытности», «русского духа», «русского пути». У русских философов мы встречаемся с такими образами, как «всеединство», «София» (так или иначе -- отдаленно у В.Соловьева и более конкретно у С.Булгакова и П.Флоренского --соотнесенными с Россией), «историческая миссия русских», «судьба русского народа». Все эти наименования справедливы и оправданы: они стремятся назвать и описать нечто существующее, наличествующее, безусловное и очевидное для тех, кто об этом пишет, думает, кто чувствует нечто подобное внутри себя и в окружающем мире. В целом, никаких сомнений в самом существовании фокуса А (схемы 1-9), русского Начала ни у кого нет (ни у тех, кто относится к нему с любовью и симпатией, ни у тех, кто раздражается и сетует на него). Но как только дело доходит до попытки более или менее строгого описания, анализа, проникновения в его структуру, вскрытия его основных, сущностных измерений, мы почти всегда фатально соскальзываем с темы, теряем нить рассуждения, начинаем путаться и волей-неволей вводить в построение все те же элементы западноевропейских философий, теорий, учений с соответствующими языковыми и терминологическими заимствованиями. А значит, немедленно впадаем в археомодерн, блокирующий корректный подход к фокусу А (схемы 1-9), пытаясь трактовать его с позиций иной герменевтической матрицы, от которой как раз и стремимся избавиться. В этом и состоит причина предшествующих неудач в попытках обосновать русскую философию.
Но можно ли поступить как-то иначе? Ведь в русском Начале мы имеем дело с чем-то не начавшимся, а, следовательно, не обладающим в самом себе эксплицитным аппаратом саморазвертывания. Если бы дело обстояло иначе, мы бы не задавались сегодня вопросом о возможности русской философии, но развивали и развертывали бы эту философию как структурную данность. Это в полной мере оправдывает русских философов прежних поколений: при всем желании сосредоточиться на русском Начале они вынуждены были прибегать к западному наследию, что заведомо обрекало их на впадение в археомодерн и поставленной ими задачи, увы, не решало.
Обнаружение ядра (феноменология)
Мы предлагаем преодолеть эту трудность следующим образом. В трудах Мартина Хайдеггера, европейских феноменологов XIX-ХХ веков (Ф. Брентано, А. Райнаха, А. Мейнонга, Э. Гуссерля, О. Финка), структуралистов (Ф. Соссюра, К. Леви-Стросса, П. Рикера), а также «позднего» Л. Витгенштейна мы встречаемся с уникальным для нашей ситуации случаем, когда укорененные в
западноевропейской философии гиганты европейской культуры поставили перед собой задачу вычленения того изначального ядра, на котором эта философия основывается и которое в ходе развертывания этой философии все более и более теряется из виду. Это ядро, которое Хайдеггер назвал Dasein'ом, Брентано -- «интенциональностью», Гуссерль -- «жизненным миром» (Lebenswelt), Витгенштейн -- «языковой игрой» (Sprachspiel), а О. Финк -- «миром» (die Welt), и есть ядро западной философии. Однако попытка его исследования в чистом виде после того, как стала известной и эксплицитной вся история западноевропейской философии (от Начала до Конца), позволяет применить тот же метод к иному ядру, на котором еще ничего или почти ничего не было над-строено и из которого ничего или почти ничего не было выведено. Конечно, это другое ядро, и это накладывает на применение данного метода определенные ограничения и требует внесения определенных коррекций. Но все же это именно ядро, а не вуалирующие его, надстроенные над ним суперструктуры.
Хайдеггер говорит о первом Начале западноевропейской философии и о возможном другом Начале. В обоих случаях речь идет о Начале. В исследовании этого Начала Хайдеггер выделяет его ядро -- Dasein. Для того чтобы прорваться к этому Началу, необходимо чтобы заложенное в нем содержание полностью стало эксплицитным. Однако это замечание касается исключительно западноевропейского человечества и его судьбы. Само Начало интактно по отношению к этой судьбе, хотя и с ней сопряжено. Если бы это было не так, то другое Начало было бы невозможно. Но для Хайдеггера оно возможно принципиально, и следовательно, оно сохраняет свой потенциал на всем протяжении западноевропейской истории (Geschichte), но открыто выступает только в двух крайних точках – в точке первого Начала и в точке Конца (которая может стать другим Началом)(1).
Подобие Начала и русская феноменология
Русское Начало, отличительным признаком которого является то, что оно пока не началось, во многом подобно западному Началу в его глубинном измерении, и особенно там, где оно еще только может начаться по-другому. Не будучи тождественными, оба Начала подобны. И здесь мы приходим к важнейшему выводу: можно изучать русское неначавшееся Начало с помощью инструментария, используемого западной философией (точнее было бы назвать ее «постфилософией») для анализа закончившегося Начала или того Начала, которое может начаться еще один раз. В этой уникальной ситуации, когда потенциал Нового времени, да и всей западноевропейской философии и истории, начинает сталкиваться с проблемой ничто и рассеиваться в этой проблеме, обнажая параллельно остов всей западной культуры, то есть в условиях наступающего постмодерна и постфилософии (отцами-основателями которого были как раз Хайдеггер, феноменологи, экзистенциалисты и структуралисты) у русских появляется шанс применить именно этот интеллектуальный инструментарий к исследованию собственного Начала.
В этом и только в этом случае обращение к Западу (причем не к Западу целиком, а к очень конкретному и строго дифференцированному по времени и по месту в общей структуре западной философии комплексу идей) будет не укреплением археомодерна с блокированием самой возможности русской философии, но созданием условий для его ликвидации и помощью в пробуждении философского самосознания русского Начала.
При этом стоит всегда помнить о том, что сопоставление двух Начал – западного и русского -- даже на самом ядерном уровне, на уровне «жизненного мира» обоих культур, представляет собой не тождество, а аналогию. Однако эта аналогия, границы и параметры которой будут постоянно уточняться по мере ее исследования, открывает для нас главное: возможность строго, «по-научному» исследовать русский полюс, избегая нечленораздельности и невнятности, с одной стороны, и заведомо неприемлемых отчужденных оценок – с другой.
Можно назвать этот метод «русской феноменологией». В таком определении мы одновременно подчеркиваем несколько моментов:
1) в центре нашего внимания находится русское Начало;
2) русское Начало осмысляется нами как первичное явление («феномен» происходит от греческого «fainesqai», «являться»), как «русская явь»;
3) мы собираемся изучать русское Начало по возможности средствами, соответствующими его собственной структуре, вынося за скобки (совершая «эпохэ») любые констатации или суждения, взятые из иных культурных, философских и герменевтических контекстов;
4) мы намерены привлекать арсенал средств и методов западноевропейской феноменологии (в сочетании со структурализмом) в качестве аналога тех процедур, с помощью которых можно было бы органично извлечь потенциальную русскую философию из русского Начала, всегда удерживая в сознании, что речь идет лишь о предварительной фазе и что между русским Началом и западным Началом нет тождества;
5) в далекой перспективе это должно привести нас к выработке самостоятельной «майевтической» интеллектуальной практики, адекватной для того, чтобы «принять роды» русской философии.
Краткий обзор феноменологической философии Гуссерля
Для того, чтобы приступить к выявлению параметров русской феноменологии, стоит обратиться к ключевым идем основателя феноменологии Эдмунда Гуссерля.
В поисках научного обоснования научной же методологии Гуссерль обнаружил (2), что философские и научные теории, основанные на применении строгих логических процедур к осмыслению явлений мира и мыслящего субъекта, в определенный момент незаметно для самих себя отрываются от прямых референтных соответствий с исследуемыми объектами и упускают из виду те базовые движения сознания и психики, которые предшествуют всем формам конкретного опыта, при том, что строгая верность этому опыту (эмпиризм) составляет основную претензию современной науки на «научность». Сосредоточившись на исследовании именно этих упущенных из виду «движений», Гуссерль, вслед за Брентано, построил теорию «интенциональности», смысл которой состоит в том, что первичные структуры сознания всегда референтны, направлены – то есть несут в себе «интенцию» («намерение») соотнестись с какой-то определенной «вещью». Не всё содержание сознания интенционально, но сама его структура, его силовые линии, его механизмы интенциональны бесспорно. Задача философа, согласно Гуссерлю, правильно описать эту интенциональность (именно описать, а не объяснить – в этом Гуссерль продолжает линию «дескриптивной герменевтики» Ф.Шлейермахера и «философии жизни» В.Дильтея), отвлекаясь от надстроек, созданных западноевропейской метафизикой, включая научную рационалистическую топику Нового времени.
Название философии Гуссерля и открытого им направления мысли произведено от понятия «fenomenon» (по-гречески «явление», «то, что является», «являет себя», от глагола «fainestai» – «являться»). Речь идет о феноменах прямого восприятия человеческого сознания, освобожденного от области научных или метафизических суждений, которые Гуссерль предлагает вынести за скобки. Чтобы корректно схватить феномен, необходимо отрешиться от любых изначальных догматических представлений о природе и онтологии внешнего и внутреннего мира, сосредоточить внимание на прямом опыте восприятия, как оно происходит спонтанно и независимо от заведомо и искусственно составленных представлений. Метод такого исследования Гуссерль называет «феноменологической редукцией» – строгим прослеживанием того, как человеческое восприятие, сталкиваясь с феноменом для того, чтобы его квалифицировать, начинает выделять в нем те или иные стороны в ущерб другим. Так происходит структурирование или конституирование воспринимаемого объекта (вещи) в процессе интенционального акта.
В средний период своего творчества Гуссерль выдвигает концепцию, согласно которой структура интенциональности предопределена парой «noesiV/noema» («noesis/noema»). Эти два греческих термина являются производными от «nouV» (или «nooV»), что можно перевести как «ум» или «сознание». По Гуссерлю, «nouV » -- это формы первичного человеческого мышления, еще не подвергшегося саморефлексии и возведению к логико-философской строгости суждений и их верификации на основе заранее выстроенной философской топики. «NoesiV» - это интенциональный акт, конституирующее движение мышления, а "noema» - конституированный мышлением имманентный психике и самому мышлению «предмет». Мышление, состоящее из базовой пары «noesiV/noema», свойственно всем типам культур и составляет неотъемлемую характеристику человека как вида.
Параллельно с «nouV» существует иная форма мышления – дискурсивного и логического, саморефлексирующего и научного. Его вслед за Аристотелем принято называть «dianoia». "Dianoia» свойственна исключительно рациональной философии и основанным на ней наукам и представляет собой достояние отдельных высокоразвитых культур и обществ -- в первую очередь, западноевропейского общества. Для Гуссерля, как и для большинства европейцев, Европа не только является родиной философии, но европейская культура -- единственная и исключительная, полностью построенная на «dianoia»(3).
Однако dianoia возникает не на пустом месте, но на ушедших вглубь структурах ноэтического мышления, которые необходимо исследовать, чтобы воссоздать всю полноту философской картины мира, субъекта, сознания.
Понятия «феномен» и «нус» («ноэтика») являются ключевыми для философии Гуссерля и лежат в основе феноменологии в целом. Любопытно, что в русском языке оба этих слова имеют еще и прямое этимологическое родство. На основании индоевропейского корня «*āw-» развились такие славянские слова, как «*āvītī», «*āvē», что дало «явиться», «являться», «явление», а также «*ūmъ», то есть «ум». Другими словами, в русском языке «феномен» («явление») и «нус» («ум») оказываются не только однокоренными, но и семантически связанными. Отсюда же происходит и слово «*ūmḗtī», то есть «уметь», что вполне может быть рассмотрено как проявление «ума» в пространстве «жизненного мира». Показательно, что от того же индоевропейского корня «*āw-» происходят и греческое «ai̯sthnomai̯», откуда «эстетика», «чувственное восприятие», и латинское «audiō», «audīre» -- «слышать».
«Поздний» Гуссерль(4) вводит понятие «жизненного мира» (Lebenswelt) как особой зоны человеческого бытия, в которой полностью доминируют ноэтические структуры, предшествующие строгой логической рефлексии и построенным на ней интеллектуальным конструктам.
Философия, по Гуссерлю, берет свое начало в интенциальности, ноэтическом мышлении и «жизненном мире», но возвышается над ними и вскоре забывает о необходимости соотнесения с ними, вступая в область логических абстракций и метафизики.
«Жизненный мир», «структуры», «языковые игры» и «коллективное бессознательное»
Для нас важно, что исследуемые Гуссерлем «жизненный мир», «интенциональность» и «ноэтическое мышление» относятся не только к философии, но и ко всем человеческим обществам, независимо от того, разработали ли они стройные системы философии или нет. Поэтому «жизненный мир» можно изучать и как упущенный из виду низший этаж европейской – философской и дианоэтической – культуры, как делает сам Гуссерль и большинство европейских феноменологов, а можно и как структуры мышления незападных обществ -- обществ, иных, отличных от Запада.
В отношении так называемых «примитивных» народов аналогичными исследованиями занимались этнологи: так, в частности, Л. Леви-Брюль(5) выделил особую форму мышления, свойственную дописьменным, архаическим культурам, назвав ее «пралогическим мышлением».
Еще более внимательно и творчески подошел к этой проблеме Клод Леви-Стросс, который всю жизнь посвятил исследованиям дописьменных обществ и заложил основы структурной антропологии, базирующейся на скрупулезном исследовании структур мышления, свойственных примитивным народам (6). Леви-Стросс с антропологической и этнологической позиций описал структуры «жизненного мира» и механизмы «ноэтического мышления».
Людвиг Витгенштейн (7), так же, как и Гуссерль, начавший с обоснования строгости философского знания, в поздний период жизни пришел к выявлению «языковых игр» (Sprachspiel) как основы, на которой строятся структуры смысла в процессе конкретного мышления. «Языковые игры» всегда контекстуальны и всегда оперируют с однозначными смыслами, где каждому обозначающему соответствует строго одно обозначаемое и связь между ними гарантируется вовлеченностью всех участников общения или мышления, повторяющего структуру общения, в общий контекст. «Языковые игры» предшествуют построению рефлексивных и дискурсивных логических систем и предвосхищают логику как таковую с ее основными началами – «понятиями», «теориями» и «суждениями», а также с опосредующей функцией знака. В «языковой игре» действует принцип прямой и однозначной референции, как при обучении речи младенцев, где любое понятие сводится к жестко закрепленному соответствию между означающим и означаемым, то есть к конкретности значения. Поэтому изучение содержания культуры возможно только через проникновение в структуры ее «языковых игр». Причем это правило действует как в отношении культур высокодифференцированных, так и самых примитивных. Общей меры здесь нет, так как значения всегда контекстуальны. (Отметим, что на первом этапе своего философского творчества Витгенштейн был уверен в существовании «атомарных фактов» и строгих и однозначных корреляций между предметами и их обозначениями в духе классического позитивизма и доведенного до логических пределов номинализма.)
К этой же сфере исследований можно отнести выводы психоанализа, обнаружившего область бессознательного или «коллективного бессознательного» (К. Г. Юнг). В сложных культурах бессознательное содержится в области «тени» под давлением жестких цензурирующих инстанций рационального «эго» и «суперэго» (коллективных установок доминирующей культуры). В обществах примитивных бессознательное гораздо более свободно и выражает себя открыто в цепочке мифов, символов, обрядов, легенд, религиозных и мистических представлений и т.д. В какой-то мере, бессознательное можно соотнести с «пралогическим мышлением» Л. Леви-Брюля, «дикарской логикой» К. Леви-Стросса, «жизненным миром» и «ноэтическиим процессом» Э. Гуссерля, а также контекстом «языковых игр» Л. Витгенштейна.
«Русское» как позитивный феномен
Если соотнести между собой все эти подходы, мы сможем построить предварительный план зоны базовой архаики, зоны неначавшегося Начала, вполне поддающегося описанию, несмотря на свою «молчаливость». В нашем случае это русское Начало, и мы вполне можем конкретизировать все описанные выше методологические инструменты и стратегии путем добавления к ним (в качественном смысле) понятия «русский». Тогда мы получаем:
1) в оптике феноменологии Гуссерля -- «русский жизненный мир», «русское ноэтическое мышление» (русский ноэзис, русскую ноэму), «русскую интенциональность»;
2) в оптике структурной антропологии Леви-Стросса -- «русскую структуру» или «русские структуры»;
3) в оптике «позднего» Витгенштейна – «русские языковые игры»;
4) в оптике психоанализа Юнга – «русское коллективное бессознательное».
Все это представляет собой конкретизацию топоса, в котором находится фокус А (схемы 1-9), о есть центр возможной русской философии. Эта философия может представлять собой развертывание вовне содержания русского Начала, которое с помощью названных методов может быть предварительно описано. Это русское Начало есть русское мышление, «русское мыслящее», которое без каких-либо иррациональных обобщений можно изучать и разбирать научно. Мышление, как ясно из Гуссерля, не есть философия, отличается от нее и построено по иной логике. Попытка спроецировать на мышление принципы философии дадут искаженную, ложную картину, так как с точки зрения философии нефилософское мышление есть «недомышление», «еще не мышление», «неполноценное мышление», «пред-мышление». Так и происходит на практике в рамках археомодерна, когда мы пытаемся осмыслить русскую самобытность в высоко дифференцированных категориях западноевропейской культуры. В конечном счете, эта «самобытность» усматривается в незначительных отличиях от западной культуры или, напротив, в «отсталости», «бескультурии» и «нецивилизованности» русских. В результате мы получаем не точное описание русского мышления, но публицистический оценочный текст, лишенный серьезного значения. Апологетика также не достигает серьезных результатов, так как пользуется тем же инструментарием, пытаясь доказать с его помощью, что «русская философия» и ее производные есть и вполне сопоставимы с западной философией и западными науками. Поступая так, мы всякий раз слишком быстро пробегаем мимо собственно русского мышления, брезгуя погрузиться в стихию архаического. Для западников сама по себе архаичность русского мышления есть его философская дисквалификация. Славянофилы пробуют доказать прямо противоположное: что это мышление просто инаковое, а не архаичное, так как и здесь архаизм по умолчанию приравнивается к чему-то «несовершенному», «второразрядному», в конечном счете, унизительному (в этом обнаруживается западноевропейский расизм). Именно по этой причине в рамках археомодерна невозможно всерьез приступить к теме «русского мышления» без предвзятых стартовых позиций.
В этом смысле, спокойное феноменологическое выделение «русского мышления» (как «nouV» в трактовке Гуссерля) и постановка его в центре внимания исследователя само по себе представляет собой прорыв, особенно если нам удастся осуществлять это исследование в корректных рамках феноменологического метода. Да, это мышление архаично. Но архаично любое мышление. Но для того, чтобы прорваться к ноэтическому ядру, к «жизненному миру» в западноевропейской культуре, надо совершить «эпохе» в отношении фундаментальной и органической для Запада философской и научной конструкции, а для этого требуется как минимум глубокое осознание ее структуры, логики и устройства (что под силу только выдающимся мыслителям Запада). В то же время, для того, чтобы достичь ядра русского Начала (русского ноэзиса, русского «жизненного мира»), требуется лишь преодолеть брезгливость и увернуться от гипноза археомодерна. В остальном же, это ядро лежит на поверхности: чтобы его увидеть, надо просто вывезти за пределы русской культуры западнический хлам, «токсичные отходы» западноевропейской культуры, которыми три столетия засоряли Россию.
«Русский жизненный мир», «русские структуры», «русские языковые игры» и «русское коллективное бессознательное» описывают собой свободную зону, в центре которой и располагается русское Начало. Увиденное таким образом, помещенное в адекватный контекст, то есть возвращенное в тот контекст, в котором оно и пребывает, это Начало начнет говорить и начинаться.
Dasein Хайдеггера и феноменология
Введенный в философию Хайдеггером Dasein представляет собой открытие, которое включает в себя основные моменты феноменологического метода. В своей основополагающей работе «Sein und Zeit» (9) Хайдеггер и выполняет задачу, теоретически поставленную Гуссерлем – обнаружить то, что останется от западноевропейского человека, если освободить его от надстройки метафизики (неслучайно этот труд Хайдеггер посвящает именно Гуссерлю как своему учителю). Согласно Хайдеггеру, то, что остается после «вычитания из человека» метафизики, и есть Dasein. Но это значит, что Dasein есть вместе с тем ядро Начала, основа «жизненного мира», центр «ноэтического мышления». Значение же языка в философии Хайдеггера для определения сущности человека, начиная с аристотелевской формулировки «zwon logon econ» и хайдеггеровских размышлений на этот счет(10), вполне позволяет соотнести это с контекстом «языковых игр» у Витгенштейна. Остается открытым только вопрос о «коллективном бессознательном», так как Хайдеггер намеренно держался в стороне от темы «мифов», «архетипов», «подсознания» и т.д. Но и здесь
. можно найти у Хайдеггера точку соприкосновения с этими темами, поскольку в рассуждениях о поэзии и произведении искусства, он обращается к понятию «сакрального» (Heilige), составляющего для него в поэзии прямой аналог тому, что он именует «бытием» в философии. Впрочем, вопрос о структуре «русского коллективного бессознательного» здесь может быть вынесен за пределы нашего внимания и рассмотрен отдельно (11).
Кроме того (и это самое главное) Хайдеггер ставит в центре своего внимания вопрос о «бытии» и соотносит его со структурой Dasein. Таким образом, он не только выявляет остаточную структуру «ноэтического мышления», но и соотносит это мышление с высшим горизонтом философии, сопрягая тем самым область до-философии (мышления) с областью философии -- причем таким образом, что они оказываются в принципиально новых отношениях, чем на всех предшествующих этапах развертывания западноевропейской философии как философии первого Начала. В этом и состоит исключительность Хайдеггера для решения нашей задачи. Хайдеггер (как феноменолог) не просто концентрирует внимание на ядре ноэтического мышления, но и описывает горизонт «другой философии», которая могла (и должна была) бы быть основана и построена на том же фундаменте в новом Начале.
Поэтому именно Мартин Хайдеггер, и никто другой, является главной, осевой фигурой для обоснования возможности русской философии. Он суммирует в себе все то, что является релевантным для этой задачи, из сферы феноменологии и структурализма, продвигаясь дальше всех и ближе всех подходя к самому важному рубежу. В нем феноменология и структурализм присутствуют в снятом виде. Для подготовки к освобождению русского Начала чрезвычайно важны и Гуссерль, и структуралисты, и Витгенштейн, и Юнг. Но их мысль – это предварительный этап. Вплотную к возможности русской философии подводит нас именно Хайдеггер, так как в Dasein'е и в сопряженных с ним темах и экзистенциалах мы можем зафиксировать мерцание того, что можно назвать русским бытием. Сопрягая феноменологию с проблемой бытия, Хайдеггер открывает дополнительное измерение, которое станет для нас центральным.
Но здесь снова, как и в случае с темой ядра, следует подчеркнуть: Хайдеггер и его (западноевропейский) Dasein берутся нами в качестве аналогии. Хайдеггер исследует Начало европейское: как старое, так и возможное новое. Так как речь идет о собственно Начале, то эта аналогия в полной мере действенна и применима. Но как только мы попытаемся отождествить эти два Начала, то придем к ложному выводу и тут же утратим самое ценное и важное в нашей работе. Дело в том, что речь идет не об одном, а о двух Dasein'ах. Есть западноевропейский Dasein, и есть русский дазайн. Они схожи в том, что они оба – Dasein, но различны в своей природе и в своей структуре. В данном случае природа и структура имеют фундаментальное значение, так как мы имеем дело с базовой онтической инстанцией, на которой строится онтология. Поэтому свойства Dasein'а – точнее, его экзистенциалы -- играют основополагающую роль для того, каким образом может пойти процесс построения дальнейшей онтологии. В обоих случаях нас интересует именно фундаменталь-онтология, то есть понимание истины бытия на основе аутентичного экзистирования Dasein'а, онто-онтология. Но в нашем случае мы стоим перед горизонтом русской фундаменталь-онтологии как чего-то, чего вообще никогда не было. Фундаменталь-онтологии не было и в западноевропейской философии, но там была иная онтология (сносом которой занимались феноменологи и Хайдеггер). У русских же не было вообще никакой онтологии, и, следовательно, сносить, подвергать «феноменологической деструкции» у нас просто нечего: вывоз археомодернистического мусора -- операция качественно отличная от «феноменологической деструкции».
Хайдеггер уверен, что Западу надо начинать сначала: по-новому и совершенно иначе, нежели в первый раз. Нам, русским, надо просто начинать: не по-новому и не по-старому, а впервые. Это фундаментальная и качественная разница. Нам надо начинать по-русски и на основе русского дазайна.
Глава 9. Русский дазайн его экзистенциалы
Dasein и проблема перевода
С самого начала следует задаться вопросом: стоит ли переводить на русский язык немецкое слово Dasein? Мы уже обсуждали в первом томе данного исследования (12) проблемы, связанные с переводом. С этим по-разному справляются и европейские переводчики. А. Корбен предлагал переводить «Dasein» на французский язык как «la realite humaine» («человеческая реальность»). Более привычным для французов стала калька с немецкого «etre-la», хотя используемое «la» на французском означает скорее «там» (в смысле не «здесь», «ici»), что порождает возможность слишком отдаленного, отчужденного отношения к Dasein'у. В английском языке кроме привычного «being there» иногда прибегают к громоздкому выражению «being t\here»(13), что подчеркивает локализацию Dasein'а между «here» («здесь») и «there» («там»).
В древнерусском языке существовало указательное местоимение «ов», «овамо», указывающее как раз на то, что находится между «здесь» и «там», между «тем» и «этим». Можно было бы передать Dasein как «овъ-бытие», но, хотя это слово сохранилось в церковно-славянском, литургическом языке Русской Православной Церкви, в наше время практически никто, кроме специалистов и знатоков старославянского, не сможет сразу схватить значение «овъ» (тем более, что на последних этапах оно использовалось только в дуальных конструкциях -- «овъ…, овъ» -- «то…, то…»). Есть вариант использования выражения «вот-бытие», как мы делали иногда в первом томе нашего исследования (14). Это искусственное выражение избегает прямых связей со «здесь» или «там» и полезно для первого знакомства с философией Хайдеггера, но также имеет свои ограничения. Этимология указательного местоимения «вот», по Фасмеру, происходит от междометия «о» и указательного местоимения «то», «тот». «О» привлекает внимание к «чему-то тому».
Со смысловой точки зрения существует также исконно русское древнее слово «конъ», от которого образованы «за-кон», «на-ча-ло», «кон-ец» и производные. Оно означало «предел», «границу», «первоначальное различие». Если учесть две фундаментальные, согласно Хайдеггеру, особенности Dasein'а -- его связь с «Началом» и его «конечность», -- то русское «конъ» контекстуально очень подходит. Как и в «Dasein», здесь речь идет о «пограничном» состоянии, о нахождении «между» (Inzwischen-Sein). Вместе с тем, здесь нет отсылки к бытию, что заведомо умаляет и сужает возможности его использования. Возможно, нам удастся в какой-то момент обнаружить и более верные и близкие корни и слова в русском языке, но для этого придется проделать несколько кругов осмысления Dasein'а применительно к тому, что мы ранее назвали «русским Началом». Поэтому ограничимся здесь передачей немецкого термина русскими буквами – как первой стадией русификации: русский Dasein = «дазайн».
Сразу же встает вопрос о роде «дазайна» в русской речи. В немецком языке это отглагольное существительное среднего рода, хотя для русского уха естественнее воспринимать «дазайн» как существительное мужского рода. Вопреки строгим правилам грамматики можно от случая к случаю пользоваться и средним и мужским родами. Средний род приоритетно стоит использовать тогда, когда смысловой акцент падает именно на «бытие» («Sein») в составе этого слова: ведь «бытие» в русском языке, как и в немецком, тоже отглагольное существительное среднего рода. В остальных случаях можно пользоваться мужским родом.
Русский дазайн, русский народ и проблема локализации
С момента первого прикосновения к «русскому дазайну» бросается в глаза особенность его локализации по сравнению с европейским Dasein'ом. Различие в локализации отсылает нас к фундаментальному замечанию о различиях между Началом западноевропейским и Началом русским. Европейский Dasein расположен ближе к отдельному индивидууму, нежели русский дазайн. Не совпадая с индивидуумом, он все же соотносится именно с его «эго». Русский дазайн находится намного дальше от индивидуума и изначально нащупывается в ином, внеиндивидуальном или надындивидуальном измерении.
Хайдеггер всегда подчеркивал тот момент, что ни коллектив, ни народ, ни раса в целом ничего не добавляют к пониманию истины Dasein'а. В Dasein' е индивидуум сталкивается с самим бытием, и никаких промежуточных инстанций здесь не предполагается. Это столкновение и создает «короткое замыкание», лежащее в основе экзистирования Dasein'а.
В русском человеке напрасно искать инстанцию, соответствующую зоне короткого замыкания, где «эго» сталкивается с бытием. Этой зоны в нем нет (видимо, интуитивно понимая это, Хайдеггер в общей структуре своего Geviert'а относит русских к «Земле»). В русских Dasein, как Lichtung, просветление, озарение, не является и не может являться делом индивидуального опыта. С этим связаны проблемы восприятия экзистенциальной проблематики русскими. Европейский экзистенциализм помещает человека в бездну его одиночества, и оттуда – из «тюрьмы без стен» (Ж.П. Сартр) – он начинает ответственно и трагично мыслить. Русский человек не знает одиночества, он никогда не одинок. По крайней мере, он никогда не одинок так, как одиноки люди Запада. Русский человек всегда интегрирован в цельность, воспринимает себя частью целого. То, частью чего воспринимает себя русский человек, может выражаться по-разному в зависимости от конкретного случая, но «цельное» так или иначе присутствует всегда и является экзистенциально конституирующим, первичным и необходимым.
Х. Ортега-и-Гассет однажды верно заметил (15), что немец или англичанин, начиная философствовать, немедленно оказываются в одиночестве, а итальянец или испанец обнаруживают себя на площади в толпе людей. Русский – и начиная, и не начиная размышлять – находится в вязкой среде нерасчленимой цельности.
Самым обобщающим словом для определения это «цельной среды» является «народ». Русский всегда мыслит и чувствует народно, не сам по себе, а посредством, внутри и по санкции народа. Поэтому, в частности, русский никогда не уверен до конца ни в том, что он мыслит правильно, ни в том, что он вообще мыслит. Не «эго» является отправной точкой его мировосприятия, и даже не индивидуальная душа.
Мышление для русского – это процесс, источник и цель которого находятся за его пределами; он же – только период этого процесса, его середина, получающая смысл не в себе самой, а в тех истоках и целях, которые остаются сокрытыми и внешними. Поэтому русский человек скорее даже не мыслит в полном смысле слова, а догадывается, подозревает, пытается помыслить. Что-то другое мыслит сквозь русского человека, какая-то непонятная ему самому мысль пронизывает его, течет сквозь него. Но это мышление не умаляет ни усилий, ни значения русского человека для русской мысли. Напротив, только в таком слегка страдательном качестве русский человек остается и даже еще в большей степени становится русским. Русский мыслит, страдая от мышления: мышление и есть страдание для него. Но мысля почти вопреки самому себе, русский человек конституирует «народ», который и становится общим названием для всего поля этой тяжелой и непонятной ни самой себе, ни людям мысли.
Народ – эта мыслительная цельность, которая очерчивает горизонт страдания, недоумения и вязкого расползания русской жизни. Именно в народе и следует располагать русский дазайн. Русский народ, строго говоря, не тождественен русскому дазайну, как не тождественен индивидууму (но чрезвычайно близок к нему) Dasein европейский.
Это феноменологическое замечание дает нам важное уточнение для дальнейшего описания русского дазайна и его экзистенциалов. Не следует прилагать эти экзистенциалы к индивидууму, к себе самому, как автоматически поступает любой западный человек, столкнувшийся с Хайдеггером и всерьез заинтересовавшийся его философией. В нашем случае мы получим из этого лишь нечто безобразное. Русский человек экзистирует не сам по себе, а через народ, и поэтому экзистенциальная размерность Dasein'а неприменима к нему как к сингулярности. Европейцы – совокупность цельных индивидуумов, где каждый голографично выражает в себе все европейское общество, и сложение индивидуумов (полное или частичное) ничего качественно не добавляет к структуре человека (это ясно показал Гуссерль в его теории «чистого эго» и «трансцендентального субъекта»). Русские, со своей стороны, цельность представляют только совокупно, а по одиночке они -- лишь части, лишенные самодостаточного смысла. Эта изначальная конституирующая совокупность: «большой человек» и есть «народ».
Довольно просто объяснить такое различие указанием на архаические аспекты русского общества, и это будет вполне справедливо. Но здесь достаточно ограничиться наблюдениями и зафиксировать это на феноменологическом уровне, избегая какого бы то ни было ценностного сравнения – то есть, не вынося оценочного суждения, хорошо это или плохо, признак ли это неразвитости или свойство альтернативной модели общества. Для нас важно лишь, что это так и что именно с этим мы будем иметь дело при выяснении структуры русского дазайна. Неголографичность русского целого и русского частного (по контрасту с голографичностью целого и частного в европейской культуре) является фундаментальной установкой при описании русского дазайна.
Для того чтобы осуществить это описание, мы должны опытным путем соотнести основные экзистенциалы Dasein'а, подробно выведенные Хайдеггером в «Sein und Zeit», с феменологической стороной того, что мы знаем о русском народе. В ходе этой работы мы -- теоретически – должны будем осуществить конституирование русского дазайна.
Русское бытие
Для Хайдеггера Dasein как явление неразрывно связано с Sein, бытием. Именно соотношение Sein (бытие) с da («здесь/там», «вот», «между»), их взаимозамкнутость составляет основу Dasein, делает его уникальным явлением. Бытие, Sein выражает себя во всем через сущее (Seiende). Лишь в Dasein'е как в исключительном сущем (Seiende) оно выражает себя еще и напрямую – через язык (речь, мышление) и через свою «ничтожащую» (nichtende) сторону, то есть как Nichts (ничто). Поэтому Sein в Dasein'e конституирует особое «da» («вот», «здесь/там»), радикально выделенное из всего сущего (Seiende). Это «da» составляет главное в человеке, делает человека человеком в его сути и в его истине.
Русский дазайн есть замыкание бытия на русское «вот» (русское «здесь/там»). Народ как зона пребывания дазайна является точкой соприкосновения бытия с конкретностью наличия; вмещение безмерного бытия в измеренные границы места.
Едва ли мы можем говорить в полном смысле слова о том, что различия между европейским Dasein Хайдеггера и русским дазайн указывают на то, что в них речь идет о совершенно разных Sein. В этом случае мы слишком релятивизировали бы Sein. Но структура da, куда молнией обрушено Sein, в обоих случаях действительно различна. Sein (бытие) проявляет себя различно в зависимости от того, с каким da (местом) оно имеет дело. Но при этом, если строго соблюдать указание Хайдеггера и начинать не с эссенции, а с экзистенции, то есть с самого Dasein'а и его структур, то, что мы имеем дело с одним и тем же Sein, не может быть аксиомой (под угрозой впадения в эссенциализм и старую метафизику). Поэтому мы не можем настаивать строго ни на том, что Sein в обоих случаях тождественно, ни на том, что оно различно.
То, что точно и со всей очевидностью различно, это – da. Есть европейское «da», «Запад», «Abendland», «страна вечера», и бытие пульсирует в этом da совершенно особым образом; и есть русское da, Russland, «русская страна», в котором бытие проявляет себя иначе (как -- мы будем исследовать в дальнейшем). Феноменологически же нам даны не Sein и da по отдельности, но их изначальная слитность -- такая, что мы не можем строго отличить da от Sein (возможность такого различения и есть переход к аутентичному экзистированию Dasein'а, а это не данность, а задание). Поэтому, с определенными поправками и ограничениями, мы вполне можем сказать, что с экзистенциальной точки зрения мы имеем дело с русским бытием, тогда как европейцы имеют дело с бытием западным.
Как только нам удалось зафиксировать выражение «западное бытие», -- выражение редкое, всячески противящееся тому, чтобы быть высказанным, – становится ясным, почему мы ранее воздерживались от того, чтобы проводить различие между Sein в европейском Dasein'е и Sein в русском дазайне. Это следствие интенсивного навязывания западной культуры своей претензии на универсальность, проступающей даже там, где сами западные философы стремятся максимально отвлечься от своей метафизики. От метафизики отвлечься удается, но в претензии на универсальность, видимо, состоит глубинная судьба Запада, не мыслящего себя без колониализма и империализма – как в сфере материи, так и в сфере духа. За бытие-Sein как таковое Запад на всех уровнях пытается выдать то, как бытие дает о себе знать в западном Dasein'е, и на основании этого экзистенциального опыта далее выстраивается не только онтология, но даже (что чрезвычайно важно) фундаменталь-онтология Хайдеггера.
Поэтому чтобы окончательно отвоевать возможность по-настоящему свободного прояснения структуры русского дазайна, нам надо настойчивее утвердить следующее: полюсом внимания русской философии может быть только русское бытие -- такое, каким оно проявляет себя в русском дазайне.
А раз так, то народ становится онтологическим явлением, тканью русского бытия, обнаруживающего себя в русском «вот» («вот-здесь», «здесь/там»), то есть в русской имманентности, в русской феноменальности. Только в этот момент мы можем, наконец, сделать шаг в сторону от «Sein», «einai», «esse», «etre», «to be», «ser» и других европейских глаголов и отглагольных существительных и перейти к взаимодействию с бытием, подчеркивая с самого начала полную синонимичность между бытием и русским бытием. «Бытие» не только русское выражение для «Sein». Так, мы пользовались этим словом ранее и особенно в первом томе(16), стремясь как можно точнее передать структуру мышления Хайдеггера. Отныне бытие следует рассматривать как собственно русское бытие, изучать его, вглядываться в него, погружаться в него, вопрошать его, рваться в него. Между бытием и Sein (esse, einai, to be) есть лишь аналогия. Ранее эту аналогию мы использовали, сосредоточившись на Sein, а русское «бытие» служило подсобным толкующим словом. Теперь мы поступим обратным образом, и поместим в центр внимания именно русское бытие, европейскими же формами соответствующего слова будем пользоваться для примера, подчеркивая сходства и различия.
Бытие в славянской «языковой игре»
Бытие есть русское бытие. Давайте послушаем, что язык говорит нам о нем.
Во-первых, русское слово «бытие» (отглагольное существительное от глагола «быти», «быть») восходит к контаминации двух индоевропейских корней, которые в различных временах и формах слились в речи большинства индоевропейских народов: «*bheu-» («быть», «расти») и «*es-» («быть»). Лингвисты (например, Юлиус Покорный(17)) считают, что в *bheu- в эпоху индоевропейской общности преобладало значением «расти», то есть бытие мыслилось как процесс бурного, могущественного проявления. Это значение сохранило греческое слово fusiV (φυομαι) - «природа». *Es- , согласно лингвистам(18), представляет собой длящееся настоящее время. Оба корня слились в один круг значений, при взаимном семантическом переносе в разных формах, временах и наклонениях.
С точки зрения феноменологии нам важно усмотреть в этимологии конкретику изначального значения, понять место корня и его смысла в конкретной «языковой игре» индоевропейских предков.
Так, в санскрите и развившихся на его основе индийских языках *bheu- дает нам серию слов: «bhavítram», «мир» (в смысле «космос», «Вселенная»), «bhūr» – «земля», «bhūvas» – «атмосфера», средний мир (между землей и небом - swar). В древненемецком языке (что, разумеется, отметил Хайдеггер) тот же корень дает готское «bauan», то есть «жить», «проживать», откуда позднейшее «bauen» – «строить», то есть «строить, чтобы жить», «строить, чтобы быть в построенном».
Можно предположить, что так или иначе отголоски этих значений остались и в славянском «бытии». И отсылки к индоевропейским значениям будут для нас чрезвычайно важны. Генеалогически индоевропейское значение корня имеет самое прямое отношение к «русскому бытию».
Но есть в истории значения корня *bheu- и чисто славянский мотив. Речь идет, в первую очередь, об образовании с помощью этого корня и приставок новых словоформ. Вот это мы встречаем довольно редко в других индоевропейских изводах, зарезервировавших за этим корнем устойчивый и уникальный статус. (В латыни от «esse» образованы некоторые формы – такие как «ab-esse», «absentia» и «presentia». В греческом языке есть такие слова, как «apeinai», «pareinai», «epieinai» и т.д. И хотя их число и возможности развития подобной практики весьма ограничены, во всех случаях префиксы прибавляются к основе на *es и никогда не к основе на *bheu).
Складывается впечатление, что *bheu- применяется к обобщающим значениям – масштабным и торжественным, удерживаясь от слишком тесных и близких коннотаций с зоной профанического. В славянском же контексте на нас накатывает бросающаяся в глаза волна более частого, конкретного, имманентного использования этого корня. Примером этого может служить современное русское слово «быт», то есть «нечто обычное, повседневное, привычное, не выделяющееся из общего потока закономерного и предсказуемого». Отсюда же чешское «bydlo»– «остановка», «место ночлега», «жилище», и польское «bydɫo» – «скот», «имущество» (и по пейоративной аналогии современное русское ругательство «быдло» -- «скот», «скотина»).
Славяне явно тяготеют к тому, чтобы включить бытие в быт, в обыденность, воспринимают его как близкое, данное, всегда и везде под рукой наличествующее, но при этом ценное и важное – как дом, как скот, как хозяйство, как имущество, как имение.
Деривативы бытия
Еще более наглядно такое отношение к бытию проявляется в славянской и особенно русской манере образовывать с помощью основы «быт-» новые слова. Так мы имеем: пре-бывать, при-бывать, у-бывать, до-бывать, от-бывать, по-бывать, пере-бывать, из-бывать, с-бываться, о-быватель, за-бывать, с-бывать и т.д.
«Забывать» особенно впечатляет, так как для Хайдеггера важнейшим смыслом является связь между «истиной», «aleqeia» и греческим глаголом «lanqesqai», «забывать», «скрывать», «прятать», на основании чего Хайдеггер строит свою гносеологию, сопряженную с онтологией. В русском языке связь между «бытием» и «забытием» (то есть вынесением «за» бытие) видна наглядно. Столь же неожиданно сближаются в русском языке слова «со-бытие» (у Хайдеггера «Ereignis» – основной мотив его философии среднего периода) и собственно «бытие».
Такое же свободное включение значений слова «быть» в конкретный контекст затрагивает и формы, образованные в русском языке и от корня *es-. Спряжение глагола «быти» в церковно-славянском дает нам следующие формы
|
есмь |
есмы |
|
еси |
есте |
|
есть |
суть |
Причастие активного залога настоящего времени -- «сый», «сы» (краткая форма), пассивного – «сущий». Отсюда образованы формы «сущность» и «суть», от которых вновь образуются новые виды:
· о-существление,
· пре-существление,
· от-сутствие (19),
· при-сутствие (20) и т.д.
Русское бытие слишком близкое (метафизика вкуса)
Славяне и русские в отличие от других индоевропейских народов качественно иначе решили проблему отношения к бытию. В истоках индоевропейской языковой игры с «бытием» мы видим смысл «наличия», «явного присутствия» чего-то, что, как правило, осознается как нечто положительное, основательное, позже «священное», достойное поклонения и почитания. Отсюда дистанция и осторожность в формообразовании деривативов. Русские идут иным путем: они включают бытие в быт, начинают пребывать в нем, сливаются с ним до неразличения, вживаются в него, поселяются в нем и не желают из него выбираться. Русское бытие всегда близко, всегда «здесь» до такой степени, что оно входит в простые и понятные вещи, селится в них и напитывает собой все окружающее без разбора. Русское бытие бывает, но не в том смысле, что иногда бывает, а иногда нет; оно длится непрерывно, оно растянуто во вьющемся, связующем все и вся времени. Оно засасывает в себя, оно не эксклюзивное, но общее и вседоступное, всегда и везде пребывающее. Бытие присутствует, не отступая от сути и не создавая той дистанции, с которой оно могло бы быть замечено, выделено и вынесено в (сакральный) объект.
Русское бытие – зевающее бытие, привычное, настолько привычное, что легко забывается как нечто особое, становясь чем-то обычным. Отсюда и слово «забыть» и отсутствие слова с той же основой, которое означало бы «вспомнить», «не забыть», «держать в памяти» и т.д.
Бытие связано у русских с забвением, а не с бдительностью или не-забвением. Его легко забыть, потому что оно у русских слишком близко, оно в самих русских, оно их баюкает, гипнотизирует, усыпляет. Оно присутствует как сон, оно снится, и в этом его суть. Оно не тревожит, не пугает, не ударяет молнией. Оно делает что-то прямо противоположное и немецкому «Sein», и греческому «einai», и латинскому «esse». Оно заставляет закрыть глаза, не видеть и не смотреть, не фиксировать себя как идею (этимологически «видимое»), но воспринимать спиной свое мерное и замкнутое само на себя колыхание.
Аристотель предложил иерархию чувств по степени их способности различать удаленное (21). Дальше всех видит глаз, и зрение он назвал лучшим из чувств (отсюда платоновские «идеи» и аристотелевские «эйдосы»). Неплохо слышит отдаленные звуки и ухо. Слух -- второе из чувств. Далее следуют обоняние, осязание и вкус. Обонять можно запахи, находящиеся на определенном расстоянии от тела, осязать -- только то, что соприкасается с телом. Почувствовать вкус можно, только приняв нечто внутрь, впитав в себя, проглотив или хотя бы подержав во рту. В такой иерархии бытие как важнейшее не могло рано или поздно не стать идеей. Кстати, именно с этим Хайдеггер связывает фатальное искажение всего хода развития западноевропейской философии.
У русских бытие мыслится противоположным образом: оно пахнет, оно ощущается телом, оно имеет вкус. Русское бытие вкусное, оно сладко. Русские не удаляют бытие в его почитании подальше – к сфере видения, они по-слепому или по-пророчески вбирают его внутрь, осваивают его, кормятся им, похлопывают его, прикасаются к нему. Русское бытие дает себя в близких чувствах, оно отчетливее вблизи. Оно слишком близко, оно урчит, как сытый живот.
Русское бытие не находится на расстоянии, оно не оттянуто и не отложено, оно погружено в русских как их неотъемлемая, как их самая важная составная часть, как внутренний телесный центр онтологического удовольствия.
Русские питаются бытием, оно служит им приятно пахнущей, мягкой на вкус, сладостной пищей. Русское бытие есть хлеб, праздничный пряник, сладкая, сдобная праздничная булка.
Если мы внимательно вдумаемся в это феноменологическое рассмотрение, то нам станет понятна упомянутая ранее несообразность: почему у славян -- индоевропейского народа с языком и грамматикой, предрасположенными к созданию философии или, как минимум, религиозной философии -- философии не сложилось? Ответ теперь легко обнаружить в трактовке и использовании слова «бытие». Коль скоро славяне тяготеют к предельной имманентизации – вплоть до вкусовой ассимиляции – бытия, то оно оказывается в положении максимально неблагоприятном для того, чтобы стать предметом изучения или, как минимум, почитания. Здесь нет той световой дистанции, пространства для визуализации, которые стали судьбой европейской философии, но также и религиозных систем Индии или Персии.
Бытие для русских не свет и даже не звук, но вкус. А раз так, то философия у русских -- в силу самой языковой структуры -- диссоциируется с визуальными образами (знаками, фигурами, буквами) и звуковыми (словами, нотами) элементами. Близость русских к бытию, наша единосущность с бытием делает нас не народом, практикующим философию, не ее «субъектом», но скорее философским процессом или даже «объектом» философии. Не мы должны изучать и стараться понять, нас следует изучать и стараться понять. А так как мы еще отличаемся немалой исторической мощью, то изучать нас приходится не сверху (как слабого и подчиненного), а сбоку – как другого, не согнувшегося, способного на деле отстоять свою инаковость и свободу (в первую очередь, свободу быть иным), но одновременно не спешащего внятно что-либо сказать о своей инаковости. Это тяжелый и неприятный случай для Запада: он мог бы нас принять как «колонию», но в качестве сонного, мычащего, но невероятно могущественного партнера принять нас невыносимо. И тех, кто так считает, понять вполне можно.
У славян нет философии, потому что мы принципиально иначе, чем остальные индоевропейские народы, полагаем себя в отношении к бытию.
Сделав эти заключения относительно русского бытия, мы с полным основанием и ясностью горизонта можем приступить к описанию русского дазайна.
Русское пребывание и проблема мира
Хайдеггер начинает описание экзистенциалов Dasein'а с выражения «In-der-Welt-Sein». Если перевести дословно, то получим «бытие-в-мире». Касательно «бытия» и его сопоставления с «Sein» кое-что было сказано выше. Так как мы исследуем русский дазайн, то, следовательно, речь идет о русском бытии. Парадоксальное для немецкого языка сочетание: «In-Sein», дословно «быть-в», прекрасно передается русским глаголом «пребывать». Это показательно: для передачи идеи «бытия-в» Хайдеггеру потребовался громоздкий неологизм, в русском же мы имеем готовый глагол со сходным значением. «Пребывание» -- это именно «бытие-в», что дополнительно подчеркивается переходностью глагола, «пребывать в чем-то», «пребывать где-либо».
Но с большими сложностями мы сталкиваемся в слове «die Welt». Лингвисты возводят этимологию слова «Welt» к двум индоевропейским корням «*uiros» («сильный, муж») и «*al-» («расти», «питаться»). «Welt», таким образом, несет в себе идею бурного могучего роста, упорядочивания, организованного возникновения. Это твердо стоящая, высящаяся, выдающаяся вперед и вверх действительность. Латинское «mundus», «мир» предполагает «чистоту», «упорядоченность», греческое «kosmoV» -- «красоту», «гармонию» и «стройность». Конечно, это разные значения и корни, но у них есть общее: речь идет о месте обнаружения Dasein как о поле организованных и мощных сил, выстроенных, упорядоченных, значительных. «Бытие-в-мире» для европейского Dasein'а предполагает столкновение с активной силовой стихией, в которую этот Dasein немедленно вовлекается или которую он сам же и конституирует. От «Welt» веет могуществом и деятельной энергией, это зона пробужденности, активности, утвердительных траекторий дел и волений.
Русское «мир», помимо значения, схожего с «Welt» или греческим «kosmoz», соответствовало названию древней крестьянской общины, с одной стороны, и антитезе «войны», с другой. Различие смыслов передавалось в орфографии до 1917 года через «миръ» (не-война) и «мiръ» (Вселенная, община), но оно было довольно искусственным: в древних русских текстах этого разделения не существовало. Лингвисты считают, что изначально все три значения были слиты (точнее, два значения – «Вселенная» и «не-война», так как к общине понятие «мир» стало прикладываться позднее). Славянское «миръ» родственно слову «милый», а также санскритскому «mitras», означавшему «друг». «Мир» для русских есть нечто совершенно другое, нежели «Welt» («mundus», «kosmoV») для европейцев. Это не нечто внешнее, но, наоборот, нечто внутреннее. В мир не столько вы-ходят, сколько в-ходят. Мир – это доброе и надежное укрытие, защищенное место среди милых друзей (22).
Но «мир» не просто другое, чем «Welt», он нечто почти противоположное. В слове «мир» нет и намека на бушующую упругую действенную энергию, на силу и волю. Русский мир – область успокоения, примирения, утихания энергий. Это скорее зона покойников, погост, где тихо дремлют родные предки. Мир развертывается внутрь и вглубь, а не вверх и вовне, как Welt. Поэтому дословно «бытие-в-мире» («In-der-Welt-Sein») для нас будет «умиротворенным пребыванием в покое». Но явно Хайдеггер имел в виду не это.
«Пребывание» и обратный характер экзистенциалов
Здесь мы сталкиваемся с важной проблемой. Что мы выбираем при описании экзистенциалов русского дазайна: хайдеггеровский смысл или прямой формальный, но совершенно неточный по значению русский эквивалент? В первом томе мы систематически выбирали хайдеггеровский смысл (чтобы его понять и точно передать русским читателям). Теперь мы поступим обратным образом, как и в случае «бытия».
«In-der-Welt-Sein» для Хайдеггера при описании Dasein'а означает совершенно не то, что «пребывание-в-мире» для русского дазайна. Тем не менее наш экзистенциал будет именно таким, как того требуют русские значения русских слов. Мы не знаем мира как «Welt», а если и знаем, то он носит у нас иное название -- «белый свет» или даже «чисто поле» (23). Но «выйти в чисто поле» или «посмотреть белый свет» -- это нечто совершенно другое, нежели пребывать в народе, в русском дазайне или быть убаюкиваемым русским бытием. Русский дазайн открывается именно как укрытие и ограда, как бытие-в-норе, как заключенность в доме, в жилище. Мир для русского – это близкое, освоенное, свое, прячущее и охраняющее. Но ведь точно так же русский понимает и «бытие». Поэтому «пребывание в мире» несколько напоминает плеоназм: одного «пребывания» было бы достаточно.
Понятно, на чем настаивает Хайдеггер: ему чрезвычайно важно показать, что Dasein – это не «эго» и не индивидуум, не субъект и не душа, что он находится «между» (zwischen), что он не может быть рассмотрен отдельно от того, в чем и где он находится. Хайдеггер ополчается на западноевропейское понимание «субъекта», на картезианскую интериорность, на интроспекцию. Но русский дазайн, как мы видели, сам по себе уже находится вне индивидуума, в народе. Там же, в народе, развертывается и русское бытие и русское мышление. Напоминать о том, что дазайн не субъект тут излишне.
И если для Хайдеггера «бытие-в-мире» означает «бытие-в-риске» («Schutzlos-Sein», «wagernde Wagnis»), то для русских обращение вовне, за пределы индивидуальности, есть обращение вовнутрь, к томной и успокаивающей матрице народа. Поэтому для этого экзистенциала русского дазайна вполне можно ограничиться словом «пребывание».
Русский дазайн пребывает. «Пребывает» означает, что он одновременно наличествует и что он наличествует в чем-то, что он контекстуализирован. Пространством этой контекстуализации является народ (внешнее-внутреннее), который дарует русским бытие и ограждает от разрушительной мощи, которая останавливается перед границами народа как внешнее-внешнее и не входит в народ. Пребывание есть также выражение великой мирной мощи русского народа, гасящей тревожные и угрожающие импульсы, укрощающей «риск» («Wagnis», русское «вага», «весы», откуда «от-вага» -- дословно, «несбалансированность»).
Русские пребывают в мире как в покое, и в этом развертывается содержание русского экзистенциала. Исторически русские, как и остальные народы, непрерывно воевали. Но они не впустили войну внутрь своего дазайна, остались в этом дазайне пребывающими в мире. И окружающая среда не была воздвигнута и впечатана в драматические конструкции разрыва – русские строения вписывались в мир так, чтобы дифференциальная симметрия, усилие, следы борьбы людей и стихий с них как можно быстрее сползли. Это покатая архитектура русской культуры, не желающей остроты и угловатости, преподчитающей дружеское примирение жесткой стихии вражды и насилия.
Также можно включить в пребывание экзистенциал «In-Sein», «бытие-в», как обобщение «бытия-в-мире». Пребывание всегда где-то, и это где-то дано как бытие, как народ, и значит, как мир.
Русские не находятся
Такой русский смысл «пребывания» и «мира», равно как и близость к русским бытия, при переходе к зоне русского делает избыточным другой экзистенциал Dasein'а Хайдеггера – «Befindlichkeit» (от «sich befinden», дословно -- «находиться»). В русском языке есть слово «местонахождение», но оно искусственное и громоздкое, неологизм «находимость» нет нужны вводить. Смысл Befindlkichkeit вполне укладывается в слово «пребывание». «Мы находимся там-то и там-то» значит, что «мы пребываем там-то и там-то». Другое дело, что у Хайдеггера Dasein именно находит себя, по-русски – «ходит-ходит и на-ходит», натыкается на себя самого, наступает на себя, сталкивается с собой. У европейского Dasein'а это должно вызывать бурную реакцию. Но русский дазайн/русский народ как раз не на-ходит на себя, он течет, он действует в своем наличии мерно и постепенно, не-из-себя и не-от-себя, не-к-другому. Возвратность, столь резкая в немецком «sich befinden» («себя находить», «ся находити» по старославянски), в русском дазайне проблематична и смазана. Конечно, в определенном смысле, русские находятся там, где пребывают. Но структура народа такова, что он не осознает это внятно, остро и выпукло – ведь он находится у себя, находится дома, находится в милом и добром мире, находится в покое. А в покое и мире трудно «найтись», там намного проще потеряться. Там не столько процесс «хождения» (необходимый для того, чтобы на что-то на-ткнуться и что-то на-йти), сколько сидение и созерцание, и даже не созерцание (это будет неправомочным западничеством), а вкушение и переваривание.
Так мы достигли почти прямого противоречия с Хайдеггером: русский дазайн пребывает, а не находится, а находится лишь в той мере и в том смысле, что пребывает. Конечно, если взглянуть на мирно сидящего за обедом человека со стороны, можно утверждать, что она «находится» в столовой, на кухне или в избе, но самому ему вряд ли придет в голову, что «он находится». Мы сейчас, напомню, говорим о русском «жизненном мире» (Lebenswelt). Конечно, русский человек не только обедает – он еще работает, любит, переживает, гладит кошку, служит, чинит телегу, читает газеты, играет с детишками, воюет, сомневается. Но в большей степени он все же мирно обедает.
Бытие-с как интеграция в целое
В «пребывание» как фундаментальный экзистенциал русского дазайна можно включить и еще один экзистенциал Хайдеггера – Mit-Sein. Для Хайдеггера это означает, что, будучи сам в себе одиноким, Dasein экзистирует вне этого одиночества, помещая себя в среду, в которой он никогда не один, где его одиночество вывернуто наизнанку. Это станет принципиально важным для хайдеггеровского понимания феноменов неаутентичного экзистирования Dasein'a и das Man.
Русский дазайн, напротив, никогда не одинок, он всегда пребывает в неразрывной цельности, он слит и сливает всех русских индивидуумов не просто друг с другом, но с миром как с общим «милым дружеством», помещает их в со-дружество, предшествующее разделению. Поэтому в русском дазайне «с» (немецкое «mit») должно пониматься не как соединение отдельных единиц друг с другом, но как воссоединение части с целым.
В истоках значения немецкого предлога «mit», впрочем, лежит индоевропейский корень *medhy-, означающий «середину», «среди». В греческом языке этому этимологически соответствует «meso-», в латинском – «medius», в авестийском – «maiđya-», на санскрите – «mádhya-», в русском -- «между», «меж». «Быть-с» значит «быть среди», «быть между». В русском дазайне подразумевается «быть-в-мире», среди «милых друзей», быть «среди своих», у себя. Поэтому от собирания частей или даже от их сопоставления в экзистенциале европейского Dasein'а, мы переходим к восстановлению части в контексте целого, из которого она, эта часть, и не выпадала, а продолжала в нем пребывать. С данными поправками и этот экзистенциал Dasein'а может быть включен в «пребывание».
Догадка о философском значении русского языка в другом Начале
Здесь стоит спросить себя: что нам напоминает хайдеггеровский перечень экзистенциалов, составленный из искусственных и громоздких неологизмов, связанных с основой «Sein»?
Выше мы почти объяснили отсутствие у русских философии их слишком близким отношением к бытию, с чем мы связали славянскую легкость в создании производных форм с основой «бы-», «быть». Но не то ли же самое пытается сделать сам Хайдеггер, докапываясь до Dasein'а при сносе западноевропейской метафизики? Разве он не критикует западноевропейское представление о бытии как об идее (дальность зрения)? Разве не выделяет именно онтические, непосредственно данные, феноменологические моменты?
В поисках корректного описания онтического Хайдеггер пытается построить фундаменталь-онтологический метаязык, который по своей структуре и задачам удивительно напоминает ход развития славянской речи. С этим связана его тяга к искусственному созданию форм от «Sein» с предлогами/приставками. Если Хайдеггер пытается сделать с немецким то, чего нет в самом немецком языке и нет в европейских языках вообще, и чего по какой-то причине (и, наверное, такая причина есть и она довольно серьезна) почти не встречается даже в индоевропейских праформах, но есть в славянских языках и, что особенно для нас важно, есть в русском языке, не свидетельствует ли это об особой онтической природе именно русского языка? Не является ли русский языком (по меньшей мере, среди индоевропейской языковой семьи), оптимально приспособленным для выражения на нем именно феноменологических, экзистенциальных и фундаменталь-онтологических конструкций?
Если эти подозрения верны, то русский язык, плохо приспособленный к философии, если понимать под «философией» западноевропейскую метафизику и ее герменевтический круг, напротив, оказывается прекрасно приспособленным для выражения на нем собственно феноменологических интуиций. А в дальнейшей перспективе из этого можно составить смелые догадки о возможной роли русского языка в другом Начале философии в целом, к чему, собственно, и клонил сам Хайдеггер. Однако не будем забегать вперед.
Русская речь
Еще одним экзистенциалом Dasein'а у Хайдеггера является речь (Rede). Речь, язык в его философии играли важнейшую роль, возраставшую особенно в последние периоды его творчества. Dasein – это нечто говорящее. В речи Dasein экзистирует.
В этом моменте аналогия между Dasein'ом европейским и дазайном русским не несет никаких сюрпризов. «Говоря, Dasein выговаривает себя», -- пишет Хайдеггер (24). Это совершенно справедливо в отношении европейского Dasein' а и тех языков, на которых он себя выговаривает. Точно так же это полностью относится и к русскому дазайну. Русский дазайн выговаривает себя по-русски. Поэтому столь важен для его верного описания и истолкования учет того, какие слова и соответствующие им смыслы есть в русском языке (в сравнении со славами и терминами других языков), какие они имеют корни, этимологические и семантические связи, каково их место в базовых, первичных «языковых играх». Важно также, каких слов нет вообще, какие представляют собой кальку и как при передаче неизвестных русским смыслов ведет себя сама стихия русского языка.
«Русская речь» – экзистенциал «русского дазайна», причем, в определенном смысле, этот экзистенциал является наиболее безусловным среди всех остальных. По Хайдеггеру, речь стоит в одном ряду с двумя другими изначальными главными экзистенциалами -- «находимостью» («Befindlichkeit») и «пониманием» («Verstehen») (24) («находимость» мы включили в «пребывание», а «понимание» мы разберем несколько позже). В случае русского дазайна справедливо поставить речь вообще на первое место, потому что именно наличие русской речи является первым и главным основанием для того, чтобы вообще говорить о русском дазайне. Русское существует в речи.
Язык, по Хайдеггеру -- это дом бытия. Русский язык есть дом русского бытия. Пребывая, русский дазайн пребывает в речи. В речи в первую очередь.
Гипотеза об экзистенциалах «бывания»
Замечание относительно параллелей между словотворчеством Хайдеггера и закономерностями славянских языков, подводит нас к следующей гипотезе. А что, если все имеющиеся в русском языке производные от корня «бы», от «быти», от «бытия» могут быть отнесены к экзистенциалам русского дазайна? Заметив тяготение Хайдеггера к производству новых слов на основе Sein, мы распознали это как глубинную философскую установку, связанную со стремлением Хайдеггера фундаментально реформировать всю западную философию, начиная с ее языка: он делает в своем экзистенциальном анализе то, что делать ранее категорически запрещалось (ни записными правилами, ни самой логикой, семантикой и внутренней структурой языка).
Теперь можно, оторвавшись непосредственно от Хайдеггера, свободно распространить тот же подход на иные имеющиеся в русском языке формы, предположив, что речь вполне может идти об экзистенциалах русского дазайна.
Обратимся к экзистенциалу, который в «пребывание» включить не возможно, да и нет такой цели -- включить в него все многообразие хайдеггеровских формул.
Рассмотрим несколько уже упоминавшихся нами форм:
· при-бывать (приходить, приезжать, увеличиваться),
· у-бывать (уезжать, уменьшаться в размерах),
· от-бывать (уезжать),
· по-бывать (находиться некоторое время),
· пере-бывать (посещать отдельные места одно за другим),
· из-бывать (превозмогать, претерпевать, отделываться, превосходить, изобиловать),
· до-бывать (приобретать, отыскивать),
· с-бываться (происходить, случаться),
· за-бывать (терять из памяти),
· с-бывать (с рук, отделываться),
· о-быватель (простой человек) и т.п.
По аналогии с пребыванием и следуя логике русского языка, мы можем рассмотреть их как русские экзистенциалы.
Убывание/прибывание
Пара «при-бывание/у-бывание» указывает нам основополагающую динамику «пребывания». В ходе пребывания, пребывая, бытие убывает и прибывает. Речь идет не о «genesiV» и «ftora» Платона и позже стоиков, не о «возникновении» и «уничтожении». Речь идет о полюсах внутри бытия и его бывания, где есть лишь относительно больше и относительно меньше, и отсутствует переход от «да» к «нет» или от «есть» к «не есть» («несть»). При-бывает (прибыток) всегда к тому, что уже есть. «Прибывает» значит «является», «появляется», но не из нави, а из яви, является из яви, прибывает из бывания. Точно так же и с убыванием. Убывая, бытие остается в границах самого себя, умаляясь, оно не выходит за эти границы, не расстается с быванием. Убывшее меньше, нежели неубывшее, сохранившее, но оно не исчезло, и оно осталось в яви, только в яви теперь неявной. Убывшее и убывающее все еще пребывает, но несколько иначе, чем не-убывающее и тем более прибывающее. Убытки и прибытки видятся как стороны единого, вокруг которого и внутри которого все происходит – как в ходе увеличения, роста, так и в ходе умаления. Здесь нет места смерти, гибели, не-бытию.
Если убывание и прибывание суть экзистенциалы русского дазайна, то этот дазайн фундаментально отличается от европейского Dasein'а, который принципиально и основополагающе конечен и суть которого описывает экзистенциал бытия-к-смерти (zum-Tode-Sein). Русский дазайн как ядро русского народа не знает границы, на которой он кончается и начинается не-он.
Позже мы поговорим о русской смерти подробнее, но пока зафиксируем следующее важнейшее положение: описываясь парой прибывание/убывание, русский дазайн не-конечен и бессмертен. Он принципиально и в самой своей глубине оживлен лишь флуктуациями внутри того, что не появляется и не исчезает, что не становится и не гибнет. Прибывая и убывая, он пребывает, пребывает от века и до века, «и ныне, и присно, и во веки веком» (аминь). Он умаляется и возрастает, он поднимается и снова падает, но ни в один из моментов этой оживляющей его динамики он не разрывает связи с «быванием», с «бытием».
От-бывание
Развитие темы «при-бывания» и «у-бывания» мы видим в форме «от-бывание». «От-быть» значит «отправиться куда-то от данного места». Но этот процесс снова мыслится находящимся внутри бытия: внутри остается и тот, кто отбывает, и то, откуда он отбывает. Эта связь не дает провести жесткую границу расставания, необратимости действия перемещения «от». «От» не означает разрыва, не означает жестко прочерченной границы. Отбывающий продолжает пребывать в бытии. Бытие движется вместе с ним, но, вместе с тем, остается там, откуда он уходит. И покинутое место и движущийся от него путник остаются настолько связанными бытием, что в своем «от-бывании» «бывание» просто затопляет «от», подчиняет его себе, помещает его в себя, почти душит. Ото-рвавшись от бытия, «от-быв», путник продолжает быть, а значит, его порыв остается неудавшимся жестом: всякое «от» обозначает «к» внутри одного и того же движения. В этом можно разглядеть и грусть как невозможность подлинных перемен, и светлое торжество всепобеждающего, повсеместного, всепревосходящего бытия.
По-бывание/пере-бывание
В этом же ряду стоят формы «по-бывать» и «пере-бывать». «Побывать» значит «поприсутствовать где-то» (предполагается, что в далеком месте), а «перебывать» означает «посетить несколько (отдаленных от данного) мест». Здесь так же, как и в предшествующем случае, некто перемещается вместе с бытием, вместе с экзистенциалом пребывания, и это перемещение развертывает места (в случае перебывания) как моменты единой онтической ткани. То, где можно по-бывать, есть. И тот, кто посещает это «где-то», тоже есть. Из их встречи, из соприкосновения двух изводов бытия -- подвижного и неподвижного -- рождаются веселые и слегка ироничные вибрации, которые мы явно воспринимаем в словах «побывать», «перебывать». Произнося слова «побывал», «перебывал», мы слегка удивляемся сказанному в том, что некто не просто «посетил», «погостил», «навестил», но именно развернул там, в «далеком» и «отнесенном», свое столь уютное, столь близкое, столь телесно ощутимое «здесь и сейчас бытие». Того, кто использует слова «побывал», «перебывал», веселит и радует сама эта возможность быть там, как будто здесь; ведь явно тот, кто побывал, расположился там, где побывал, уютно, основательно и как бы надолго, почти навсегда, а из речи и ее строя явствует, что теперь он вернулся и снова здесь. Возможность развернуть всецелое в малом, близкое в далеком, общее в частном просвечивает в этих выражениях, наделяя их особым, совершенно не схватываемым извне, ироничным ароматом.
Добыча
Далее, русский дазайн до-бывает. Добывая, он приобретает, достает что-то откуда-то (предполагается, что что-то важное, ценное, нагруженное смыслом и значением). «До-быть» значит «поместить в бытие то, что априори было где-то «до» него, скорее всего, на его периферии». Добывая, русский дазайн помещает добытое в бытие, в мир, в дом, в жилище, а значит, оживляет добытое, наполняет его бытием. Добывание, взятое как экзистенциал русского дазайна, есть глубинное действие, сопряженное с тонкой фундаменталь-онтологической операцией по повышению бытийной нагруженности того, что добыто -- добычи. Добыча становится прибытком, увеличивает бытийность бывания. И снова, как и в экзистенциале «пребывания», речь идет не столько о собирании, получении, приобретении, нахождении (иногда захвате и отбирании), сколько о воссоздании бытийной полноты. Добытое не используется, но приобретается, чтобы обретаться, чтобы быть в общем и целом бывании. Таким образом, добытое возвращается домой, в жизнь – возвращается даже тогда, если оно никогда ранее там не было. В обители, где пребывают, заведомо все всегда есть, было и будет, поэтому все заново добытое есть хорошо забытое и ранее потерянное, утраченное, оброненное или отобранное. В добыче бытие возвращается к бытию, не умножая его, но подталкивая его к прибыли своего пребывания.
Избывание
Глагол «из-бывать» показывает нам дополнительные семантические возможности русского словотворчества. Он нам внятен, привычен и его значение не составляет труда для восприятия. «Из-быть» значит «избавиться от чего-то (как правило, грустного, печального, горестного), но сделать это не искусственным способом, а с помощью бывания, пребывания». Избывание – это излечение с помощью бытия. Избыть горе можно, только позволив бытию быть, течь, бывать, пребывать. Если не мешать естественному пребыванию, не привносить в него что-то дополнительное, острое, возмущающее, то горе, печаль и грусть сами собой растворятся в бытии -- не как в ином и целительном, но как в едином и единственном, как в том же самом, только снимающим боль частного через «все сразу» (и боль и не боль) общего. Избывание не есть предательство памяти о причине печали, утраты, оскорбления, несправедливости. Это такая память, которая становится вечной памятью, но в лоне того, что содержит в себе вечность. И только большой горизонт, воспринимающийся и как вечная боль, и как вечная радость, гасит остроту частного переживания. Избывая, мы не забываем, но, напротив, расширяем горе до бесконечных масштабов и начинаем уже грустить о том, что с нами не произошло и нас не коснулось, о близком и далеком, о том, что заслуживает грусти, и даже о том, что ее не заслуживает: мы начинаем грустить обо всем вообще. И боль избывается, мерно растекаясь в пребывании, которое и само по себе есть мягкая, успокаивающая, щадящая вечная боль.
Кроме этого значения в слове «избывать» есть еще и оттенки – «уклоняться», «превосходить», «пребывать в излишестве». Приставка «из» трактуется в самых разных смысловых оттенках, играя с бытием как с вмещающим в себя все мыслимые и немыслимые пары противоположностей.
Сбывать
Тонкий оттенок мы находим в глаголе «сбывать», откуда происходит и слово «сбыт». «Сбывать» значит «испускать от себя вскользь по бытию куда-то прочь», но – еще и еще раз – при сбывании чего-то на сторону, избывании чего-то, и даже избавлении от чего-то связь с бытием не рвется, не нарушается. «Сбыть с рук (долой)» означает «поместить в надежные руки другого», который есть не что иное, как иной извод все того же самого – единого и цельного народа-дазайна.
Событие
Русский дазайн сбывается. Здесь вообще сердце хайдеггеровского учения. «Dasein er-ereignet» (то есть «Dasein аутентифицируется/случается») – это ключевая формула для Хайдеггера. В ней мы имеем связь с новым Началом. Как только мы постигаем, что Dasein er-eignet, мы постигаем все сразу и начинаем другое Начало. В глаголе «er-eignen» нет прямого указания на «бытие» (Sein), нет также, строго говоря, и указания на «аутентичность» (das Eigene). «Ereignen» образовано от немецкого «Auge», «глаз», «зрак», ранее «смотрение», «зрение» и означало первоначально просто «наблюдение». То, что наблюдалось, и было «событием». Хайдеггер, прекрасно отдавая отчет в искусственности игры слов, пишет «ereignen» («Ereignis») как «er-eignen» («Er-eignis»), то есть трактует событие как мгновение аутентичности, собственности. Так как Dasein конечен, то только конечным, по Хайдеггеру, может быть и его столкновение с бытием. Оно происходит одноразово, как нечто уникальное и необратимое. Отсюда вся тема Er-eignis'а. Избрав возможность быть, то есть аутентичное экзистирование вместо неаутентичного, Dasein «случается», «приключается», становится событием (именно поэтому слово «событие» в метаязыке Хайдеггера может быть употреблено только в единственном числе). Событие сингулярно, необратимо, неповторимо. В Er-eignis'е Dasein сталкивается со своим Sein.
Очень соблазнительно было бы поспешно предложить русское слово «событие» для перевода немецкого Er-eignis'а в хайдеггеровском контексте, понимая, что оно точно совпадает по смыслу формальным образом и к тому же, кроме всего прочего, заключает в себе еще и «бытие» -- «событие» как «со-бытие». Однако, это, увы, будет уловкой, которая только собьет нас с толку. Напомним еще раз: для западноевропейской философии славянский язык и его нефилософская природа представляют собой дисквалификацию и черпать что-то из русско-славянской среды, да еще и в отрыве от изначального культурного контекста и соответственной «языковой игры», совершенно нелепо и нецелесообразно. В контексте мысли Хайдеггера это совершенно излишне: он говорит в данном случае о сугубой сингулярности, молниеносно открывающейся в моменте столкновения одной конечности -- европейски понятого Dasein'а -- с другой инстанцией, Sein (конечность или бесконечность которой под вопросом). Да, здесь участвует Sein (бытие), но не оно, а сингулярность и аутентизм (eigene) составляют суть Er-eignis'а. Наше русское слово «событие» с его собственно русским значением, во всем этом совершенно не причем.
Посмотрим на «со-бытие» и глагол «сбываться» с точки зрения русского дазайна, в отрыве от Ereignis'а. То, что сбывается, это то, что сочетается с бытием. Сбывается только то, что относится к бытию, что в нем фундаментально наличествует, в нем пребывает. Сбывается пребывающее в бытии. Сбываются, например, пророчества: вещие слова, сказанные о будущем теми, кто настолько близки к бытию, что будущее для них видится столь же сбывшимся, как бывшее и настоящее. «Событие» в русском языке имеет резко отличное от европейского контекста корневое значение. Этимологию немецкого слова «Ereignis» мы разбирали, она связана с моментом «наблюдения» и глазом. Латинское «eventum» (откуда французское «événement», английское «event» и т.д.) образовано от «evenire», то есть «приходить», «уходить», «наступать». В русском языке этому точнее всего соответствует «нечто наступившее», «пришедшее», «случившееся», и даже «случайное».
Событие прямо противоположно и Ereignis и eventum. Событие не может не сбыться, потому что оно уже принадлежит к бытию, оно уже пребывает. Если оно и приходит, то приходит изнутри бытия, из его лона, являя себя так, тогда и тому, как нужно в соответствии с общностью пребывания. События без бытия и общей к бытию принадлежности не бывает. Такое событие не могло бы сбыться. Единственный и главный же смысл «eventum» (включая «Er-eignis» Хайдеггера) заключается в том, что оно происходит совершенно случайно, и что этого вполне могло бы и не случиться. Произвольность «Ereignis'а» связывает его не с бытием, но с волей. В русском «событии» ни малейшего, даже отделенного, намека на волю или на случайность нет. Событие с eventum'ом связывает только то, что в них нечто выдается. В событии выдается сбывающееся бытие, подтверждая и укрепляя пребывание. В eventum'е выдается волюнтаристский выверт судьбы, фатума или субъекта, водружающих то, чего не было, посреди того, что есть. Событие укрепляет бытие в его спокойном течении, в его бывании. Eventum демонстрирует хрупкость наличия, его сопряженность с бездной небытия, откуда вырывается «новое» (novum) и куда это «новое» силится вытолкнуть «старое» (наличествующее). Eventum сингулярен по определению, даже если речь идет о совокупности и множестве. Это множество сингулярностей. Событие развертывается вечно, в нем бытие постоянно сбывается. Оно непрерывно, но то, что называется «событием», в отличие от «пребывания», дает почувствовать, ощутить на вкус прибывание (или убывание) бытия. Событие – это добыча, приятный такт прибытия в бытие ему принадлежащего. Но событие – это также острая горечь убывания бытия. Бытие бывает горьким.
Русский дазайн сбывается. Но это нечто совершенно иное во всех смыслах, нежели Dasein er-eignet. Русский дазайн сбывается, пребывая в своем бывании через прибывание. Но в некоторых случаях может статься и иначе: русский дазайн сбывается, убывая в своем пребывании. Это нехорошее событие, но и оно имеет место.
Обывание
Существительное «пребывание», взятое без дополнения, и глагол «пребывать», трактуемый как непереходный – сами по себе вполне технические выражения, соответствующие метаязыку русской феноменологии. «Пребывание» звучит и воспринимается естественно. Следуя за списком деривативов, мы могли бы выразить «пребывание» искусственным неологизмом – «о-бывание». В русском языке такой глагол и соответствующее отглагольное существительное отсутствуют. Есть лишь слово «обыватель».
Возможно, это слово изначально развилось на основании иного корня – от глагола «витати», то есть «жить», откуда «обитатель», а ранее «об-витатель». Но явно, что на нынешнюю форму – «обыватель» -- корень «бы-« («бывать», «быть») в той или иной степени повлиял.
Не вдаваясь в подробности, допустим, что к «быванию» можно прибавить префикс «о-» («вокруг», «около»).
«Обыватель» – это такое определение человека, которое подчеркивает в нем только одно свойство: то, что он бывает, то, что он пребывает, то, что он есть. Как правило, в современной речи такое название носит уничижительный оттенок: обыватель -- тот, кто не интересуется ничем определенным, не старается расширить свой горизонт, выйти за рамки общепринятых банальностей. Обыватель – это человек, профессиональные, гендерные, индивидуальные и иные свойства которого второстепенны и сглажены, и который, строго говоря, не может сказать ни о себе, ни о мире, ни о близком, ни о далеком, ничего такого, что бы мы заведомо без него не знали. У обывателя есть только одно обоснование – то, что он есть. Но это и есть самое главное и самое существенное. Русский дазайн как предшествование, как Начало в своем ядре и не должен говорить нам ничего специального. Там, где есть что-то специальное, мы рискуем немедленно попасть в ловушки археомодерна. Яркость, ум, выдающиеся качества в России опасны и подозрительны. Более того, они несут в себе ложь и заблуждение. Истинна, аутентична и выразительна в России только глупость и посредственность. Но глупость не всякая, а обывательская -- глупость простого незамутненного присутствия, явь русского человека без свойств, слитого с миром, с окружающим, со средой, с уютным процессом пережевывания и настороженной концентрации на простой, неразложимой и нерасчленимой стихии бытия, которая повсюду – внутри, вовне, над, под, справа и слева. Только тот настоящий обыватель (пребывающий в бытии обитатель, проживающий живой житель), кто плотно и со всех сторон, включая внутреннее измерение, окутан бытием, кто «о-бытиен», пронизан до дрожи невыразимым и сладким присутствием русского наличия. (К этой теме мы еще обратимся позднее при рассмотрении темы «das Man» и «аутентичного и неаутентичного экзистирования»).
Русский дазайн – это обыватель, и он «о-бывает» в своем пребывании.
За-бытие
Если мы возьмем глагол «за-бывать» как экзистенциал русского дазайна, то вновь войдем в определенный диссонанс с Хайдеггером. Об этом вскользь мы упомянули выше. Для Хайдеггера центральный вопрос об истине (aleqeia) тесно увязывается с вопросом о забвении (сокрытии, lanqestai). Истина есть несокрытие (Unverborgenheit), а не соответствие суждения факту (как в референциальной теории, берущей начало в учении Платона об идеях). Русское «забвение» (от «за-быть») снова формально соотносится с хайдеггеровским учением о связи истины и бытия. Но на самом деле и в этом случае связь случайна, и более уводит нас от сути дела, нежели что-то проясняет. «За-быть» значит «оставить что-то вне бытия, упустить из бытия, потерять за границами бытия». Но бытие не имеет границ. Поэтому «за-быть» значит «за-терять» что-то в самом бытии, и это что-то, так как оно остается в бытии, всегда можно при желании вспомнить, вновь отыскать. Здесь интересно само употребление приставки «за» применительно к бытию. Бытие не имеет границ, за ним ничего нет. Поэтому то, что тем не менее кажется находящимся «за» бытием, будучи связанным с ним, таковым не является. «За», таким образом, не отделяет это от другого, но отделяет то от этого. Яснее всего это проявляется как раз в словах «забытие», «забвение», «забыть». «За-быть» -- это все-таки, в первую очередь, «быть», хотя и «за». А значит, «за» не есть абсолютно отдаляющая черта, но черта проницаемая, проходящая в одном и том же и по одному и тому же.
Если мы теперь вновь вернемся к мысли Хайдеггера об истине бытия как к самому далекому и самому важному горизонту другого Начала и фундаментальной онтологии, мы, к нашему удивлению, обнаружим, что он имел в виду как раз нечто подобное – такое «открытие» («несокрытие» – «aleqeia»), которое включало бы, а не исключало из себя «сокрытие» («leqh»); такое бытие, которое не было бы ограничено небытием, но «взаимовключало» бы небытие в себя, само «взаимовключаясь» в него. Русское «за» в «забвении» показывает, как так может быть.
Бы и след ничто
И, наконец, рассмотрим еще одну форму дериватива от «быть» -- субьюнктив «бы». В древности он спрягался, представляя собой обычное сослагательное наклонение от глагола «быть».
|
азъ бимь (створил-ъ/а/о) (я бы сделал) |
мы бимъ (створил-и/ы/а) (мы бы сделали) |
|
ты би (створил-ъ/а/о) (ты бы сделал) |
вы бисте (створил-и/ы/а) (вы бы сделали) |
|
(онъ, она, оно) би (створил-ъ/а/о) (он, она, оно бы сделал/а/о) |
(они) бя (створил-и/ы/а) (они бы сделали) |
Позже в старорусских текстах этот древний славянский субъюнктив слился с формой аориста, сохранив прежнее смысловое сослагательное значение.
|
азъ быхъ |
мы быхомъ |
|
ты бы |
вы бысте |
|
(он, она, оно) бы |
(они) бышя |
Еще позднее глагол «быть» в качестве связки в перфекте стал исчезать, и вместо форм «азъ есмь створилъ» (я сделал), «ты еси створилъ» (ты сделал), «мы есмы створили» (мы сделали) и т.д. появились формы «я [пустое место, где подразумевается спрягаемый глагол быть] сотворил (сделал)», «ты [пустое место, где подразумевается спрягаемый глагол быть] сотворил (сделал)», «мы [пустое место, где подразумевается спрягаемый глагол быть] сотворили (сделали)» и т.д. Так формы субъюнктива в перфекте, ранее представлявшие собой полные версии, где глагол-связка «быть» стоял в субъюнктиве (позже передаваемом аористом), -- например, «азъ быхъ (древнее «бимь») створилъ» («я бы сделал»), «ты бы (древнее «би») створилъ» («ты бы сделал»), «мы быхомъ (древнее «бимъ») створили» (мы бы сделали), – сохранили связки в упрощенном виде «бы». Но ясное осознание их как субъюнктивных форм с последующим причастием на «–лъ» утратилось, коль скоро сами эти причастия («сотворилъ», «сделалъ») стали восприниматься как полноценные глаголы, сохранившие от причастий только род (не свойственный русскому, и шире, индоевропейскому пониманию функции глагола как части речи – действие не имеет пола, оно безразлично к полу того, кто его осуществляет). «Бы» осталось самостоятельной частью речи – так называемой «частицей». И хотя оно чаще всего продолжало употребляться с бывшими причастиями на «-лъ», а в новом языке -- «глаголами», эта связь существенно затемнилась до того, что «бы» приобрело структурную автономность. Так стали возможными такие выражения, как «якобы» (от оборванного выражения «яко бы»), «надо бы» и т.д., в которых глагольная функция «бы» не читается вообще.
Здесь для нас важно, что бывший субъюнктив и нынешняя частица «бы» выражают в себе сослагательное понимание бытия. «Бы» -- это то, что могло бы или должно было бы быть. В «бы» есть удивительная связь с бытием, с пребыванием, в котором, однако, нет окончательной ясности относительно того, так ли это или не так. Сфера, покрывающая «бы», сфера онтической сослагательности, по определению, шире, нежели сфера бытия, так как в нее попадает и то, что было, есть и будет, и то, относительно чего с уверенностью сказать ничего нельзя. Горизонт бытия покрывается более широким горизонтом сослагательного бытия, конъюнктивным горизонтом «бы».
Но здесь мы подходим к очень тонкой теме: что есть в русском народе и в русском бытии такого, что лежало бы вне его, что не относилось бы к нему, что пребывало бы за его границей? Близкий мир распространен на все. Все что есть, было и будет, совмещается по своему признаку с бытием как русским бытием. А значит, строго говоря, для русского дазайна ничего вне бытия нет, все что есть, находится внутри него. Как же быть тогда с сослагательностью? С точки зрения логики, она должна была бы распространяться на зоны, лежащие вне бытия, на зоны ничто, которые и обосновывали бы неуверенность «бы», саму сослагательность. Эта сослагательность есть след русского ничто, намеченный в языке. Однако сама структура русского бытия настолько инклюзивна, что всячески отвергает возможность наличия другого, границы, антитезы. Русское другое включено в русское это. Русская граница отделяет русское одно и то же от себя самого. Русская антитеза заложена в саму русскую тезу и в ней дремлет. И русское ничто, в таком случае, должно быть имманентно русскому бытию, входить в него его составляющей частью. Оно должно находиться от него по эту сторону, а не по ту; более того, у русского бытия только одна сторона. Отсюда можно вывести важнейшее положение. Русское «бы», со всем его внутренним сомнением и сослагательностью, в то же самое время является совершенно утвердительным, уверенным в себе, провозглашающим без всяких колебаний русскую истину: то, что должно было бы быть, то и есть, и есть даже то, чего не должно было бы быть; то, что могло бы быть, есть, и есть то, чего не могло бы быть… Действительное и возможное, желаемое и наличествующее, придуманное и отчетливо различимое здесь и сейчас – все это разные наклонения частицы «бы», объединяющей, обволакивающей своим содержательным бытием все видимое, невидимое, действительно наличествующее и только мнимое. «Бы» в русском языке переворачивает законы субъюнктивности. Сослагательное безусловно верно, безусловно верное же – только сослагательно. Об этом свидетельствует косвенно и сама замена архаичной формы: бимь, би, би, бимъ, бисте, бя на соответствующие формы аориста: быхъ, бы, бы, быхомъ, бысте, бышя. Почувствуйте, как незаметно сомнение, сослагательность заменились аористной уверенностью. «Бимь» значит «быхъ». Бымъ – значит, быхомъ. Могли бы быть – значит были. Должны были бы быть – тоже, значит, были. Условное становится реальным. Но…
Ведь если вдуматься в такой поворот, то верно будет и обратное. Отождествляя в языке ирреальное (сослагательность «бы») с реальным, мы открываем путь и прямо противоположной операции – отождествляем реальное с сослагательным. Если условное приравнено к безусловному, то и безусловное становится условным. Если только лишь пожелание или долженствование, ожидание и предвкушение, мечта или страх сами по себе являют себя как бытие и его формы, то немодальное и действительное, в свою очередь, оказывается лишь возможностью, мечтой, игрой ума, галлюцинацией. Не то чтобы мечта и действительность меняются друг с другом местами, -- это было бы слишком жестко и определенно, слишком не по-русски, -- но они играют друг с другом в прятки, обнаруживаясь то здесь, то там, ловко уклоняясь от хватких объятий, заливаясь громким невинным смехом.
«Бы» вполне можно считать экзистенциалом русского дазайна, причем одним из самых фундаментальных и основательных.
Исчезновение связки
Ранее мы по ходу дела упомянули факт исчезновения в русском языке «быть» в качестве глагола-связки. В перфектных формах он исчез окончательно, вплоть до признания за пассивными причастиями статуса глагола. В настоящем времени он почти исчез и употребляется лишь в особых случаях, когда надо подчеркнуть факт жесткого отождествления – например, «идеи суть световые образы», хотя в современном языке то, что «суть» является формой спряжения глагола «быть» в третьем лице множественного числа настоящего времени, осознается весьма смутно. Иногда также можно встретить выражения вроде «наука есть совокупность точных знаний о реальных объектах» или перевод максимы Декарта «я мыслю, следовательно, я есть». Но чаще всего и в этих случаях глагол «быть» опускается, а иногда заменяется знаком тире. Сохранился он строго при образовании будущего времени у глаголов несовершенного вида: «я буду читать», «она будет танцевать» и т.д. В большинстве европейских языков к глаголу- связке «быть» установилось более чуткое отношение, и он сохранился практически повсеместно даже в тех языках, где общие структуры предельно упростились – как например, в современном английском.
На первый взгляд, из этого можно было бы заключить, что русские утратили в языке связи с бытием, забыли о бытии, лишив свою речь многократных и постоянно повторяющихся его поминаний. Отчасти это так, но не потому, что бытие слишком удалилось от нас, а наоборот, потому, что оно слишком приблизилось к нам. Оно стало столь внутренним и близким, что мы перестали его замечать как нечто, находящееся перед нами (на что можно было бы смотреть, в звуки чего можно было бы вслушиваться или, что можно было бы обонять), рядом с нами, вплотную к нам (что можно было бы осязать). Мы проглотили бытие, включили его в себя; стремясь распробовать его на вкус, мы не заметили, как стали им. Человек есть то, что он ест. Съев бытие, мы стали бытием. Так конституировался русский дазайн: бытие в нем было помещено в русское наличие, в русское «да», в русское «вот». Глагол связка «быть» исчез в нас, вошел в нас, стал вкусом речи, ее сладостью, ее горечью, всей сложной гаммой, рождающейся от полного и безразрывного сближения. Глагол-связка исчез, и русские сами стали глаголом-связкой: настоящее и прошлое сбывается через нас. И лишь еще несовершенное будущее сохраняет некоторую автономию – то несовершенное, которое, может, еще и не совершится или совершится, да не так, как кое-кому хотелось бы.
Как смеется «есть»
Показателен и тот семантический сдвиг, который произошел со связкой «быть» в третьем лице единственного числа настоящего времени – с формой «есть». В древнем языке эта словоформа строго была лишь указанием на связь одного с другим, хотя в контексте нашего экзистенциального анализа уже ясно, что эта связь была не референтной, но скорее указывала на общую причастность к стихии бытия, то есть была указанием на нечто третье, что предопределяло в последнем счете отношение двух. «Азъ есмь мужъ», «я – мужчина», означало, что и сам говорящий, и образ бравого бородатого человека с тяжелым кулаком и спокойными глазами с удовольствием ныряли в море сверкающего светлого «есть»-«есмь», где поднимались на поверхность и снова погружались в глубину, постоянно оказываясь с разных сторон друг от друга в свободной игре автореферентной стихии этого «есмь», являющего себя себе самому и через не известного никому «аза» (личину «я»), и через известный (всем!) образ дородного, могучего мужика.
Позднее же «есть» в третьем лице приобрело безличное значение «иметься», «находиться», «наличествовать». В современных европейских языках эти конструкции чаще всего строятся с помощью указательного местоимения места «здесь» -- «there is» в английском, «il y a» во французском или безличного «es gibt» (дословно, «дано») в немецком. В русском языке мы сталкиваемся с лаконичным и самодостаточным «есть».
- «Есть оружие? Есть! Есть деньги? Есть!»
У кого, где, сколько -- все это не имеет значения, все это подразумевается. Привычная для нас затертая форма речи, оказывается, таит неожиданность. На первый взгляд, что может быть проще, чем выразить факт простого наличия указанием на то, что то, что наличествует, есть? Но именно этого и нет в европейских языках. Столкновение с чистым наличием вплотную для европейцев затруднено, если вообще возможно. Наличие они воспринимают, как правило, косвенно, через указание на что-то еще – на место, на данность, на сделанность или имение (как в испанском «haу», от «haber", «иметься», «наличествовать»).
В русском же языке не составляет проблем назвать бытие напрямую в любой вещи, о которой заходит речь. Более того, тонкая ирония, пронизывающая весь русский язык, явно смеется над вещью, которая есть, именно таким словоупотреблением: связывая вещь с бытием, говорящий тонко посмеивается над вещью, над тем, к кому обращается, над самим собой, над окружающим как над слишком серьезно и надежно воспринявшими игровой момент русского «бы».
Фраза «Есть оружие?» чрезвычайно иронична. В ней иронизируют и над теми, против кого это оружие может быть применено, и кому недолго еще осталось принимать, вечно путаясь, то, что есть, за то, чего нет, и то, чего нет, за то, что есть. В ней звучит ирония и над теми, кто это оружие применит и, видимо, так или иначе за это поплатится, и над бедностью и лишенностью -- в том случае, когда этого оружия может и не быть, а значит, не имеющий оружия или имеющий его в недостаточном количестве может за это пострадать. В этой фразе слышится ирония над самим говорящим, который может как вкладывать в свой вопрос смысл (мол, если нет, я помогу, или если есть, я отберу и влеплю срок и т.д.), так и не вкладывать его, издеваясь над ложной озабоченностью человека, у которого с оружием проблемы. Но вместе с тем это и соучастие, сопереживание, вчувствование в человека, обделенного или не обделенного такой важной и страшной одновременно вещью, как оружие. Эта фраза сообщает в первую очередь о «есть», а потом уже обо всем остальном. Ответ на вопрос «Есть оружие?» -- «Есть!» или «Нет!» столь же ироничен. Во-первых, он может быть ложным, и спрашивающему предлагается угадать, как все обстоит на самом деле. Во-вторых, он обязательно включает в себя игру коннотаций прибывания/убывания: мол, оружие есть, но есть и еще много чего, самого соблазнительного или, наоборот, устрашающего. Или напротив, оружие-то есть, а вот всего остального не хватает.
«Есть» всегда несоразмерно с тем, о чем бы ни шла речь. Оно никогда не обслуживает референтность. И здесь, в рассматриваемом случае, исчезнув как связка, глагол «быть» ускользнул от того, чтобы служить референтности и, наоборот, застыв и сохранившись, оставшись в одиночестве, он все равно от референтности уклонился, ускользнул, размывая ее, подтрунивая над ней, растворяя ее не так, так этак.
Экзистенциал Sorge и структура европейского Dasein'а
Теперь вновь обратимся к Хайдеггеру и его описанию экзистенциалов Dasein'а.
Одним из фундаментальных экзистенциалов, не связанных на сей раз с «бытием» по формальным признакам, является «Sorge» (дословно, «тоска», «забота», «озабоченность»). Немецкое «Sorge» филологи возводят к индоевропейскому «*swergh-» , означавшему, по всей видимости, «болезнь», «страдание», «беспокойство», отсюда -- «забота». Корень этого слова очень древний и прослеживается вплоть до «ностратических пластов» ( тюркских, алтайских, монгольских, тунгусских, корейских и картвельских групп языков) с приблизительно одним и тем же значением – «боли», «болезни», «мучения». Есть его прямой этимологический аналог и в старославянском – «sorga», «sorg», и даже в церковнославянском – редкое слово «сорога» со значением «болезнь», «тревога». Но влияние этого корня в русском языке не прослеживается и соответствующий смысл полностью выражен в слове «забота».
У Хайдеггера «Sorge» -- важнейший экзистенциал, который определяет базовый вектор отношения Dasein'а к окружающей его среде. В Sorge выражено In-der-Welt-Sein («бытие-в-мире») Dasein'а. Dasein постоянно озабочен, он непрерывно движим многомерной гаммой исходящих из него импульсов, направленных на окружающую его зону. Dasein заботится.
Для Хайдеггера в Sorge-заботе состоит Sein (бытие) Dasein'а. Сам Хайдеггер поясняет в работе «Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffes»(25), что Sorge в его изложении представляет собой аналог интенциональности, как ее понимал Гуссерль в контексте феноменологии. Sorge-забота для Хайдеггера описывает то, как Dasein экзистирует в мире, конституируя этим экзистированием мир. Будучи всегда озабоченным, то есть, беспокоясь о том, что вне его, и отдаваясь тому, что вне его, Dasein осуществляет сам себя. Так же и гуссерлевская интенциональность в более узкой сфере гносеологии толкует мышление как непременно «мышление о чем-то», как мышление, обязательно направленное на что-то и самой этой направленностью это что-то ноэтически утверждающее. Но если Гуссерль хочет сказать, что процесс мышления (особенно дофилософского, несаморефлектирующего, связанного с умом, а не разумом, с «nouV», а не с «dianoia») всегда самим своим наличием конституирует мыслимое (ноэму) и того, кто это мыслимое мыслит (сам процесс ноэзиса или его отдельный фрагмент -- ноэзу), то Хайдеггер переносит сходный жест на онтологический (онто-онтологический) уровень, который включает и гносеологию, и психологию и философию, откуда и появляется Sorge как фундаментальное свойство Dasein'а. Заботясь о мире, Dasein его конституирует, и, делая это, он утверждает и самого себя. Забота не просто свойство Dasein'а, акциденция или предикат, это его суть. И характер и ориентация Sorge-заботы предопределяет основные структуры Dasein'а в самом фундаментальном аспекте: если удастся сориентировать эту Sorge-заботу на Sein-бытие, Dasein выходит на горизонт аутентичности. Это и есть момент рождения философии, но помочь состояться ему, согласно Хайдеггеру, надо радикально иначе, нежели это было сделано в первом Начале. То есть сама рефлексия, Sorge-забота должна быть обращена не на мыслящее, но на мышление и выражающееся в мышлении бытие, на истину бытия.
В русском языке «забота» восходит к старославянскому значению «клевать (зерно)», «есть» (сербско-хорватское «sobati»), что можно понять как аналогию: что-то (внешнее) не дает покоя, «грызет», «гложет», «ест». Кстати, слова «печаль», «печься» связаны также со страдательным пониманием действия, направленного на человека предположительно «извне»: «печаль» происходит от слова «печь», быть испекаемым внешним огнем. Печального, печалящегося человека пекут, возможно, чтобы потом склевать, сгрызть, съесть. Эта несколько приземленная этимология оказывается довольно выразительной: получается, что по контрасту с ранее разобранными экзистенциалами, где русский человек, экзистируя в дазайне, «ест бытие», включает его в себя и тем самым становится спасительно «съедаемым бытием», здесь самого человека что-то (явно не бытие) «съедает» извне. А так как ничего кроме бытия для русского дазайна нет, то это неприятное чувство заботы слабо коррелирует с другими русскими экзистенциалами.
Для европейского человека истоки Sorge-заботы («cura» на латыни, «sollicitudo» в Вульгате, «merimna» и более архаическое «frontiz» у греков) понятны. Западный человек принципиально одинок, конечен и смертен, будучи повернут лицом к глобальному дефициту. Это пронзительно ощутимый дефицит света у вечера, клонящегося к ночи (Запад = «страна вечера», Abendland). Его экзистирование заведомо помещено перед лицом бездны, перед лицом ничто, которое не есть бытие и которого, согласно Пармениду, нет. Поставленный лицом к лицу с бездной, он начинает заполнять ее веером своей интенциональности, развертыванием своей Sorge-заботы. Не случайно Хайдеггер в «Sein und Zeit» предваряет введение Sorge-заботы главкой об ужасе (Angst). Об этом несколько позднее, но пока заметим прямую связь: ужас бездны (ничто) заставляет Dasein заботиться, заполняя бездну ноэмами/поэмами, то есть мысленными образами вещей и производством этих вещей (поэма, греческое «poiema», этимологически означает «созданная вещь», «произведение»; кстати, таков же первоначальный смысл слова «факт» -- на латыни «factum» – страдательное причастие от глагола «facere», «делать»; «factum», таким образом, означает «нечто сделанное», «продукт труда», «произведение», то есть «поэму»).
Европейский Dasein расположен на границе бытия с чем-то еще (с ничто). Поэтому Sorge-забота Dasein'а есть и воление, и невроз, и агрессия, и паника, и бегство, и стремление производить и осуществлять -- одним словом, деятельность, действительность, энергия. Sorge-забота как экзистенциал Dasein'а есть онтологический исток труда (poiesiz). Развитие этой темы у Хайдеггера приведет постепенно к анализу ницшеанской воли-к-власти и к выявлению vorsetzende Durchsetzung как автономного, нарастающего по интенсивности цикла западного человечества по траектории tecnh и усиления Gestell(27).
Другое дело, что прозрение Хайдеггера в данном случае простирается в самые глубины европейского Dasein'а: исток техники он вскрывает в корнях западноевропейского бытия, в основе его структур.
Русская беззаботность
При уже намеченных выше асимметриях между структурой русского дазайна и европейского Dasein, закономерно задать вопрос: а озабочен ли русский? Ответ – чисто феноменологический – будет таким: больше нет, чем да. Помимо внимательного рассмотрения русского бытия он основан еще и на довольно ясной базовой констатации: русский дазайн не находится на границе между бытием и не бытием (ничто), не сталкивается с окружающим его сущим как с бездной, вынуждающей его бежать, пугаться, ужасаться, и главное – творить, работать, делать. Простираемый русским дазайном русский мир не «ест» человека, не «клюет» его, то есть не заботит его. Для него бытие и внешне и внутренне выступает иначе, нежели «забота», нежели «попечение». Поэтому русский человек, скорее, беззаботен и беспечен, его ничто не печет, не допекает.
Но в чем же тогда интенциональность русского мышления? Что за «мир» (космос, Welt) конституирует русский дазайн вокруг себя, чтобы в нем быть? Это мир полный, наполненный бытием, упитанный мир, в котором горизонт ужаса представляет собой не острие, но окружность. Ужас интегрирован в русского человека до такой степени, что уже не пугает. Русские съедают ужас, как ломоть хлеба.
Русский не озабочен, что-то заботится сквозь него. Это русское бытие, которое и конституирует мир, вокруг. Но что важно: оно конституирует его по обе стороны человека, и причудливо меняет эти стороны местами. Вот почему русский дазайн беззаботен – он находится в середине бытия и бытие развернуто по отношению к нему в обе стороны, точнее, во все стороны, и нигде у этих сторон нет строгого центра, нет сгущенного полюса, о котором можно было бы сказать – он есть перед лицом противоположного полюса, которого нет. Русское бытие, конституируя вещи мира, не забывает заложить в них должную долю сразу бросающегося в глаза, остужающего небытия, как самого себя, и это небытие присутствует внутри самих вещей и одновременно на их поверхности, не дожидаясь, пока вокруг них выстроится дифференциал рождения/гибели. Такой окружающий мир есть мир окруженный, в нем вертикальное измерение небес и бездны раскатано по горизонтальной поверхности – это плоская бездна, зияющая вертикальная горизонталь. Интенциальность здесь следует понимать как взаимобратимую динамику, не знающую точки сбоя, конца, где бы ее подстерегала смерть. Это индуцирует в русском дазайне тотальное бесстрашие, основанное на строго гарантированном бессмертии.
Бессмертие не есть преодоление смерти или свобода от нее, оно есть интериоризация смерти, ее включение в само русское экзистирование; это примирение со смертью как с иной стороной жизни, хотя у жизни есть только одна сторона. «Другое» здесь должно мыслиться по-русски, то есть как то же самое, как это.
Забота не есть экзистенциал русского дазайна.
Авось-бытие
В своем фундаментальном «Толковом словаре» (28) В. Даль приводит шуточные поговорки русских о самих себе, свойственные простонародью: «Русак на авось и взрос», «Русский Бог — авось, небось да как-нибудь». Показательно, что здесь слово «авось», которое в широком смысле означает как раз «беззаботность», «беспечность», прямо увязывается с отличительной чертой русского народа и, соответственно, русского Начала. В сознании самого народа русское тесно сопряжено с этим «авось». Если «забота» не есть экзистенциал русского дазайна, то «авось», напротив, есть его экзистенциал. Особенно важно, что в шуточной форме «авось» называется «русским Богом».
В прямом значении это выражение кажется безумным и нелепым, но при более внимательном рассмотрении темы «русского Бога» в контексте экзистенциального анализа русского Начала все в какой-то момент будет выглядеть иначе.
Здесь следует чуть подробнее остановиться на этимологии слова «авось». Среди лингвистов нет единого мнения относительно его происхождения. Все согласны относительно его составной природы: «а» (скорее всего разделяющая частица) + «(в)о» + «се» (указательное местоимение «се», «это», утратившее безударный гласный «е» на конце). Но споры ведутся относительно средней части – «(в)о». Одни ученые – Й.Зубатый, А.Преображенский – считают, что это «(в)о» есть сокращение местоимение «ово» (о нем мы говорили ранее, перебирая возможности перевода слова Dasein на русский язык и предлагая вычурную конструкцию «овъ-бытие»). Другие – Ф.Буслаев, А.Соболевский, Я.Грот, М.Фасмер – полагают, что речь идет о соединении частицы «а» с древним указательным местоимением «осе», означавшим то же, что «вот» («в» же появилось как интервокальный согласный) (29). И в этом случае «авось» напоминает нам Dasein как «вот-бытие».
Еще одну гипотезу предложил А.А.Потебня, указав на темпоральный характер «авось», выражающий вероятные события ближайшего будущего, откуда и «указательность» и «модальность» (то есть определенная предположительность высказываемого смысла). «Авось» -- это то, что должно произойти в определенном будущем, но без особой уверенности в том, что это точно произойдет, хотя бы в силу того, что речь идет о будущем. Современный лингвист, развивающий эту тему, приводит такие характерные выражения, зафиксированные в современных костромских говорах: «Вось (авось) ешшё что-то будет, нонь-ту нет, а вось будет» или «Сыпется звёстка, а вось (авось) и потолок обвалится»(30).
Во всех значениях «авось» заключает в себе смысл надежды, ожидания того, что что-то произойдет, случится, но совершенно без какого бы то ни было активного участия со стороны того, с кем это случится и для кого это будет иметь значение. Причем «авось» не судьба как упорядоченный ход вещей, как отражение высшего порядка в мире, и не фатальность смены механических закономерностей. «Авось» -- это грандиозный фундаментал слабой надежды, основанной на абсолютном доверии к бытию. Это не гадание, не пожелание, не уверенность, не безразличие. Это выражение глобального согласия со всем вообще, со всем в целом, и само это согласие – его бесконечность – обеспечивает слабой надежде неизменно добрый конец. При этом, если «доброго конца» не наступает, никто не остается в обиде или в претензии – структура этого согласия не мыслилась никогда ни навязчивой, ни эксклюзивной, ни волюнтаристской. Если «на авось» не прошло и что-то не выгорело, ничего страшного – ведь надежда была настолько слабой, что, строго говоря, и надеждой-то в полном смысле считаться не могла. Более того, если не наступило «доброго конца», то можно пересмотреть и саму исходную точку того, когда впервые (темпорально) «авось» был упомянут или привлечен: может быть, не ожидание было обмануто, но индивидуум неправильно определил в отношении чего, каким образом и в каком направлении призван был действовать «авось».
«Авось» не подводит никогда. Подводит индивидуум. Поэтому надежда на «авось», будучи самой слабой, есть в то же время самая надежная из надежд. Она никогда не обманывает, просто иногда тот, кто надеется, неточно понимает, на что, собственно, он надеется. И эта погрешность заложена уже в саму слабость изначальной надежды.
В определенном смысле, следуя за русской беззаботностью, мы можем предложить и еще одну версию перевода Dasein -- это «авось-бытие».
Оппозиция экзистенциалов
Из цепочки последних замечаний мы можем явно выделить тенденцию экзистенциалов русского дазайна не просто отклоняться от хайдеггеровской аналитики, но и все более и более откровенно вступать с ней в противоречие. Создается впечатление, что в отношении наиболее важных хайдеггеровских экзистенциалов в русском мире наблюдается обратная симметрия.
Возьмем, например, следующие: «Stimme/Stimmung» («настрой/настроение»), «Angst («ужас»), «Verfallen («упадок», падение»), «Verstehen» («понимание»), и самое главное – «zum-Tode-Sein» («бытие-к-смерти»). Рассмотрим их последовательно.
«Stimmung» («настрой», «настроение»). Европейский Dasein настроен (gestimmt). Он обязательно пребывает в каком-то настроении или состоянии. Русский дазайн, напротив, совершенно не настроен. Каждая струна русского дазайна издает все время разные звуки: сколько бы мы ни вертели колки, она сама по своему усмотрению определяет высоту и тембр издаваемых тонов.
Русские не находятся в состоянии, они не в состоянии. Русский дазайн ускользает от состояния, находясь в постоянном неподвижном движении. Это статическая динамика прерывистого шепота. Русские не поют, но шепчут.
«Angst» («ужас»). Русские не боятся. Страх их не затрагивает, потому что они сами суть ужас. Не только для других, но в первую очередь для самих себя. Ужас, составляющий основу русских, делает их добрыми. Любое приходящее извне пугающее наличие гаснет в лучах их собственного ужаса. Нет ничего ужаснее русских, в этом исток их покоя и умиротворенности.
«Verfall» («распад», «разложение», «упадок», «падение»). Русский дазайн не падает, потому, что он уже лежит. Европейский Dasein проникнут головокружением, он высится над бездной и иногда понимает, что падает туда. Русский дазайн скользит, но не вниз, а скорее вверх; отсутствие усилий притягивает его к Небу, наличие усилий возвращает назад на родную плоскость. Если русские окончательно перестанут что-либо делать, они спасут мир. Отсутствие страха падения, упадка, распада, позволяет русским летать под землей и в земле.
«Verstehen»(«понимание»). Согласно Хайдеггеру, этот экзистенциал Dasein'а принципиален, так как выражает его мыслительное измерение. Конечно, в отличие от Гуссерля, Хайдеггер намеренно делает его одним из прочих экзистенциалов, говоря о нем несколько небрежно, но это не умаляет его центральности в общей конституции Dasein'а как он есть у европейцев. Русское «понимать» этимологически образовано от «имать», «иметь», то есть «брать», чтобы «иметь». «Понять» что-то значит «взять» это что-то, чтобы «иметь» это что-то в дальнейшем. Семантически это вполне походит на «до-бывать».
Относительно же немецкого слова «verstehen» все лингвисты согласны о переносе чувственного значения «стоять» (stehen) на область духовную. Приставка «ver-» означает «пере-», «рас-». Иногда значение «ver-» трактуется как аналог «unter», «среди», «под», что мы встречаем в английском языке -- «to understand», дословно «стоять среди», напоминающее латинское «intellegere», «мыслить», «понимать», от «inter-legere» (дословно «читать между»). «Verstehen» значит «соотносить», «реферировать». Dasein соотносит и экзистирует, соотнося.
Является ли русский дазайн в этой же степени «понимающим», то есть соотносящим одно с другим? Скорее нет. В этом смысле, русский дазайн соотносит все со всем, и через это соотношение вряд ли он «понимает» в полном смысле этого слова, скорее «принимает». Этимология обоих русских слов очень сходна: «при-нять» обладает лишь тем нюансом, что, «беря» нечто откуда-то, это нечто потом кладут очень близко, часто вовнутрь, то есть не просто себе, но в себя. Русский дазайн, скорее, принимает, а если и понимает, то подразумевает под этим принятие. Русские, экзистируя, принимают. А если не принимают, то это значит тоже принимают, но как-то иначе, а не «совсем не».
И, наконец, «zum-Tode-Sein» – «бытие к смерти». В высшей степени проблематичный экзистенциал для русского дазайна, и одновременно -- ось всей философии Хайдеггера. Смерть – это граница Dasein'а, четкий образ его конечности. Это другое, нежели он. По Хайдеггеру, однако, другим смерть становится только потому, что сам Dasein переживает себя как другое по отношению к Sein-бытию, то есть не смерть – другое, а Dasein – другой по отношению к бытию, жизни, самому себе. Он конечен не потому, что конечен, а потому, что воспринимает свою конечность как конечность, тем самым ее конституируя. Приняв экзистирование как бытие-к-смерти, Dasein открывает новый путь к бытию и к самому себе. Становясь всегда и во всех обстоятельствах лицом к смерти, Dasein утверждает свою подоснову, свою собственную истину и только в таком случае, в таком настрое и состоянии способен экзистировать аутентично. «Аутентично» значит «собственно» --так, как это следовало бы делать в том случае, если всерьез отнестись к Sein (бытию), в нем пребывающему. Принимая смерть, Dasein открывает жизнь.
У русских все совсем иначе. Смерть (и другое) никогда не поворачиваются к ним лицом. Смерть мерно разлита в не-смерти, другое – в этом. Русский дазайн экзистирует в своем бессмертии и только в нем, причем до такой степени, что саму смерть он не замечает и о ней не задумывается. Поэтому и понятие «бессмертия» лишено для него какого бы то ни было смысла. Объяснить русскому, что такое смерть, возможно только после того, как объяснить ему, что такое Европа.
Dasein и дазайн: пределы аналогии
Здесь мы сделаем небольшую паузу и попытаемся вдуматься в следующую закономерность, на которую мы набрели в ходе феноменологического описания русского дазайна. С одной стороны, мы явно описываем ту же саму инстанцию, которую Хайдеггер называет Dasein'ом, выявляя ее из-под гигантской надстройки западноевропейской метафизики. Это основание, Grund, причем, действительно, тщательно очищенное Хайдеггером (а прежде Ницше и Гуссерлем) от своей собственной философской надстройки. Dasein – то, что предшествует философии, что не является выводом из нее, что свободно от нее.
Говоря о русском основании (русском Grund), также вне надстроек философии и метафизики (в нашем случае, для этого необходимо освободиться лишь от наносного и фрагментарного, от нерусских «осколков» и нерусского «мусора»), мы теоретически рассчитывали получить полный аналог Dasein'а, отталкиваясь от которого, в свою очередь, надеялись обнаружить и обосновать возможность русской философии. Мы полагали, что можно начать там же, с той же базовой черты, с которой в первом Начале начали европейцы и заново предлагает начать Хайдеггер в другом Начале.
Пока речь шла об инаковой локализации русского дазайна по сравнению с Dasein'ом европейским, мы еще оставались в рамках намеченной траектории исследования и следовали за аналогией. Да, русский дазайн в отличие от Dasein'а европейского, выражающего в себе голографичность западного общества, может быть расположен только в народе, на изрядном расстоянии от индивидуума. Но далее мы ожидали найти нечто аналогичное, что могло бы быть описано с помощью пусть скорректированных, но в основном тех же экзистенциалов, в которых описывал Dasein Хайдеггер. И если с «бытием-в-мире» нам удалось провести некоторую параллель, выделив «пребывание» как фундаментальный экзистенциал русского дазайна, то далее мы явно сбились с намеченного курса. Вдумываясь в само слово «пребывание», мы обнаружили целый ряд других слов, в которых участвует «бывание», чье значение и оттенки употребления привели нас к далеко идущим (хотя и все еще предварительным) выводам о структуре русского дазайна.
В какой-то момент, феноменологически вникая в рассматриваемое нами Начало (русский дазайн), в ядро русского наличия и в само русское бытие, выражающее себя через русский язык, мы стали замечать, что целый ряд экзистенциалов Dasein'а у Хайдеггера совсем не подходит к описанию дазайна русского. Постепенно это расхождение стало приобретать систематический характер, как будто стремясь нам что-то сообщить.
Так, сами собой мы подошли к чрезвычайно важному выводу: аналогия между европейским Dasein и русским дазайном требует более серьезного и тщательного исследования. Различия обнаружились не просто в месте локализации Dasein'а/дазайна, но и в самой его структуре. Оказалось, что различие в локализации является фундаментальным и решающим.
Уже сейчас, несколько забегая вперед, из одного этого обстоятельства можно получить предварительный ответ на вопрос, почему у русских нет философии. Все дело в том, что русский дазайн имеет структуру, отличную от структуры западного Dasein'а, и значит, мы различаемся не только по философско-метафизической надстройке (которая у европейцев есть, точнее, была, но постепенно пришла в негодность, и которой у нас вообще не было), но и по базису, по основанию, по самой экзистенциальной почве, по грунту (Grund) мышления и бытия. Но если это так, то мы уже получили ответ, почему другие индоевропейские (и не только индоевропейские) народы создали свои высокодифференцированные религиозные и «философские» системы, а мы -- нет. Видимо, их Dasein имеет фундаментальные структурные отличия от нашего дазайна, и они ответственны за это обстоятельство.
Теперь мы вполне можем поискать корни западноевропейской метафизики именно в самом европейском Dasein'e, который на самом глубинном уровне организован так, что несет в себе философию как судьбу и извлекает ее в своей истории и культуре эксплицитно и развернуто, демонстрируя себе и другим глубинное содержание западного Dasein'а. Seynsgeschiсhte Запада как «страны вечера», как Abendland, следует искать там, где еще нет ни малейших следов ее.
Фиксация внимания на русском дазайне и попытка применить к нему экзистенциалы, фундаментальные для корректного описания Dasein'а европейского, дали нам важное знание не только о структуре русского дазайна, но и об определенных глубинных слоях самой западной философии.
Хайдеггер описал Dasein как нечто безусловно универсальное. И мы поверили ему в этом, предварительно отказав, правда, в универсальности западноевропейской метафизике как региональной надстройке над (вероятно) всеобщим базисом. Но попытка подтвердить это на основании исследования русского дазайна привела нас к опровержению исходного положения.
Русский дазайн оказывается отличным по основным своим конституирующим элементам от Dasein'а европейского. Слишком многие западные экзистенциалы к нему не подходят и, наоборот, слишком многие другие, совершенно иначе устроенные, экзистенциалы напрашиваются сами собой. Они приходят из стихии русского языка и структуры русской речи и естественно подтверждаются и культурой, и историей, и литературой, и общими феноменологическими наблюдениями за русской жизнью. Следовательно, мы можем не просто развести полюса нашей стартовой аналогии Dasein`a и русского дазайна, но в чем-то противопоставить их, отыскав различия в самой их базовой, корневой структуре. Тогда наличие философии в одном случае и ее отсутствие в другом (в нашем, русском) станут для нас лишь следствиями изначальных глубинных установок, обоснованных и подкрепленных самой природой рассматриваемых базовых уровней.
Фундаменталь-онтология границы
Попробуем на основании замеченных асимметрий в экзистенциалах, сформулировать некоторые различия Dasein'а и дазайна.
Dasein и русский дазайн -- оба находятся на границе, «между». Они и есть граница, которая первична по отношению к тому, что она ограничивает. Это не граница между двумя данностями, это граница, конституирующая данности, лежащие по обе стороны от нее. Эта граница есть основание и начало, предшествующее всему остальному. Это справедливо и для Dasein'а и для дазайна. Но дальше начинаются различия. Они заключаются в том, как Dasein и дазайн конституируют те области, которые они ограничивают. И даже точнее: что (пусть не ясное и конкретное, но очень приблизительное и смутно намеченное «что») они помещают по обе стороны от себя?
В самом общем виде можно сказать: европейский Dasein делит радикально, истово, до корней. Он есть граница, строго отделяющая это от того, внутреннее от внешнего, мыслящее от мыслимого, ноэзу от ноэмы, вещи от знаков, обозначающее от обозначаемого, дух от материи, субъект от объекта, причину от следствия и, самое главное, бытие от небытия. Суть Dasein'а в его онтологическом, фундаменталь-онтологическом статусе: Dasein отделяет бытие от небытия, он есть граница между бытием и небытием. Такой Dasein всегда трагичен, проблематичен, ассиметричен. Он всегда вывешен над бездной, он всегда конечен, он смертен, охвачен ужасом, выведен из себя. При этом не так важно, по какую сторону этой границы мы помещаем бытие, а по какую -- небытие. Мы можем поместить бытие внутрь, в область духа, субъекта – тогда он наклонится над бездной небытия внешнего мира, предстающего перед ним как «видимость», «Schein», «doxa». Мы можем поступить и наоборот, признав бытие за внешним (областью сущего, Seiende). Но тогда небытие (ничто) всплывет внутри субъекта и примется «ничтожить», уничтожать окружающее с помощью техники, Gestell, воли-к-власти. Мы можем удвоить границу и разделить на бытие и ничто внутреннее и внешнее, умножив дифференциал. В таком случае мы придем к метафизике и религии, отделяющей идеи от вещей, Творца от твари. Как бы мы ни полагали границу Dasein'а в рамках его западной версии, мы обязательно будем приходить к философии, метафизике, религии и истории, причем именно в тех формах, которые мы знаем в Европе. Радикальность границы, предельное напряжение ее дифференциала, в основе которого лежит головокружительный зазор между радикальным «да» и радикальным «нет», есть смысл Запада, его истина. И корень этой истины -- в самой структуре Dasein'а, то есть в его первичном и изначальном истоке, в его почве, в его дофилософской и доисторической, до-религиозной и до-гуманистической, дочеловеческой и доиндивидуальной природе. Какие бы дуальности такой Dasein ни конституировал, все они будут нести на себе отпечаток радикальной оппозиции между бытием и небытием, между нечто и ничто, между единицей (наличием) и нолем (отсутствием).
Нечто совершенно иное мы встречаем в русском дазайне. Это тоже граница (поскольку это дазайн); это тоже первичное основание всего остального; это тоже основа, начало (недаром мы говорили о русском arch). Но это граница, которая проходит между этим и этим же. Она полагает по обе стороны то же самое, а не различное; не просто нечто похожее, но строго то же самое. Эта граница вообще ничего не разделяет, и тем не менее это именно граница, и она выполняет свое основное предназначение. Русская граница не ограничивает, но делает безграничным, не определяет, но помещает в сладостную неопределенность; не ставит перед выбором, – здесь или там, то или это, я или не-я, – но напротив, успокаивает: там – это здесь, здесь – это там, я – это не-я, то – это это. Русский дазайн не просто условно референтен (и в европейском Dasein'е внешнее и внутренне, бытие и небытие можно поменять местами), он автореферентен. На что бы он ни указывал, он указывает лишь на самого себя, так как da в нем изначально и принципиально искуплено Sein'ом, включено и заключено в Sein необратимо и надежно. Смертельного напряжения между da и Sein, составляющего суть европейского Dasein'а, здесь нет и в помине, поэтому русский дазайн экзистирует в корне иначе, чем европейский. «Пребывая», он не создает ни одной из тех экзистенциальных силовых линий, в которых проявляет себя европейский Dasein. В нем вообще нет места для исключения, он включает в себя все -- и не абстрактно, как пожелание или тяготение к интеграции, а конкретно и изначально, как здесь и сейчас, везде и всегда наличествующий и неразложимый, нерасчленимый готовый интеграл.
В русском дазайне нет ничего, что могло бы находиться вне его. Игра дублей в нем успокоена, снята, умиротворена. Бытие-в-мире (In-der-Welt-Sein) для русского дазайна -- «пребывание в умиротворении»; конституируя мир, он конституирует не свой дубликат, но строго себя самого как того, к чему нельзя отнестись.
Асимметрия различий
Теперь есть возможность сопоставить между собой Dasein и русский дазайн и представить себе момент их возможной встречи. Фундаментальное различие между ними каждым из них будет восприниматься особенным образом. Европейский Dasein, скорее всего, исключит русский дазайн, вынесет его от себя в область «того», «другого». Либо, сопоставив с собой, обнаружит радикально более низкий (и, на самом деле, вообще отсутствующий) перепад дифференциала на границе, и причислит к «недо-западному», «недо-европейскому» явлению. Так Запад поступает с другими незападными культурами, даже весьма развитыми – такими, как китайская, индийская, исламская или японская – на основании более ослабленного или иначе сконфигурированного дифференциала их «локального» Dasein' а в сравнении с европейским. В любом случае западный Dasein как-то отнесется к русскому дазайну – либо с неприязнью, либо с жалостью, либо с недоумением, либо как к пустому месту, пригодному лишь для населения колонистами или иной прагматической и чисто технической утилизации.
А что же русский дазайн? Отвергнет ли он столь инаково организованную экзистенциальную структуру? Нет, ни в коем случае. Он не сможет идентифицировать ее как нечто другое, так как для русского не существует и не может существовать ничего нерусского. Все, что существует – русское. Все, чего не существует, существует, а значит, оно тоже – русское. Русский дазайн всецело инклюзивен, он не способен чего-то не принять, это не в его силах: в его силах – только принять, принять все и погрузить в себя. При этом и вопроса не рождается, сможет ли он переварить то, что принял в себя. Он просто принимает без всякой задней мысли, без всякой мысли вообще. Поэтому западный Dasein русский принимает как незападный и, возможно, не как Dasein. Русифицируя, он его переводит не просто в русскую «языковую игру», но в русскую фундаменталь-онтологию, помещает в русское бытие.
Отсюда возникает асимметрия, приводящая, в частности, к археомодерну. Запад, приходя в Россию, начинает трудиться над русским Началом, русское же Начало принимает это в духе своей собственной экзистенциальной стратегии, не сопротивляясь, но при этом и не переходя определенной черты, где началась бы «настоящая модернизация». Любая модернизация в России всегда обречена на то, чтобы оставаться русской модернизацией, то есть не модернизацией вообще, но археомодернизацией, где строгие высокодифференцированные конструкции западной социальной, политической или экономической надстройки постепенно растворяются в русском «пребывании», и ускорение становится замедлением, прогресс – скольжением в древность, история – рециклированием старых мифов, изменение – постоянством, реформы – вечным возвращением того же самого. При этом русские не просто саботируют западное, они его перетолковывают и не просто не понимают оригинального смысла, но, принимая, наделяют своим особым русским смыслом, который, впрочем, не может быть строго отделен от бессмысленности, будучи самореферентным.
К этим соображениям мы еще вернемся позднее, а пока, уже с новым навыком проведения различий между Dasein'ом и дазайном, можем продолжить последовательное применение хайдеггеровских экзистенциалов к русскому Началу, не удивляясь более системности расхождений и обратных симметрий.
Заброшенность и кувырок
Важнейшим экзистенциалом Dasein'а Хайдеггер считает Geworfenheit, «заброшенность». Введением именно такой формы, Хайдеггер стремится освежить восприятие того, что в европейской философии называется «subjectum». Этимология латинского слова «subjectum» означает «брошенный под», «под-брошенный». Хайдеггер призывает посмотреть на субъекта не как на онтологическую категорию, а как на первичное онтическое самоощущение Dasein'а, внезапно и стремительно очутившегося среди сущего, причем не просто как одно сущее среди других сущих (Seiende), а как «вот-бытие», как бытие (Sein), молниеносно проснувшееся все целиком в случайной и крохотной точке онтического «вот» («da»). Надо отметить, что хайдеггеровский экзистенциал Geworfenheit серьезно впечатлил философов-экзистенциалистов, что придало понятию «субъекта» новое, пронзительное измерение.
К русскому дазайну, как это уже можно было предположить, данный экзистенциал не подходит. Не случайно, в русском языке нет слова, которое отдаленно напоминало бы латинское «subjectum». Можно предположить, что нам чужды философские надстройки, связанные с субъектом, сложности с пониманием его места и его значения в бытии. Это естественно. Но если учесть хайдеггеровскую «заброшенность», то и на уровне Dasein'а мы не находим в русском Начале какого-то, даже приблизительного соответствия. Русские в бытии у себя дома. Они -- что угодно, но только не заброшены. Они не заброшены ни у себя, ни не у себя. Везде они находят себе естественное и успокаивающее применение, везде они соответствуют. Крепкая встроенность в народное бытие не дает им из него выпасть, выброситься. Русские не заброшены, но помещены, куда надо. Русские всегда на месте, на естественном месте. В истоках своего наличия они не перемещены, но уложены в ряд. Поэтому от них ускользает острота индивидуального самонахождения в заброшенности, в субъектности, в одиночестве перед лицом чужого. Русским не известен субъект: ни в развитых схоластических или картезианских, ни в корневых экзистенциальных срезах. Субъектность предполагает жесткое сосредоточение на одной из сторон, конституируемых Dasein'ом как границей, – на стороне «внутреннего», на самом далеком крае этого внутреннего. Заброшенность не субъект, но бросающий импульс от самой этой границы внутрь. Русские же находятся на самой границе и не сходят с нее, будучи с ней едиными: поэтому на любую попытку бросить их на одну из сторон, они отвечают ловким акробатическим кувырком и оказываются на противоположной стороне, чтобы снова закрепиться на самой бытии-границе. Как Ванька-встанька. Когда «неваляшку» наклоняют («забрасывают»), она поддается, но тут же вопреки этому занимает вертикальное положение, хотя, если ее не трогать, она сама ляжет и будет лежать спокойно. Русский на попытку его «субъективизировать» («забросить») отвечает «контра-ектом», «броском в обратном направлении». Он не успевает побыть в «заброшенности», так как тут же возвращается на место в силу глубинной центричности.
Проект и воля
В хайдеггеровской аналитике Dasein' а «заброшенность» (Geworfenheit, субъект) тесно сопряжена с «проектом», «Entwurf». То, что бросили, выбираясь, бросает перед собой себя. Это и есть этимология и смысл латинского слова «projectum», происходящего от того же корня «jacere» («бросать», «метать»), что и «subjectum», «objectum» и т.д. Отсутствие «заброшенности» (субъекта) в русском дазайне заставляет нас ожидать, что и проект будет, как минимум, размыт и смутен. Так оно и есть.
Для слова «проект» в русском языке не нашлось ничего лучше, как точной этимологической кальки «набросок», которая однако настолько слаба и беспомощна, что наглядно контрастирует с волевым и радикально решительным проектом (Entwurf). По Хайдеггеру, проект (Entwurf) есть ответ Dasein'а на заброшенность (Geworfenheit). Резкий бросок в субъектность, во внутреннее, порождает контрэнергию, выражающуюся в могучей воле, направленной на внешнее, на его переделку, изменение, заполнение, производство. В определенном смысле, это источник «tecnh».
В русском дазайне для концентрации таких энергий полностью отсутствует экзистенциальная территория. Индивидуальность и субъектность русского находятся на поверхности, на самой границе, и поэтому их ответное воздействие на внешнее, на мир «объектов», на сущее вовне, достаточно слабо и размыто. Что-то русский человек на мир набрасывает, но делает это деликатно, ненавязчиво, всякий раз будучи готовым поправиться, отступить, поддаться на воление самих вещей, учесть их устройство и их предпочтения. Поэтому русский дазайн и не склонен к порождению объектов, к творению вещей, к техническому переустройству мира. Чтобы он на это пошел, его надо жестко принудить.
Тут мы сталкиваемся с двумя важными особенностями русского дазайна: слабость воли, нежная деликатность желания и стеснительность в конституировании внешнего мира как мира объектов. Все это тесно связано с «недалеким» расстоянием «заброшенности» и слабостью соответствующей реакции «проекта».
Как не может быть русского субъекта, так не может быть и русского проекта. И из этого вытекает, что не может быть русского объекта. То, что является русским, то, что относится к русскому дазайну, не покидает изначального места в бытии, которое есть само бытие. Но бытие, деля все остальное, не делит самое себя.
Русские, следуя за процессом деления всего остального, тщательно его повторяя, всякий раз оказываются на стороне бытия, а не на стороне «всего остального», и таким образом избегают деления, при том, что активно и интенсивно в этом делении соучаствуют. Деля, они не делятся, возвращая всю долю бытию и давая в придачу самих себя.
Воля для русских, в отличие от немецкой «Wille» или латинской «voluntas», «appetitus», не напряжение субъективных сил, направленных к фиксированной цели во внешнем, но напротив, разрешение пронизывающим все невнятным движениям, верчениям, вращениям и дуновениям делать то, что им вздумается. Если русский волит, проявляет воление, то только так же, как это делает дождь, падая на землю, солнце, поднимаясь над горизонтом, или ветер, колышущий листву деревьев. Это и есть русская воля – растворение даже намеков на субъектность, объектность и проектность в тонком созвучии с разнородными и разномерными движениями жизни. Воля есть везде – и в свободе, и в рабстве. Она не зависит ни от чего, кроме как от всецелого и заведомого одобрения русскими бытия.
Экзистенциал Mit-Sein, гомология индивидуального в западном обществе
Теперь можно обратиться к экзистенциалу «Mit-Sein», «бытие-с». Для Хайдеггера введение этого экзистенциала имеет огромное значение, так как совершенно по-новому формулирует центральную для европейской метафизики проблему «субъекта». Обычно субъект мыслится в ней как «я», как индивидуум, сопоставленный или противопоставленный таким явлениям, как «мы» или «ты», что составляет, в той или иной степени, ядро проблемы субъективности и интерсубъективности. Чаще всего «я» берется как ось субъекта, который может вступать во взаимоотношения с другими субъектами, что либо расширяет, либо (в определенных случаях) сужает и ограничивает сферу его субъектности. Хайдеггер разрешает эту проблему особой локализацией Dasein'а, который есть изначально Mit-Sein, то есть бытие-с, причем прежде того, как будет уточнено бытие кого и с кем. Dasein в таком случае выступает как нечто первичное по отношению ко всем типам субъективности – и индивидуальной, и диалогальной (проблема «ты»), и коллективной (мы»). Предлог «с» (mit) в данном случае означает не складывание частей, но предварительную основу, которая, развиваясь и уточняясь в разных ситуациях, выступает как «я», «ты» или «мы». Интеграл здесь предшествует дифференциации, и тем самым субъект утрачивает свою неделимость, фундаментальность и онтологическую обоснованность и растворяется в экзистировании Dasein'а (чтобы быть конституированным этим Dasein'ом в разных ситуациях по разным сценариям).
На первый взгляд, Mit-Sein точно соответствует соборности, часто выделяемой в качестве отличительной черты русского народа, а также свойственным русским общинности, коллективизму, тяготению к цельности (это особенно подчеркивали славянофилы и народники). Но это сходство обманчиво, так как уводит наше внимание от очень важного и глубинного обстоятельства. Западноевропейский Dasein представляет собой некую голограмму, которая имеет принципиально одну и ту же самую конфигурацию, одинаковую форму независимо от того, рассматриваем ли мы индивидуального субъекта («я»), коллективного субъекта («мы») или взаимодействие двух или более субъектов. Это очень ясно подметил «поздний» Гуссерль в ответ на упреки его в солипсизме. Гуссерль возражал, что исследование «трансцендентального субъекта», отталкивающееся от «я», при корректном проведении дает нам совершенно достоверные результаты и для другого «я» и для совокупности «я». Хотя Хайдеггер критиковал понятие «субъекта» вообще (включая гуссерлевскую версию), он полагал, что всеобщая голографичность между различно масштабируемыми «величинами» субъектности в западноевропейской культуре не подлежит сомнению -- более того, является ее основой, ее абсолютным фундаментом. Это не индивидуализм в банальном понимании, это идея фундаментальной гомологии, абсолютного подобия (в геометрическом смысле) человека, людей и общества.
Если предположить, например, что западный индивидуум является, «квадратом», то в этом случае и другой индивидуум будет «квадратом», и все общество будет «квадратом». Наложения масштабов и позиционирований создают множество уникальных и оригинальных ситуаций, диалектических переходов, игр идентичностей. «Квадрат», мыслящий о себе, как о «квадрате», в этой самореференции, вынужден проецировать на других нечто отличное от себя (в любой идентификации «А равно А» уже по определению заложено отрицание «А не равно не-А»), а следовательно, другой «квадрат» он воспринимает хотя бы частично как не-«квадрат». Но точно так же поступает и другой «квадрат», приписывая «квадратность» себе. Видя вне себя иной «квадрат», он вынужден идентифицировать в нем «не-квадратные» черты. И эта зеркальная игра аберраций, их переплетение, их диалектические сходства и противоречия, составляют ткань истории, если отнестись к ней как к истории индивидуумов и индивидуальных событий. Но это усложнение ничего принципиально не меняет в базовой структуре общей гомологии.
В этом свете хайдеггеровский экзистенциал Mit-Sein лишь фиксирует эту гомологию в чистом виде, вскрывая то обстоятельство, что Dasein всегда являясь всеобщим (Mit) и вместе с тем строго индивидуальным при том, что ни его структура, ни его природа нисколько не изменяются в обоих случаях. Подробно эта тема самим Хайдеггером рассматривалась в работе «Логика как вопрос о сути языка» (31), во второй главе «Вопрос о сути человека» (32). На этом принципе Хайдеггер строит свою критику национал-социализма и расизма, которая в полной мере отражена в этом сочинении.
Собрание воедино «народа» (Volk) и «расовая чистота» ничего не меняют в структуре экзистирования. Dasein'а в коллективе не больше, чем в одиночестве. Даже меньше. Вопрос лишь в том, какова чистота и аутентичность Dasein'а, какова всеобщность одиночества? Если одиночество аутентично, то в нем будет больше Mit-Sein, оно будет более «с», более всеобщим, нежели механическое объединение народных множеств или даже всей «расы». Хайдеггер и обращается к таким «аутентичным» единицам, которые, по его убеждению, и есть «народ», «Volk» в его чистой сущности. Эти единицы – поэты и философы, мыслители и художники, но не как индивидуумы, а как выразители одновременно всеобщего и уникального Dasein'а. Поэтому Mit-Sein'а в аутентично экзиcтирующей личность будет намного «больше», нежели в толпе, даже если эта «чисто арийская толпа». Эта аутентично экзистирующая личность будет более общественной, более всеобщей, более «соборной», чем эта толпа.
Личность как ничто у русских
Радикально иначе обстоят дела с русским дазайном. Русская (феноменологически фиксируемая) антропология основана на совершенно ином соотношении между целым и частным, между личностью и народом. Между ними нет голографичности. Русский индивидуум представляет собой совершенно иную фигуру, нежели русский народ.
Можно описать эту ситуацию следующим образом. Допустим, что русский индивидуум -- квадрат. В этом случае русский народ, русское человечество в целом, можно представить как круг. Поэтому процесс идентификации в случае русского человека фундаментально различается с западноевропейским сценарием. Идентифицируя себя с обществом (народом, коллективом, целым), западный человек идентифицирует себя с самим собой. В конечном счете, это есть операция автореференции, так как здесь доминирует принцип «гомологии», подобия.
Русский человек, идентифицируя себя с народом, с русским народом, идентифицирует себя с другим -- с другим, нежели он сам. Мы получаем квадратуру круга и сбой логических операций. А здесь не равно А, и А есть одновременно и не-А (33). Русский индивидуум через идентификацию с русским народом (то есть с русским дазайном) приобретает свойство, всегда отличное от его индивидуальной структуры, всегда иное, нежели он сам. И при этом он никогда не усваивает до конца форму самого народа, основывая на этой двусмысленности свое личное экзистирование. Как личность русский человек есть «квадрат», как русский – «круг». Поэтому он определяет себя сразу как две различные вещи, осуществляя операцию двойной идентификации – с самим собой и с народом. «С народом» не значит с другими людьми, с другими индивидуумами. Напротив, русский человек может быть крайним индивидуалистом и является таковым всякий раз, когда дело касается его личности и ее свойств. Тут он не видит сходства с другими индивидуумами, так как эти индивидуумы представляют собой то «треугольник», то «овал», то «трапецию». В этом отношении существует широкое поле для недоразумений и разнообразных непониманий. Идентифицируя других как «не себя», русский человек не ошибается, вступая в диалектику различий, а не просто проецируя отрицательную рефлексию тождества на такие же квадраты (как в западном Dasein'е). Отсутствие голографии открывает для русских возможность диалога с «ты» как с по-настоящему другим, а не с самим собой, лишь ограничивающим себя самого (только западный Dasein может заявить, как Сартр, что «ад – это другие»). Из различий индивидуумов может сложиться и совершенно разнообразное «мы» -- с широкой степенью вариативности и собственных оригинальных сингулярных признаков. Но ни совокупность многих отдельных «я», ни напряженное взаимодействие с множественными «ты», ни даже интегральное «мы» и близко не дают нам русского народа и русского дазайна.
Бытие-с для русских не имеет онтологического смысла, как не имеет онтологического смысла и одиночество. Собирание всех вместе как индивидуумов, интенсивный диалог или обращенность к себе – все эти позиции не принадлежат к сфере русского дазайна. В этих позициях нет ни бытия, ни не-бытия; русские их не знают. Бытие начинается там, где проходит линия идентификации себя с народом – как с другим. И в этой ситуации и «квадрат», и «треугольник», и «овал», и «трапеция», переживая себя как русские, «пребывая» в русском, оказываются «кругом», одним и тем же «кругом», не имеющим внутри себя никаких различий и никаких особенностей. Будучи русскими, русские суть. Будучи индивидуумами, личностями русские не суть, они не пребывают, они -- ничто. Но не такое ничто, которое было бы радикально отделено от бытия, а такое ничто, которое встроено в бытие, которое вмещено в него -- не исключено, но включено, оставаясь другим. В этом случае, индивидуальность, фундаментально нигилистическая, искупается прямым отношением к народу, и этой принадлежностью ее нигилизм преодолевается, хотя и таким образом, чтобы не нарушить строгое наличие ничто, запечатленное в личности.
Личность в русских ничтожна и не относится к русскому дазайну; она есть помеха и недоразумение. Но, будучи русской, личность есть вместе с тем и не-личность, и ответ и сладкая полнота, так как она ни при каких обстоятельствах не может быть рассмотрена полностью оторванной от народа, от русскости. Раз личность есть, если она экзистирует, она уже в силу этого факта есть нечто русское, значит… она есть (хотя, казалось бы, все должно быть прямо наоборот). То есть не-русское (личность) не есть, но вместе с тем, так как не-русского нет, то есть и не-русское.
Хайдеггер, в одном месте разбирая Парменида, говорит, что «небытие есть» (34), и именно так правильно его мыслить. Русская личность как небытие есть, и есть она только за счет того, что она русская.
Итак, в экзистенциале Mit-Sein для нас вскрывается еще одна глубинная особенность русского дазайна, который пребывает в народе, и тогда, когда личность «с» народом, она есть русская личность; когда она не «с» народом, она есть просто личность, и в этом-то качестве она абсолютно и безнадежно одинока. Но одинока не с Dasein'ом, а без него, без дазайна. Она одинока, как одиноко ничто. И нет того, что бы могло смягчить это одиночество ничто: другие личности – все ли вместе или по отдельности – суть тоже лишь зеркала ничто, даже если форма их оправ, отлична от собственной. «Квадраты», «треугольники», «овалы» и «трапеции», не отражая «круга» (русского дазайна), отражают не друг друга, а свое собственное ничто – «квадратное», «треугольное», «овальное» или «трапециидальное».
Аутентичность/неаутентичность (das Man)
В Dasein'е Хайдеггер выделяет два режима экзистирования, которые строго соответствуют основным экзистенциалам, но переводят их в те или иные модальности. Эти режимы Хайдеггер называет «аутентичным» и «неаутентичным» («eigene» und «uneigene») (35), что на русский язык можно приблизительно перевести как «собственный» и «несобственный». Это принципиальная для Хайдеггера пара объясняет весь процесс построения философии, культуры, искусства как развертывание того или иного режима экзистирования или их наложений.
Аутентичный Dasein сводит себя к Sein. Обращение к Sein, к истине бытия приводит все экзистенциалы в аутентичный режим. Все они начинают соотноситься с Sein (бытием) и направляться к утверждению его истины. Смысл аутентичности Dasein'а состоит в его возможности быть. Неаутентичный же режим экзистирования уводит Dasein от сосредоточенности на Sein (бытии), и в таком случае все экзистенциалы начинают работать по искаженной траектории, удаляя Dasein от Sein, обращая его куда угодно, только не к Sein.
Процесс неаутентичного экзистирования конституирует Dasein в особую фигуру -- в das Man. Das Man – это «я» неаутентичного Dasein'а. Это ответ на вопрос «кто?», обращенный к нему. Безличной форме «man spricht», «man denkt» в русском языке соответствует «говорят», «думают», без уточнений, кто говорит, кто думает.
Неаутентичному «кто?» Dasein' у Хайдеггер противопоставляет Selbst, дословно, «сам», «он сам» или «само», «оно само». Dasein как Selbst, как сам/само экзистирует в направлении Sein (бытия), двигаясь к своей главной возможности – возможности быть. Поступая так, Dasein выступает как он сам или, точнее, как оно само (в данном случае Dasein мыслится, в первую очередь, как место концентрации Sein-бытия, Seyn-бытия, и следовательно, это как раз тот случай, когда акцент падает на «бытие», и мы можем применить к Dasein средний род). Хайдеггер тщательно избегает применения формул «эго» (как у Гуссерля), «субъект», «я» («ich», «ichkeit» -- как у Фихте). Selbst аутентичного Dasein'а представляет собой движение чистой силы бытия – не внутренней и не внешней. Именно на этой чистой силе Selbst'а Dasein'а Хайдеггер и предлагает строить другое Начало.
Но здесь снова следует вспомнить о том, что мы назвали голографичностью западного «человечества». Индивидуум мыслится здесь как общий образец, как холос и как универсальная мера вещей, как универсум. Совокупность же людей, их интеграция в народы, нации, массы или коллективы, ничего не меняет в этой универсальности. Строго говоря, в такой картине антропологии есть только «я», а «ты» есть не что иное, как «другое я».
Selbst Хайдеггера не индивидуален, а вот das Man подчеркнуто коллективен -- это видно и в русском («говорят», «думают»), и в английском («they say», «they think») языках. Das Man – «я» неверное, неаутентичное, а Selbst – верное, аутентичное. Избегая говорить о «я», Хайдеггер хочет подчеркнуть, что он не собирается подниматься к онтологическим этажам рефлексии и говорить о субъекте. Но все же в Selbst читается именно «я», только не дискурсивное, дианоэтическое, а корневое, донное, предшествующее саморефлексии. Selbst одинок, и одиноко его движение к бытию. Das Man же всегда в компании, всегда занят, у-влечен, раз-влечен (во все стороны). Он перманентно бормочет, болтает (Gerede -- поток нечленораздельной речи). Он постоянно движется, ему все интересно, любопытно, ему до всего есть дело. Das Man безличен, дезиндивидуализирован, его «я» конституируется из постоянных интеракций, он черпает информацию о себе самом из радио- и телепередач.
Диалог das Man'а есть монолог и, в конечном счете, свободный поток ничего не означающих и никому не принадлежащих знаков («информационное общество» – явно плод его стараний). Ужас у das Man'а превращается в легкую боязливость в отношении внешнего мира. Заброшенность он топит в коммуникациях, вместо собирающего одиночества, он распадается. Волевой проект заменяется суетливой и пустой деятельностью. При этом das Man непременно озабочен, он печется обо всем, все стараясь понять и обиходовать. Бытие-в-мире das Man трактует как «обмирщвление», он секулярен и не воспринимает дистанций.
«Говорят»: отсутствие проблемы аутентичности в русском дазайне
Можно ли выделить два режима – аутентичный и неаутентичный – в структуре русского дазайна? Что такое русский das Man? Что такое русский Selbst? И есть ли они?
При первом приближении и здесь решающей будет локализация русского дазайна в русском народе. Аутентичность и неаутентичность дазайна будут определяться тем, насколько те или иные модусы его экзистирования являются русскими, вытекают из русского Начала. Чем более русским будет экзистирование, тем более оно будет аутентичным. И здесь мы сталкиваемся с неожиданным переворачиванием пропорций в квалификации «кто» дазайна.
Поскольку русский дазайн пребывает в народе, то формула «говорят» окажется более аутентичной, нежели формула «я говорю», формула «думают» -- более аутентичной, нежели «я думаю». Мы видели, как прозрачен, неустойчив и ненаходим русский субъект, русский индивидуум. Чем больше индивидуум, чем больше субъект, тем менее он русский. Но бытие -- русское и сосредоточено оно в русском. И тогда, в отличие от европейского определения аутентичности, русская аутентичность будет скорее в das Man'е, нежели в русском Selbst'е.
Прямого аналога выражению «man» в русском языке нет. Во французском языке в этом смысле используется безличное местоимение «on», в английском для этой же цели служит личное местоимение третьего лица множественного числа – «they» (при этом «man» образовано от «Mann», «мужчина», «человек», а французское «on» – от «homme», также «мужчина», «человек»).
В русской речи форма «говорят» вообще не подразумевает никакого -- ни личного, ни безличного -- местоимения, хотя и наделена она признаком множественного числа. «Говорят», «думают» не подразумевает «они говорят» или «все думают», «люди говорят, «люди думают». Нет, «говорят» и «думают» в русском языке -- это что-то иное. Это не безличное указание на абстрактные персоны, не нечто собирательное. Местоимения здесь просто нет. «Говорят», «думают» -- это многоголосая речь ничто, мерное самоговорение, мышление вообще, без субъекта и без объекта. Это то, что идет сквозь человека как его жизненная среда, как его бытие. Пребывая, «думают», «говорят», «пляшут», «смотрят», «кашляют», «плачут». Кто? В ответ на вопрос «кто?» русская речь оставляет пустое место. Это не просто лишившийся признаков, обобщенный человек (man, on) или собирательные и посторонние «они» (they). Это ничто, под которым подразумевается что-то, категорически ускользающее от того, чтобы отнестись к нему в лоб.
С лингвистической точки зрения могут возразить, что в латинских языках – в самой латыни и в современном итальянском, например, личные местоимения часто опускаются и подразумеваются лицом и числом глагола. Но это опускание подразумеваемого личного местоимения не отменяет подразумевания, которое восстанавливается из контекста, в котором всегда очевидно, о каком «я», «ты», «он», «мы», «вы или «они» идет речь. Пустое место местоимения в латинских выражениях «dixi» («я говорю») или «dixit» («он говорит») всегда логически заполнено однозначно схватываемым в рамках латинской «языковой игры» актором. Отсутствие его упоминания, возможно, объясняется пронзительным восприятием жесткости грамматических конструкций в языке народа, создавшего гигантскую упорядоченную империю.
И, напротив: «говорят», «думают», «плачут» -- это нечто совершенно русское: это указание на полное отсутствие «я», «эго», а также на «ты», «мы», «они». Это удивительный по своей силе и простоте ответ на вопрос «кто?» Когда «говорят», «говорящий» («говорящие») отсутствует, и только такой разговор аутентичен.
Так что же (раз «кто» выпадает) говорит? Говорят народ и русское бытие. Множественность же времени глагола определяется тем, что это «говорение» содержит в себе сразу несколько параллельных и переплетающихся нитей повествования, сворачивающих на полпути, прерывающихся и снова подхватывающих предыдущее с новыми именами, персонажами и обстоятельствами. От этого складывается впечатление, что говорят будто многие, но, если приглядеться внимательнее, то никого нет.
«Говорят» многие, которых нет, разнообразные, многоликие и многомерные, противоречивые, разносторонние и запутанные, но вместе с тем прямые и ясные, отсутствующие и, одновременно, плотски наглядные в своем отсутствии, со вкусом и запахом -- со вкусом и запахом бытия.
У русского дазайна нет «самого» его (Selbst), потому что в нем нет не его. По сути, вопрос об аутентичности и неаутентичности – это не проблема русского дазайна; коль скоро он есть, то он русский, а коль скоро он русский, он аутентичен.
Поставив вопрос о самости, мы поставили вопрос о не-самости, а вот этого уже русский дазайн не знает. Не-русский Dasein или «не совсем русский» Dasein (например, двоящийся Dasein/дазайн археомодерна) имеет самость как проблему, как возможность и как поле свободы. Русский дазайн такой проблемы не имеет, и не имеет вместе с тем свободы. Русский не может не быть: в этом единственное ограничение русскости.
Здесь следует остановиться: последнее замечание явно содержит какую-то погрешность. Исправляем: русское бытие полностью инклюзивно, а значит, небытие не исключено из него, но включено в него. Следовательно, если русский захочет не-быть, он может сделать и это, так как сама ограничивающая невозможность пролегает внутри бытия, между «этим» и «этим», и, выбрав не-бытие, русский его легко достигнет. Но для того, чтобы это стало возможно, оно, не-бытие, должно уже находиться в бытии, поэтому, выбирая, русский ничего не выбирает, и небытие также изначально присутствует в нем, живет в нем, как и бытие.
Пребывая, русский одновременно не-бывает. Отсюда русская стеснительность, осторожность, невнятность, спокойное и радушное слияние с чем бы то ни было. Но бездна, пустота, ничто для русского устойчивы, надежны, полны до краев. По бездне он ступает уверенно и легко, чуть-чуть кое-где оскальзываясь. Потому что бездна – это он сам, она не просто у него внутри, она и есть он. Вот почему и нет в «говорят», «думают», «считают» никакого лица: это глоссолалия русских бездн.
Глава 10. Экзистенциальная аналитика археомодерна
Этапы выяснения европейско-русского экзистенциального дуализма
Ранее мы вскользь затронули проблему археомодерна в контексте аутентичного и неаутентичного Dasein'а/дазайна. Эта тема требует более пространного разъяснения.
Русский дазайн аутентичен во всех своих наклонениях и включает в себя неаутентичность как аутентичность. Поэтому, в частности, будучи заключен в герменевтический эллипс археомодерна, русский дазайн не противится вторжению второго фокуса B (схемы 1-8), фокуса того, что теперь с полной уверенностью мы можем квалифицировать как вторжение не просто западной культуры и философии, но самого западного Dasein'а. Так, по логике нашего исследования, мы подошли к теме экзистенциальной аналитики археомодерна.
Теперь структура герменевтического эллипса, к существованию которого мы свели блокирование самой постановки вопроса о возможности русской философии и темы взаимоограничения развития русского Начала и эффективной вестернизации (модернизации) России, предстает перед нами более отчетливо. Мы можем рассмотреть ее на экзистенциальном уровне, на уровне Dasein'а, тогда как ранее она представала перед нами как конфликт, привнесенной извне гетерогенной надстройки с чрезвычайно размытым и неопределенным, не способным сказать о себе ничего вразумительного, гипотетическим русским базисом. Эта дуальность археомодерна интерпретировалась нами ранее как болезненное и противоестественное гибридное сочетание периферийного сектора западноевропейской онтологии и метафизики с разрозненными и двусмысленными влияниями, исходящими из русского центра, о котором было известно только то, что он генерирует помехи, сбои и аберрации, идиотизируя и так уже периферийный европейский контекст.
Благодаря Хайдеггеру и феноменологической деструкции мы не только ясно представили себе структуру западноевропейской метафизики, с включенными в нее основными смыслами и этапами развертывания, приведшими к актуальной нигилистической фазе (фазе постмодерна), но и распознали ту основу, на которой западноевропейская метафизика была выстроена.
Приняв вслед за Хайдеггером эту основу – собственно Dasein -- за нечто универсальное, мы решили с помощью экзистенциальной аналитики выявить аналог Dasein'а в русском народе, чтобы более корректно, развернуто и структурно описать русское Начало -- фокус А (схемы 1-8) в герменевтическом эллипсе, ответственный за систематическое искажение западноевропейских влияний. На этом пути мы вначале столкнулись с инаковой локализацией русского дазайна в сравнении с Dasein'ом европейским, а затем обнаружили глубокие противоречия между их структурами, затрагивающими глубинные экзистенциальные уровни.
Внимательное (хотя все еще предварительное) рассмотрение этих различий помогло составить реестр собственных экзистенциалов русского дазайна, существенно отличающихся по составу, значению и модальности от европейского Dasein'а. Это позволило нам уточнить параметры аналогий между Dasein'ом и дазайном и дать их содержательное описание. Оказалось, что европейский Dasein и русский дазайн в своих глубинных корнях радикально различны и едва ли не противоположны. Основное различие состоит в качестве границы, которую представляет собой Dasein/дазайн. В европейском случае это граница между «этим» и «тем», между «одним» и «другим», между «да» и «нет», между «бытием» и «небытием», между «нечто» и «ничто». В русском случае это граница между «этим» и «этим», между «одним» и «одним», между «да» и «да», между «бытием» и «бытием», между «нечто» и «нечто», между «ничто» и «ничто». Столь фундаментальная разница объяснила нам причину наличия философии на Западе и отсутствия ее в России.
Высокодифференцированная модель мышления и культуры, к которой относится философия, равно как и религия (в смысле богословия или, точнее, «теологики», по выражению Хайдеггера), могла и должна была возникнуть на основе (Grund), заведомо представляющей собой резкий, головокружительный дифференциал, развитием которого и явилась европейская Seynsgeschichte (включающая, кроме всего прочего, и фазу модерна, технического развития и на последних стадиях открытого нигилизма и постмодерна).
Русский дазайн в своих корнях структурирует дифференциал (границу), составляющий его суть, совершенно иначе -- исходя из глубинной интегральности, целостности и первичности бытия, которое является не предикатом и не объектом сакрального почитания, но единственным и единым началом/концом, жизнью, всем/ничем, эссенцией, акциденцией и экзистенцией того, что мы понимаем под «русским», под «русским народом». Как нам следует интерпретировать такую особенность русского дазайна, – как онтику, как онтологию или как фундаменталь-онтологию, -- мы увидим позже. Но уже сейчас ясно, что совокупность полученных выводов существенно приблизила нас к решению поставленной изначально проблемы о возможности русской философии.
На этом этапе у нас появилась возможность более глубокого вскрытия сущности археомодерна через соотнесение западноевропейской онтологии не с расплывчатым и неопределенным «русским полюсом», о котором якобы невозможно сказать ничего содержательного, но сопоставляя две глубинные феноменологические и экзистенциальные основы, две «почвы» (Grund), два Dasein'а/дазайна, поддающиеся более или менее строгому исследованию. И в таком ракурсе нам становится понятным, каков экзистенциальный генезис археомодерна. Он заключается в наползании европейского Dasein'а на русский дазайн, порождающего герменевтический псевдоморфоз, который является ключом к дешифровке смыслов (бессмыслиц) русской культуры в последние века.
Экзистенциальные истоки русофобии
Теперь вновь можно обратиться к теме аутентичности, и сопоставить между собой модусы болезненно коэкзистирующих друг с другом европейского и русского начал. Запад присутствует в России через свою периферию, через свои остаточные, маргинальные элементы. Эти элементы разнородны и представляют собой довольно противоречивую смесь магистральных линий развития западной философии и культуры (в Новое время – субъект, объект, эмпирика, рационализм, наука, логоцентризм, mathesis universalis, скептицизм и т.д.) и широкого веера всевозможных девиаций (романтизм, мистицизм, герметизм, оккультизм, визионерство и т.д.). В русском контексте строго иерархизированные пласты западной культуры и философии присутствуют в смешанном состоянии, переплетаясь друг с другом, перетекая одно в другое, превращая общий импульс западноевропейского влияния в невообразимую обессмысленную кашу (где И. Кант соседствует с Я. Беме, Д. Юм с романтиками, О. Конт со И. Сведенборгом, К. Маркс со спиритизмом Алана Кардека, естествоиспытатели с розенкрейцерами). Неудивительно, что эта смесь не может быть адекватно систематизирована, дифференцирована и классифицирована -- тем более, что попадает она в местную среду, отличающуюся ярко выраженной инклюзивной наклонностью, то есть стремлением включить все в одно, слепить, сцепить, склеить все вместе. И все же под мешаниной философских (а также социальных, политических, экономических, культурных) течений, идущих с Запада и образующих настоящую социальную свалку (по выражению социолога П.Сорокина), можно различить ослабленное и вялое присутствие европейского Dasein. И не важно, в каком состоянии находятся носители европейского Dasein'а в России, осознают ли они общую структуру европейской онтологии или нет: на уровне корней они принадлежат к этому Dasein'у, подчиняются его внутренним закономерностям. Как и все остальные голографические европейцы (естественные или из числа русских людей, ставших европейцами через образование и внутреннюю европеизацию), они могут экзистировать аутентично или неаутентично, разделять потоки болтовни и псевдосознания das Man'а или сосредоточиваться на возможности быть. По Хайдеггеру, неаутентичное экзистирование является почти нормой, а аутентичное – редчайшим исключением. Более того, сама западноевропейская культура основана на последовательном развитии именно неаутентичного экзистирования, вершиной которого является конструирование онтологии и метафизики. Исходя из того, что европейцы в России (заезжие или ставшие таковыми из местных) в любом случае периферийны, они должны представлять собой, почти наверняка, издания неаутентично экзистирующего Dasein'а. И даже не исключено, что такими «европейцами» являются вовсе не настоящие европейцы, а их карикатуры, имитационные муляжи.
Однако все это второстепенно по сравнению с тем, что и в случае неаутентичного экзистирования европейцы (то есть полюс модернизации и вестернизации) в России представляют собой в своих корнях именно Dasein. И не так уж важно, как он экзистирует – аутентично или неаутентично (в конечном счете, это совершенно дела не меняет). В любом случае в глазах такого Dasein'а собственно русское Начало мыслится как «другое», как «то», в сравнении с чем «европеец» (или «псевдоевропеец») реализует свой дифференциал. В этом исток устойчивой русофобии, свойственной российским элитам на протяжении последних веков как романовского, так (частично) советского и современного, российского периодов. Эта русофобия носит глубинный экзистенциальный характер и связана с фундаментальной инаковостью европейского Dasein'а.
Русские как народ, как Начало, воспринимаются этим Dasein'ом – до всех культурных, философских и политических обобщений – как нечто чуждое, как «ничто», как вызов, как отчужденная, вынесенная вовне бездна.
Именно в жестком излучении экзистенциальной русофобии состоит постоянный момент западничества в России, образующий собой фокус В герменевтического эллипса и формирующий сам этот эллипс (схемы 1-8). Но если дело обстоит таким образом, то наше изначальное допущение, что глубокое и коренное понимание западной философии освободит нас от воздействия западного герменевтического круга и тем самым создаст условия для появления возможности русской философии по ту сторону археомодерна, оказывается неверным. Запад наползает на нас не столько с позиций своей философии и культуры, сколько экзистенцально, как тектоническое движение гигантских плит. Это наступление не надстройки, но базиса. И эта ситуация не изменится ни при каких обстоятельствах, независимо от того, будет ли западный Dasein экзистировать аутентично или неаутентично. Этот Dasein во всех модусах будет стараться конституировать фокус В (схемы 1-8), что так или иначе будет приводить к превращению русского круга в российский эллипс.
Экзистенциальная эмиграция в европейский Dasein
А как все это выглядит с позиций русского дазайна? С одной стороны, из нашего замечания о том, что аутентичность его экзистирования определяется тем, в какой мере он экзистирует по-русски, соглашается с русским Началом, можно было бы сделать вывод, будто русский дазайн относится к западному Dasein'у симметричным образом. В этом случае русское западничество открылось бы как неаутентичное экзистирование. Более того, само экзистирование на основе структуры европейского Dasein'а следовало бы признать (для русских) неаутентичным. Это довольно сильное заявление, и в прагматических целях, на уровне патриотической публицистики на нем можно было бы остановиться.
Русский дазайн экзистирует аутентично всегда, когда он остается (становится) русским, и неаутентично тогда, когда перестраивается под европейский Dasein. При этом неважно, понимает ли он западноевропейскую философию или совершенно её не понимает; способен ли он адекватно участвовать в европейской истории или не способен; внятна ли ему система европейской онтологии или абсолютно невнятна. Приняв сторону Запада, русский может поменять дазайн на Dasein, оставшись при этом кромешным идиотом и провинциалом. Для этого достаточно включиться в драматический западный дифференциал, столкнуться с ничто, пронзительно схватить свою «заброшенность», мгновенно осознать себя субъектом, индивидуумом, частным лицом. Это значит переместить свое экзистирование с одной границы на другую, осуществить трансгрессию.
Можно назвать это экзистенциальной эмиграцией. Конечно, такая эмиграция может сопровождаться включением в европейскую культуру, технологию, социальность, и чаще всего так и происходит. Но это поверхностный аспект: суть трансгрессии -- в ином, в глубинной смене позиции в отношении бытия, в антропологическом прыжке на край бездны.
Такое описание подтверждается наблюдениями за реальными и историческими случаями русского западничества, многократно обыгранными в русской литературе и ежедневно встречающимися в современной культуре, повседневной жизни, быту.
Такая экзистенциальная трансгрессия в последние три столетия стала нормой политических элит России и, соответственно, постоянным источником прибывающей энергии для поддержания эллипсоидной конструкции русского общества. На этом жесте зиждется археомодерн.
Пожрать Запад
Но… Если мы следили за описанием русского дазайна внимательно, это «но» напрашивается само собой. Без этого «но» мы позволили бы себе увлечься полемикой и скольжением по поверхности почти банальных замечаний. Поэтому дадим свободу этому «но»…
Дело в том, что русский дазайн, если подойти к нему со всей строгостью, вообще не предполагает неаутентичного существования. Эта его особенность фундаментально противопоставляет его европейскому Dasein'у. Разделение между неаутентичностью и аутентичностью («eigene» und «uneigene») коренится в радикальной дифференцированности европейского Dasein'а, напрямую вытекая из его структуры. Русский дазайн имеет совершенно иное экзистенциальное содержание и не предполагает жесткости выбора или/или.
Неаутентичное у русских включено в аутентичное, а не исключено из него. Поэтому в археомодерне русское Начало не сопротивляется наползанию европейского Dasein'а и не отлучает от себя своих собственных трансгрессоров. Глядя (точнее, ощущая, чувствуя, предвкушая) со стороны русского дазайна, невозможно прекратить это делать: из русского дазайна уйти невозможно, невозможно прекратить им быть. Поэтому западнический полюс не рассматривается русским полюсом как нечто чуждое, внешнее и неаутентичное. Он не рассматривается как другое. Он рассматривается как это, как то же самое, то есть как нечто глубоко и естественно русское.
В археомодерне русский полюс рассчитывает проглотить модернизацию, русифицировать ее. По сути, мы имеем дело не просто с податливостью, пассивностью, страдательностью, покорностью, послушностью или рабской готовностью служить. Нет, в археомодерне русское хочет пожрать Запад, переварить европейский Dasein, сгноить его в туманах русского всеприемлющего чрева. Это не поражение, это медленная и сознательная контратака.
Русский дазайн не считает европейский Dasein другим. Он считает его самим собой. И ведет себя с ним именно по этой схеме. Это полностью объясняет, почему русское Начало А (схемы 1-8) в герменевтическом эллипсе столь спокойно, безучастно и непоколебимо, и даже упорно и настырно, терпит Начало нерусское. Просто истинно нерусского Начала нет, его не существует, у него нет в бытии места. В бытии есть место только у русского Начала, значит, все, что есть – русское. И все, что не есть, тоже русское. Значит, и европейский Dasein со своими посланцами и местными культурными коллаборационистами – тоже русский.
Переосмысление покорности
Мы подходим к уникальной возможности взглянуть на археомодерн по-новому. Его структура, его эллипсоидная растянутость, его бредово-свалочный характер на экзистенциальном уровне представляет собой перекрещивание двух асимметричных интенциональностей, двух ноэтических векторов, совершенно по-разному развертывающих субъект-объектные отношения, исходя из фундаментально различных основ (Dasein/дазайн). Русская интенциональность, русский ноэзис развертывает поле тотальной инклюзии, включая в него также противоположный, западнический фокус. Западный Dasein конструирует свои интенциональные сети на принципе эксклюзии, отвергая тянущиеся к нему нити приятия. И именно напряжение между двумя драматическими экзистенциальными жестами создает конкретную картину нашей русской культурной, социальной, политической, экономической, научной и исторической жизни последних веков.
Можно уловить в этом состязание двух онтических, и даже, быть может, онтологических стратегий. Это суперпозиция двух Вселенных, организованных по совершенно различным законам и принципам. И каждая из этих Вселенных имеет свой глубинный фундамент, свою последовательную, внутренне непротиворечивую стратегию.
Такой взгляд заставляет по-новому задуматься об археомодерне. Задуматься, на сей раз со стороны русского полюса. Русские не замечают археомодерна, потому, что они не замечают модерна как чего-то, чего им не достает, поскольку им всего достает. И не является ли такое игнорирование археомодерна, неучет его, безразличие к нему, признаком сознательной и фундаментально обоснованной установки, а не просто слабостью, неразвитостью и отсутствием саморефлексии? Быть может, под видом удивительной русской глупости и возмутительной покорности мы имеем дело с ясным, но особым, умом и особой волей к победе?
Дазайн взаймы
В экзистенциальной аналитике археомодерна можно выделить и еще одно измерение, связанное с нашим анализом экзистенциала Mit-Sein. Речь идет о том, как, исходя из различия локализации европейского Dasein'а и дазайна русского, в структуре археомодерна накладываются друг на друга две онтологии индивидуального.
Мы видели, что в нормальной русской ситуации индивидуум представляет собой сингулярную ничтожность, ничтожество, а его принадлежность к русскому народу снабжает его бытием, ссужая ему дазайн. Здесь уместно отступление относительно этимологии русского слова «истина», образованного от древнерусского слова «исто», что означало «имущество», а позднее «денежный капитал». По В.Н. Топорову (36), слово образовано от древнеславянского местоимения «istъ» (дословно «тот же самый»), восходящего к индоевропейскому корню *is-to- -- «тот, то». «Исто» как «имущество», «капитал» таким образом этимологически и семантически связано с тождеством, а значит, с идентичностью – «то самое», «то». Русский дазайн как факт принадлежности к русскому народу ссужает индивидууму себя как капитал, как имущество, и вместе с тем предопределяет идентичность индивидуума как русского индивидуума. Тем самым ссуда русскости индивидууму выступает как его идентичность, так как в моменте отождествления себя с русским индивидуум и обретает свое онтическое и онтологическое имущество, свое бытие. Говоря «азъ есмь русский», индивидуум производит операцию идентификации, отождествления себя с народом. Он имеет в виду «я есть то самое», то есть «я есть народ, как не-я». И тем самым, за счет этого взятого взаймы дазайна, он становится истинным, то есть, его индивидуальность получает бытие.
Быть -- это значит быть истинно русским. «Истинно» в таком случае должно пониматься как наделение «ссудным капиталом», который как «исто», как имущество, дан взаймы индивидууму народом. Эта ссуда в экзистенциальном анализе касается не только таких искусственных высокодифференцированных абстракций, как «дух», «душа», но самых прямых свойств: народ дает индивидууму фактические формы – телесность, ощущения, внешний вид, мимику, жесты и, самое главное, язык. Народ экзистирует в индивидууме полным, сплошным образом как выражение абсолютной творящей мощи, бьющей через край насущности, нагруженности, весомости, наличия, очевидности (Evidenz).
Русский индивидуум, будучи рассмотренным в самом себе как только индивидуум, оказывается не носителем дазайна, а именно заемщиком дазайна, временным пользователем бытия. Сам по себе он -- ничто, но в силу того, что он причислен к русскому, его ничтожность не отброшена, но включена в бытие, она принята, одобрена и, в определенном смысле, снята. Сам индивидуум тотально нищ, но народ наделяет его имуществом, делая его ничтожность не ничтожной, чем-то, «тем самым», «истым», превращая его «ложность» в «истинность». Нищета индивидуума как такового в русском контексте -- это благая спасительная нищета. Признавая ее, индивидуум спасается от нее, обретает имущество в народе, богатеет дазайном, добывает себе бытие и начинает пребывать в нем.
Двойная онтология индивидуума
Так обстоит дело в зоне русского Начала, в русском arch. Но когда мы переносим внимание на археомодерн, то видим, что западноевропейский герменевтический круг воздействует на индивидуума археомодерна в совершенно отличном ключе. На неголографическую идентификацию русского индивидуума (индивидуум=ничто, народ=дазайн) накладывается голографический индивидуум западноевропейского Dasein'а. Это происходит не просто на уровне проекции периферийной онтологии (что затрагивает области формальные и высокодифференцированные – образование, культуру, науку, государство, право), но в самом корневом пласте. Когда европейский или адекватно европеизированный человек в контексте археомодерна наблюдает русского индивидуума, он автоматически – интенционально – приписывает ему «положение дел» (Sachverhalt), в котором индивидуальность предполагается прямым носителем «вот-бытия». И пусть это «вот-бытие» мыслится рудиментарным, отныне нормативно оперируют именно с ним. Исходя из геометрической метафоры, европеец мыслит всех русских (кособокими) «квадратами», и даже иронизируя над их несовершенством и отсутствием философской надстройки, обращается с ними именно как с «себе подобными». Чисто теоретически эта «наводка», эта «экзистенциальная интенция» может аффектировать и самого русского индивидуума, начинающего разрываться между истинным пониманием своей индивидуальной ничтожности, которая и позволяет ему пользоваться народным капиталом бытия («исто» русского дазайна), и проецируемой на него вестернистской, модернизаторской иллюзией относительно своей якобы «не-ничтожности».
Тем самым археомодерн порождает двойную онтологию индивидуума. В археомодерне конституируется тем самым фундаментальный экзистенциальный конфликт, сопряженный с неуверенностью относительно точной локализации «вот-бытия» (Dasein'а/дазайна): то ли оно «в» индивидуальном, «с» индивидуальным (не важно: единичным, диалогальным или совокупным, социальным), как на Западе, то ли оно «вне» индивидуального (не важно: единичного, диалогального или совокупного, социального), в народе как другом, как в русском.
Русский диагноз
Эта неуверенность конститутивна для глубинной структуры археомодернистического невроза: она не дает никому сосредоточиться на исполнении своего экзистенциального содержания, так как вопрос о принадлежности «собственности», «исто», «онтологического капитала» все время остается нерешенным, и индивидуум никак не может четко понять, как ему поступить с «вот-бытием»: причислить ли его к своему неотъемлемому свойству (к чему его подталкивает «модернизация») или поместить его в область священного, данного как ссуда, за которую в конце концов будет спрошено: «Как ты, русский человек, распорядился тем, что тебе было вверено, своей русскостью, своей человечностью, своим прямым и конкретным, фактическим наличием?»
Находясь в состоянии такого невротического экзистирования, человек археомодерна не способен выстроить ничего достойного и важного, наделенного значением и внятным содержанием. Он может только болеть и колебаться; в конце концов, сама болезнь и само колебание становятся его единственным содержанием, его «истиной». Поэтому лучше всего русского человека в археомодерне характеризуют намеки, невнятные вопросы и смутные подозрения, не решаемые парадоксы и резкие припадки, истерика и неуверенность в себе, метания и мечтания, химеры и тупики.
Все это великолепно описано в русской литературе, – особенно XIX века, – в которой русские гении (прежде всего, Гоголь и Достоевский) поднимаются до высших прозрений в сущность археомодерна как страшной русской болезни, как повального помешательства.
Болезненность Гоголя и Достоевского, болезненность, эксцентричность, припадочность, смещенность, патологии их героев – все это выражение болезненности русского индивидуума, растерзанного непримиримыми притяжениями конфликтующего экзистирования, когда непонятно, где полюс этого экзистирования, кто, собственно, экзистирует, где и как «вот-бытие»? Русская литература в ее высоких пределах – это развернутый анамнез, история болезни русского археомодерна, снабженная сногсшибательными по яркости иллюстрациями и примерами. Герои русских романов и повестей XIX века – широкая портретная галерея пациентов, каждый из которых остро страдает от археомодерна, искупая своей судьбой и своим конкретным диагнозом палитру истины об этой мучительной, язвящей русского человека лжи.
Русский индивидуум становится полем битвы не добра и зла, не Бога и дьявола (это не понятно, так как находится вне экзистенциального контекста), но двух локализаций «вот-бытия», битвой Dasein'а против дазайна. Русский дазайн уничтожает индивидуума, ничтожит его и тем самым делает его сущим, снабжает истиной, бесконечным, гигантским капиталом бытия. Европейский Dasein, напротив, пытается «капитализировать» индивидуума, оценить его по себестоимости, вручить ему право на «вот-бытие» как на корень его онтической и онтологической идентичности. Русский дазайн говорит: индивидуум – ничто, он не стоит ничего, не значит ничего, его нет; но он так ничтожен, так незначим, его так нет, что признание этого в контексте бытия русского народа способно его чрезмерно обогатить, наделить всем, сделать значимым и сущим.
Западный модернизаторский дискурс утверждает: индивидуум – это малое, но нечто, и такое нечто, которое способно вырасти до гигантских пропорций, стяжав удачными операциями со своей малостью крупное онтологическое состояние. Эта возможность обеспечена самим фактом того, что индивидуум есть нечто, а не ничто, и раз он -- нечто, то голографичность дает ему шанс владеть всем нечто вообще, то есть всем сущим, через принцип гомологии и подобия.
И вот русский индивидуум стоит перед проблемой: что принять – ничтожность, окупающуюся народным даром бытия, или малую, но рискованную толику, способную вырасти в нечто всеобщее. По сути, это вопрос «приватизации» «вот-бытия».
Мармеладов и путь нищеты
В «Преступлении и наказании» у Достоевского этот вопрос (пусть и обратным образом) ставит Мармеладов, провозглашающий: «Бедность не порок (…), нищета порок-с»(38). Формально, Мармеладов рассуждает в топике модерна. В «бедности» он распознает европейский Dasein. «В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств», -- говорит он.
Откуда он взял «врожденные чувства» и «их благородство»? Наверняка, пока не спился, читал Лоренса Стерна или Руссо. Ничего русского в этих «врожденных чувствах» нет – это периферия европейского морализма и сентиментализма. Но вот Мармеладов прозревает в своей собственной кондиции, в падении своей семьи что-то более глубокое, что-то более донное, что-то более настоящее. Это «нищета». «Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же — никогда и никто". Нищета для него «порок», потому что внутри нее с индивидуумом происходит что-то такое, что он вообще перестает сохранять свою собственную структуру, и становится способен на поступки и реакции, противоречащие элементарным представлениям о чести, морали, нравственности и порядочности.
Но все эти представления, не суть ли они культурные заимствования, десятые производные от онтологии? Что в них собственно экзистенциального? Это надстройки, скрывающие «вот-бытие» (даже если мы понимаем его по-европейски – как Dasein). Нищета – это «порок» для модерна. Если мы подошли бы к ней с русской точки зрения, она открылась бы нам как самый верный путь к богатству, к благости и высшей добродетели. И в Мармеладове угадывается этот экзистенциальный вектор, его влечет собственно нищета, он тянется именно к ней. В нем интересны не его раскаяния, не метания маленького человека, но упорная, глубинная, абсолютно русская воля к истинной экзистенции, к русскому дазайну. Он боится, трепещет, не может, отказывается, но идет именно в нищету. Он понимает, что археомодерн квалифицирует это как «порок», но он все равно упорно движется мученической дорогой алкоголизма к высшей русской истине.
«Порок» не нищета, «порок» -- это индивидуум, возомнивший о себе, что он есть нечто, а не ничто. Но археомодерн не дает русскому человеку это осознать, он давит и душит его, терзает с инквизиторской изощренностью, толкая в бедность, абсолютизируя бедность, призывая согласиться с бедностью и строить на ней все остальное, сохраняя «благородство врожденных чувств». Но Мармеладову не надо достойной бедности. Именно это он и стремится расстроить, смести, разломать, погубить. Он не хочет ни бедности, ни построенного на бедности богатства – он хочет нищеты, хочет достичь той волшебной грани, где именно нищета даст ему покой и спасение, где она обернется своей другой стороной и примет его в свои нежные русские руки.
И Мармеладов так и не сходит с пути нищеты, хотя у него нет правильных слов, чтобы выразить эту русскую волю, нет внутренней уверенности, что он все делает правильно. И будучи уверенным, что он все делает неправильно, он все же это делает, упорно и целеустремленно, с глубинным экзистенциальным упорством, с фанатизмом, с тайной убежденностью, что он не отброс, но мученик, герой, первопроходец великого русского пути к своему сердцу.
Не есть ли отсутствие философии само по себе философия?
По мере того как мы все более пристально всматриваемся в структуру русского Начала, погружаясь в русский дазайн, на глазах начинают меняться те, казалось бы, очевидные феноменологические установки, от которых мы отталкивались в начале нашего исследования. Все становится более и более неожиданным и чреватым новыми поворотами. Мы (несколько высокомерно, наверное) решили попытаться обосновать возможность русской философии, разблокировав болезненный тупик археомодерна. И к чему мы подходим? Не к тому ли, что русская философия не просто возможна, но действительна, что она уже существует, только, конечно, не там, где, на первый взгляд, ее следовало бы искать. Там-то ее точно нет… Точно? В этой уверенности слышаться нотки сомнения. И это стоит перепроверить.
Пока же мы зафиксируем, что структура русского дазайна и его особенности объясняет нам не только причину отсутствия у русских философии, но и причину того, что у русских не могло и не должно было сложиться философии в ее западном понимании, исходя из фундаментального различия экзистенциальных оснований.
В то же время, имея ясную структуру русского дазайна, выраженную в особой онтической, и даже онтологической, природе границы, на которой расположен этот дазайн, не получаем ли мы тем самым контур философии, то есть последовательной, цельной, связной, осмысленной картины бытия, выстроенной на ясных основаниях и развернутой в гигантском объеме русского экзистенциального пространства?!
С этим выводом не так легко справиться. Поэтому отложим его до следующего витка нашего исследования, а пока сосредоточим внимание на двух важнейших экзистенциальных темах –пространства и времени.
Глава 11. Русская хора
Raum и этимология
У Хайдеггера пространственность (Raumlichkeit) является экзистенциалом Dasein'а, а Zeit (время) вообще лежит в центре понимания бытия и отождествляется с бытием (Sein), о чем он прямо говорит: «Seyn ist Zeit» (38).
Сравнение смыслов русского и немецкого слов, обозначающих «пространство», больших проблем в себе не несет. В немецком «пространство» обозначается словом «Raum», откуда английское «room» («комната»). Древнегерманское «*rūma-z», восходит к индоевропейской основе «*rowǝ-», что означало «свободное пространство». Русское слово «пространство» является довольно поздним искусственным образованием, калькирующим латинское «extenso», на основе глагола «про-стирать» (в смысле «раз-вертывать перед чьим-то взором», «рас-тягивать»).
В отличие от базового значения слов «Zeit» и «время», какого-то очевидного расхождения между «Raum» и «пространством» нет, если не считать того нюанса, что немецкое более архаическое «Raum» подчеркивает «пустоту», а русское, более «современное», «пространство», скорее, визуальный горизонт и его плоскостность.
Dasein, по Хайдеггеру, пространственен (raumlich). Это выражается уже в прямой связи его с «da» (здесь/там, вот, вот-здесь). Еще более глубинные аспекты связи Dasein'а с пространством у Хайдеггера обстоятельно изучены в работе современного чилийского философа Алехандро Вальега (39). В этом отношении данный экзистенциал вполне применим и к русскому дазайну, но качество этой связи в случае русского Начала требует особого, более углубленного рассмотрения.
Русский дазайн пространственен. Но в каком смысле? И как эта пространственность отличается от пространственности Dasein'а европейского, если вообще отличается?
Пространственное время
В отношении «Zeit», как было показано в первом томе нашего исследования (40), все намного сложнее, начиная со значения немецкого термина. Немецкое слово «Zeit» происходит этимологически от индоевропейского «*dī-» («фрагмент времени», «мгновение»), что, в свою очередь, берет начало от «*dāy-» («резать», «отделять», «разрывать»). Русское же слово «время», напротив, связано с верчением, связью, колеей, круговым движением. Это не момент, но длительность, причем, длительность, замкнутая сама на себя.
Если Sein есть Zeit, то (русское) бытие есть время. Здесь мы имеем дело с сопоставлением двух фундаментальных оснований, двух онтологий, двух Начал. Западное бытие вправлено в Dasein как в конечность, как в границу с небытием. В самом аутентичном экзистировании Dasein схватывает Sein как одноразовый и единовременный, мгновенный Ereignis. Sein обнаруживает себя как мгновение, как момент, как нечто уникальное, окруженное тьмой небытия, балансирующее на границе с этой тьмой. В этом состоит смысл озарения (Lichtung).
Хайдеггер пишет о трех экстазах времени: о бывшем, существующем и будущем. Каждый экстаз представляет собой особую конфигурацию Dasein'а в отношении к трем моментам Zeit'а. Будущее относится к возможности быть, то есть к моменту Ereignis'а.
Все экзистенциалы Dasein'а суть zeitliche, то есть «моменты времени».
В русском дазайне время дано совершенно иным образом. Оно дано как непрерывность вечности, как пространство, как место, как самовращающееся целое. Это не нечто, состоящее из моментов, зазоров и разрезов в существовании, как Zeit. Это сразу и заведомо данное во всех своих измерениях наличие. Это – пространственное время. Оно же и есть сам русский дазайн.
Будучи пространственным, русское время в своей сердцевине является неподвижным и не несет в себе ничего из того, что не содержалось бы в пространстве. Время как русское вращение есть обхождение пространства по кругу. В этом времени нет движения как такового, есть перемещение внимания по моментам пространства, по «мировым областям», и эти области существуют (экзистируют) и тогда, когда время на них «внимания не обращает». Более того, структура русского времени такова, что в нем всегда при необходимости можно вернуться на прежнюю точку пространства (если в ней что-то не доделали или чего-то недопоняли). Пространственное время поэтому есть время, разрешающееся в пространстве, содержащее в себе пространство, не имеющее никакого иного смысла, кроме того, чтобы озарять вниманием моменты пространства.
Вместе с тем пространство является для русского времени и его конкретным выражением. Не имея в себе ничего, кроме пространственного смысла, время развертывается в пространстве, как в самом себе, и соотносится в процессе такого развертывания с самим собой. Время освещает вниманием фрагмент пространства, который само же и конституирует, то есть в себе несет и которым само является. Можно сказать, что собственно временем (то есть чем-то отличным от пространства) является в русском времени именно зазор – между пространством как содержанием времени (его смыслом) и пространством как тем заведомо данным местом, в котором содержание времени обнаруживает себя. Время есть, таким образом, пространственный свет, освещающий пространственную же тьму. Пространство – это простирание смыслов.
Контраст (не противоречие) с пространственностью европейского Dasein'а
У Хайдеггера описание Dasein'а выстроено иначе. В нем пространственность (Raumlichkeit) рассматривается как экзистенциал Dasein'а, а Zeit – как синоним Sein, как его выражение, как оно само. Экзистируя пространственно, Dasein в своем аутентичном модусе способен стать Zeit als Seyn. Поэтому можно сказать, с определенными натяжками, что Da-Sein – это Da-Zeit.
Правда, в поздних работах Хайдеггер нюансировал это отношение и пользовался иным выражением «Zeit-Spiel-Raum» («Zeit-Игра-Пространство»), подчеркивая, что в экзистировании Dasein'а все три неразрывно связанные между собой инстанции проявляются и составляют его ткань. Такая жесткая привязка Zeit к пространству (Raum) несколько ближе к русскому дазайну, хотя основная проблема здесь состоит в «Zeit», которое нельзя, в строгом соответствии со смыслом, перевести на русский язык как «время» или как «разновидность времени». В русском языке нет даже приблизительного аналога смыслу «Zeit». Время неразложимо и неразделимо вовсе, а уж называть его указанием на фрагмент, представляется совсем неверным. Фундаментальная нагрузка, которой Хайдеггер наделяет Zeit, может служить еще одним моментом, подчеркивающим особенность именно европейского Dasein'а: он сопряжен именно с Zeit, и во многом определен именно структурой Zeit'а в его коренном (германско-европейском) значении. Это Zeit есть epoch (прерыв, остановка), а не aiwn (длительность).
Вместе с тем стоит обратить внимание на «da» Dasein'а. Это указание на место, то есть так или иначе пространственная характеристика. В случае русского дазайна эта пространственность выступает и развертывается в полную силу. Книга о русском дазайне могла бы называться «Бытие и Пространство», настолько фундаментально в его структуре пространство во всех его значениях.
Кто Вы, Хора?
Мы можем относительно приблизиться к русскому пространству (заключающему в себе время), если обратимся к такому понятию, как «cora» у Платона, которое совершенно справедливо вызвало чрезвычайный интерес у философов-структуралистов, в частности, у Жака Дерриды и Юлии Кристевой. «Проблеме хоры» уделили внимание также уже упоминавшиеся Алехандро Вальега, Джон Капуто и ливийский философ Надир эль-Изри.
Алехандро Вальега написал отдельную книгу о проблеме пространства у Хайдеггера (41), где в центре внимание стоит различие понимания пространства у Платона и Аристотеля (оппозиция «хора» и «топос»), а также отношение Хайдеггера к обоим подходам. А. Вальега обращает внимание на то, что, хотя в центре внимания у Хайдеггера стоит «время», базовое понятие Dasein'а он формулирует с опорой на пространственное местоимение «da», («там/здесь»), что сопрягает центральную фундаменталь-онтологическую линию именно с пространством. Вальега проницательно замечает: «Фигура хоры приводит логос к его пределам, и на этих пределах встает вопрос о смыслах бытия по ту сторону идеального или объективного наличия. В свете коллапса интерпретаций смыслов бытия в терминах наличия, их предполагаемая основа и их непрезентационный логос должны быть вынесены за скобки (suspended)» (42). Разбор значения «хоры» у Хайдеггера в книге Алехандро Вальеги чрезвычайно релевантен во всех отношениях для нашего исследования, и мы настоятельно рекомендуем читателям познакомиться с ним поближе.
Юлия Кристева (43) в духе феминистской философии видит в «хоре» материнский принцип, который, будучи спроецированным на область языка (в духе структуралистского сведения проблематики к анализу текста), дает область того, что Юлия Кристева назвала «невербальной коммуникацией», то есть своего рода «пред-языком», который еще не вылился в речь, но уже содержит в себе намерение определенного послания, отличающегося как от молчания, так и от членораздельной речи. Хора, таким образом, мыслится Кристевой как своего рода «материнский язык», или язык, увиденный с женской стороны, в котором есть «забота», «желание», «движение», «страх» и т.д., но еще нет логических и лингвистических форм, в которые они могли бы однозначно выразиться на уровне дискурса. Хора есть «мать речи». Кристева вводит понятие «семиотической хоры». Эта тема в таком же ключе получила дальнейшее развитие в трудах феминистки Люси Иригарэй (44).
Жак Деррида интерпретирует «хору» как «абсолютно иное» по сравнению со всем тем, с чем оперирует философия (45). Понятие хоры становится для Ж. Дерриды синонимом «деконструкции» -- важнейшей операции в его философии, основанной на расширительном и специфическом толковании хайдеггеровской «онтологической деструкции». Эссе Дерриды с названием «Хора» является глубоким и важным погружением в интересующую нас проблематику. Резюмируя свое исследование, Деррида пишет: «Чтобы осмыслить хору, надо вернуться к началу более старому, чем само начало» (46). В «хоре» Деррида видит то, что стремился отыскать в Dasein'е Хайдеггер – то безусловное Начало, из которого, в свою очередь, берет свое начало философия.
В этом же духе продолжает развивать мысль современный философ Джон Капуто (47), утверждающий, что «хора не присутствует, ни отсутствует, она ни добра, ни зла, ни жива, ни нежива, но а/теологична (48) и нечеловечна, она даже не «вместилище». Хора не имеет смысла или сущности, а также идентичности, на которую можно было бы сослаться. Она/оно воспринимает все, не становясь ничем, поэтому-то она/оно не может стать субъектом ни философемы, ни мифемы. Одним словом, хора – это совершенно иное»(49).
Значительное внимание уделяет «хоре» современный арабский философ ливанец Надер эль-Бизри, специалист в исмаилитской традиции (крайние формы семеричного шиизма) и в арабской философии в целом. Проблеме «хоры» он посвящает специальную статью с поэтическим заглавием – «Кто вы, хора?» (50).
Dasein и al-nafs/Dasein ибн Бизри
Показательно, что в своих исследованиях эль-Бизри основное внимание уделяет философии Мартина Хайдеггера и на основании ее анализа предлагает новый взгляд на исламскую философию (51). Большое внимание он уделяет пространству (52). В этом отношении можно вспомнить Анри Корбена, французского исследователя исламской философии, также приоритетно интересовавшегося шиизмом и исмаилизмом и ставшего одним из первых переводчиков Хайдеггера на французский язык. Большое значение Эль-Бизри придает роли и функции пространства в исламской метафизике и мистике, а также тому, что Корбен называл «mundus imaginalis» (53). Весьма показательно, что эль-Бизри ставит перед собой задачу во многом схожую с той, которая стоит перед нами: он стремится обосновать релевантность исламской, в первую очередь, арабской философии в ее сопоставлении с западноевропейской, и за отправную точку этого сопоставления берет, как и мы, философию Мартина Хайдеггера и, шире, феноменологический подход. Однако фундаментальная разница здесь состоит в том, что русской философии нет, а арабская и исламская есть. Задача таких мыслителей, как эль-Бизри, состоит в том, чтобы восстановить исламскую и арабскую философию в ее достоинстве и ее правах перед лицом западноевропейской философии в новых постсовременных условиях.
Арабы и мусульмане имеют и свой собственный арабский (исламский) дазайн. Эль-Бизри называет его al-nafs/Dasein (54), и на этом al-nafs/Dasein'е, согласно ему, построено внушительное здание арабо-исламской философии. Сопоставляя два Dasein'а через две философии, эль-Бизри приходит к чрезвычайно важным и содержательным выводам. Но его задача существенно проще нашей. Он идентифицирует Dasein в арабо-исламской философии (al-nafs/Dasein) и, далее, начинает устанавливать корреляции и гомологии, а там, где их нет -- оппозиции или градиенты -- между хайдеггеровской моделью западноевропейской философии с отсылкой к западноевропейскому Dasein'у и рассмотренной с позиции собственного, исламско-арабского Dasein'а (al-nafs/Dasein), арабо-исламской философией.
Наша задача намного сложнее: мы пытаемся обосновать лишь только возможность русской философии на основании демонтажа археомодерна и выделения русского дазайна, чтобы на следующем этапе, на почве русского дазайна предвосхитить вероятное развертывание его структур в полноценную, хотя и заведомо особую (в связи с особостью дазайна) русскую философию.
Начала в философии Платона
Проблема «хоры» у Платона становится для нас ключевой именно на втором этапе работы по выявлению возможности русской философии. Роль и значение русского пространства для феноменологии русского Начала подводит нас вплотную к этой теме. Здесь мы стоим перед фундаментальным моментом:
· где могла бы быть развернута русская философия? и
· что могло бы быть ее ядерным содержанием, ее центральной тематизацией и объектом ее приоритетного внимания?
Это не два вопроса, а один, так как в нашем случае «где?» и «что?» совпадают.
Для предварительного подхода к тематике «хоры» обратимся к фрагментам из «Тимея» Платона и попытаемся перевести их с языка оригинала предельно буквально, оставив в стороне соображения «гладкости» или «удобства» при чтении текста. Если мы на чем-то споткнемся, значит, в этом на самом деле есть какое-то препятствие; если чего-то не поймем, то само непонимание попытаемся интерпретировать, исследовав его значение и природу. Если мы столкнемся с неспособностью правильно передать на русском языке те или иные нюансы греческого философского языка Платона, то и из этого мы попытаемся извлечь урок относительно фундаментальной структуры русского дазайна, неотрывно сопряженного с русской речью и ее возможностями, смыслами и посланиями.
Приведем некоторые пассажи из «Тимея», а именно: 49а, 50с, 51a-b, 52a-e, в которых речь идет о «третьем начале» (χώρα), наряду с бытием (точнее, с высшим сущим -- ὄν) и становлением (γένεσιV).
Напомним, что первым началом (в духе Парменида) – «бытием» (ὄν), «неизменным сущим» или «сущим сущего» (ὂntwV ὂn) – Платон называет Благо, которое является образцом для всего проявленного мира. Это высшая идея, ядро всего «идеального мира». Первое начало неизменно, вечно, благо, постоянно, неподвижно. Оно схватывается только мыслью и открывается через созерцание светлых небесных идей. Парменид описывает его, как то, что может быть увидено через высшее знание, в состоянии, в котором noein (мыслить) и einai (быть) строго тождественны.
Второе начало – «становление» (γένεσις), что можно перевести также как «рождение», «возникновение». Оно во всем противоположно первому – оно полу-сущее, полу-несущее, одновременно и есть и не есть, подвержено возникновению и гибели, подвижно, переменчиво, подлежит смене «появлений» и «исчезновений», постоянно видоизменяется. Оно создано по образцу первого начала и не имеет в себе никакого содержания, какое бы отсутствовало в первом начале. Оно лишь переводит неизменные истины первого начала, идеи, в движущиеся и изменяющиеся вещи явленного (феноменального) мира. Оно воспринимается органами чувств. У Парменида оно постигается через «мнение», doxa, то есть такое мышление, которое довольствуется схватыванием поверхности, исчерпывается рассмотрением копии, не переводя взгляд на образец и не погружаясь в область того, где сосредоточено истинное бытие.
Эти два начала, в принципе, содержательно исчерпывают и онтологию, и гносеологию, и космологию (равно как и политику, этику, эстетику, право и т.д.), так как соотношение между ними порождает всю гамму референций, необходимых для платоновской философии. Соотношение второго начала с первым и дает нам структуру познания, объяснения бытия, спасения и модели справедливого и благого устройства общества, государства, образования и т.д.
Фрагмент о хоре
Многие комментаторы Платона подчеркивают некоторую сбивчивость в рассказе Тимея. Описание двух начал кажется вполне достаточным и исчерпывает философский реестр, на основании которого можно построить любую теоретическую конструкцию в духе платонизма. Для платонизма – в его гносеологической, онтологической и космологической основе – этого было бы достаточно.
Но вот Тимей, мерно и убедительно повествовавший о двух началах, внезапно прерывается и начинает говорить о «третьем начале», о «хоре», «пространстве».
Приведем интересующие нас пассажи целиком.
|
(48e) ἡ δ᾽ οὖν αὖθις ἀρχὴ περὶ τοῦ παντὸς ἔστω μειζόνως τῆς πρόσθεν διῃρημένη
τότε μὲν γὰρ δύο εἴδη διειλόμεθα, νῦν δὲ τρίτον ἄλλο γένος ἡμῖν δηλωτέον
τὰ μὲν γὰρ δύο ἱκανὰ ἦν ἐπὶ τοῖς ἔμπροσθεν λεχθεῖσιν, ἓν μὲν ὡς παραδείγματος εἶδος ὑποτεθέν
|
(48e) Тогда снова начало всех вещей пусть будет более разделенно, чем прежде,
Прежде мы две идеи различили, нам следует теперь третий иной род указать
Двух хватало (было достаточно) для предыдущего повествования (изложения), один (род) был поставленным (гипотетически) образцовым видом (парадигмальным эйдосом) мыслимым (интеллигибельным) и вечно одинаковым сущим,
другой род (есть) подражание |
(48e) We must, however, in beginning our fresh account of the Universe make more distinctions than we did before;
for whereas then we distinguished two Forms,1 we must now declare another third kind.
For our former exposition those two were sufficient, one of them being assumed as a Model Form, intelligible and ever uniformly existent, |
|
(49a) παραδείγματος δεύτερον, γένεσιν ἔχον καὶ ὁρατόν.
τρίτον δὲ τότε μὲν οὐ διειλόμεθα νομίσαντες τὰ δύο ἕξειν ἱκανῶς
νῦν δὲ ὁ λόγος ἔοικεν εἰσαναγκάζειν χαλεπὸν καὶ ἀμυδρὸν εἶδος ἐπιχειρεῖν λόγοις ἐμφανίσαι
τίν᾽ οὖν ἔχον δύναμιν καὶ φύσιν αὐτὸ ὑποληπτέον τοιάνδε μάλιστα
πάσης εἶναι γενέσεως ὑποδοχὴν αὐτὴν οἷον τιθήνην.
εἴρηται μὲν οὖν τἀληθές, δεῖ δὲ ἐναργέστερον εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ, χαλεπὸν
|
(49a) образцу, имеющий происхождение и видимый.
Третий же (род) тогда я не выделил, посчитав, что двух будет достаточно.
Сейчас же логос принуждает (втискивает, делает необходимым) помочь проявить себя в словах этому сложному и темному виду (эйдосу)
Итак, какую же силу и собственную природу имеющим нам следует его (этот вид, эйдос) представлять себе прежде всего?
Для всего становящегося (для генесиса) быть ему самому содержащим (сосудом) как кормилице.
(если) спросить себя теперь поистине, то трудно сказать так, чтобы сделать более ясным (представление) о самой ней. |
(49а) to a conclusion based on likelihood, and thus begin our account once more.
A third kind we did not at that time distinguish, considering that those two were sufficient;
but now the argument seems to compel us to try to reveal by words a Form that is baffling and obscure.
What essential property, then, are we to conceive it to possess?
This in particular,—that it should be the receptacle, and as it were the nurse, of all Becoming.
Yet true though this statement is, we must needs describe it more plainly. |
|
50b |
50 b воспринимает (в себя) всегда все |
50b And of the substance which receives all bodies
|
|
(50с) μορφὴν οὐδεμίαν ποτὲ οὐδενὶ τῶν εἰσιόντων ὁμοίαν εἴληφεν οὐδαμῇ οὐδαμῶς
ἐκμαγεῖον γὰρ φύσει παντὶ κεῖται, κινούμενόν τε καὶ διασχηματιζόμενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, φαίνεται δὲ δι᾽ ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον—τὰ δὲ εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα, τυπωθέντα ἀπ᾽ αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον καὶ θαυμαστόν, ὃν εἰς αὖθις μέτιμεν.
ἐν δ᾽ οὖν τῷ παρόντι χρὴ γένη διανοηθῆναι τριττά, τὸ μὲν γιγνόμενον, τὸ δ᾽ ἐν ᾧ γίγνεται, τὸ δ᾽ ὅθεν ἀφομοιούμενον φύεται τὸ γιγνόμενον.
καὶ δὴ καὶ προσεικάσαι πρέπει τὸ μὲν δεχόμενον μητρί, τὸ δ᾽ ὅθεν πατρί, τὴν δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν ἐκγόνῳ,
νοῆσαί τε ὡς οὐκ ἂν ἄλλως, ἐκτυπώματος ἔσεσθαι μέλλοντος ἰδεν ποικίλου πάσας ποικιλίας,
τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐν ᾧ ἐκτυπούμενον ἐνίσταται γένοιτ᾽ ἂν παρεσκευασμένον εὖ, πλὴν ἄμορφον ὂν ἐκείνων ἁπασῶν τῶν ἰδεῶν ὅσας |
(50с) Не принимает никакую форму ничего из того, что входит (в нее), и ни имени никакого ни от чего
Природой положена (она) как то, на чем отпечататься всему (надлежит), движимая и оформляемая тем, что в нее входит, являющая себя в разных (ситуациях) по-разному, входящие и исходящие ( в нее - Кормилицу) вечно суть (лишь) копии сущего, изображающие (это сущее) каким-то невыразимым и удивительным образом, о котором мы поговорим позже.
Нужно тем временем три рода рассмотреть – (само) становящееся, то, в чем (становится) становящееся, то, чему подражая, произрастает становящееся.
Уподобим наглядно содержащее матери, то откуда (все) – отцу, а что между ними -- произведенному ребенку.
Помыслим (содержащее) не иначе, (так что) увидим (в нем) многообразные разновидности будущего отпечатка (отражения),
и то самое, в которое образец полагается (внедряется, вставляется), и ему (содержащему) следовало бы стать (быть) хорошо предуготованным, никаким кроме как бесформенным сущим, (чтобы) быть готовым воспринять (содержать) всякие какие угодно идеи (виды) откуда- бы то ни было. |
(50с) the same account must be given. It must be called always by the same name; for from its own proper quality it never departs at all for while it is always receiving all things, nowhere and in no wise does it assume any shape similar to any of the things that enter into it.
For it is laid down by nature as a molding-stuff for everything, being moved and marked by the entering figures, and because of them it appears different at different times. And the figures that enter and depart are copies of those that are always existent, being stamped from them in a fashion marvellous and hard to describe, which we shall investigate hereafter.
For the present, then, we must conceive of three kinds,—the Becoming, that “Wherein” it becomes, and the source” Wherefrom” the Becoming is copied and produced.
Moreover, it is proper to liken the Recipient to the Mother, the Source to the Father, and what is engendered between these two to the Offspring;
and also to perceive that, if the stamped copy is to assume diverse appearances of all sorts,
that substance wherein it is set and stamped could not possibly be suited to its purpose unless it were itself devoid of all those forms which it is about to receive from any quarter.
|
|
[51α] ταὐτὸν οὖν καὶ τῷ τὰ τῶν πάντων ἀεί τε ὄντων κατὰ πᾶν ἑαυτοῦ πολλάκις ἀφομοιώματα καλῶς μέλλοντι δέχεσθαι πάντων ἐκτὸς αὐτῷ προσήκει πεφυκέναι τῶν εἰδῶν.
διὸ δὴ τὴν τοῦ γεγονότος ὁρατοῦ καὶ πάντως αἰσθητοῦ μητέρα καὶ ὑποδοχὴν μήτε γῆν μήτε ἀέρα μήτε πῦρ μήτε ὕδωρ λέγωμεν, μήτε ὅσα ἐκ τούτων μήτε ἐξ ὧν ταῦτα γέγονεν:
ἀλλ᾽ ἀνόρατον εἶδός τι καὶ ἄμορφον, πανδεχές, μεταλαμβάνον δὲ ἀπορώτατά πῃ τοῦ νοητοῦ καὶ δυσαλωτότατον αὐτὸ λέγοντες οὐ ψευσόμεθα. |
(51а) Теперь же, (чтобы) быть способным произвести виды (идеи), (содержащая, хора) должна воспринимать (содержать) копии всего вечно существующего как (это) все, а часто и того, что (находится) вне всего.
Видимого стновящегося и всего чувствами воспринимаемого мать и восприимницу, ни землей, ни воздухом, ни огнем, ни водой, мы называем, ничего из этого и ничего из этого возникшее:
но (есть она) невидимый вид (эйдос), который и бесформенный, все-воспринимающий, соучаствующий (во всем), разум ставя в тупик каким-то образом и (будучи) самым сложным для схватывания и излагания безо лжи.
|
[51a] So likewise it is right that the substance which is to be fitted to receive frequently over its whole extent the copies of all things intelligible and eternal should itself, of its own nature, be void of all the forms.
Wherefore, let us not speak of her that is the Mother and Receptacle of this generated world, which is perceptible by sight and all the senses, by the name of earth or air or fire or water, or any aggregates or constituents thereof:
rather, if we describe her as a Kind invisible and unshaped, all-receptive, and in some most perplexing and most baffling way partaking of the intelligible, we shall describe her truly.
|
|
(52a) τρίτον δὲ αὖ γένος ὂν τὸ τῆς χώρας ἀεί φθορὰν οὐ προσδεχόμενον ἕδραν δὲ παρέχον ὅσα ἔχει γένεσιν πᾶσιν αὐτὸ δὲ μετ᾽ ἀναισθησίας ἁπτὸν λογισμῷ τινι νόθῳ μόγις πιστόν πρὸς ὃ δὴ καὶ ὀνειροπολοῦμεν βλέποντες καί φαμεν ἀναγκαῖον εἶναί που τὸ ὂν ἅπαν ἔν τινι τόπῳ καὶ κατέχον χώραν τινά τὸ δὲ μήτ᾽ ἐν γῇ μήτε που κατ᾽ οὐρανὸν οὐδὲν εἶναι
ταῦτα δὴ πάντα καὶ τούτων ἄλλα ἀδελφὰ καὶ περὶ τὴν ἄυπνον καὶ ἀληθῶς φύσιν ὑπάρχουσαν ὑπὸ ταύτης τῆς ὀνειρώξεως οὐ δυνατοὶ γιγνόμεθα ἐγερθέντες διοριζόμενοι τἀληθὲς λέγειν
ὡς εἰκόνι μέν ἐπείπερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ γέγονεν ἑαυτῆς ἐστιν ἑτέρου δέ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα διὰ ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσήκει τινὶ γίγνεσθαι οὐσίας ἁμωσγέπως ἀντεχομένην ἢ μηδὲν τὸ παράπαν αὐτὴν εἶναι
τῷ δὲ ὄντως ὄντι βοηθὸς ὁ δι᾽ ἀκριβείας ἀληθὴς λόγος ὡς ἕως ἄν τι τὸ μὲν ἄλλο ᾖ τὸ δὲ ἄλλο οὐδέτερον ἐν οὐδετέρῳ ποτὲ γενόμενον ἓν ἅμα ταὐτὸν καὶ δύο γενήσεσθον
οὗτος μὲν οὖν δὴ παρὰ τῆς ἐμῆς ψήφου λογισθεὶς ἐν κεφαλαίῳ δεδόσθω λόγος
ὄν τε καὶ χώραν καὶ γένεσιν εἶναι τρία τριχῇ καὶ πρὶν οὐρανὸν γενέσθαι
τὴν δὲ δὴ γενέσεως τιθήνην ὑγραινομένην καὶ πυρουμένην καὶ τὰς γῆς τε καὶ ἀέρος μορφὰς δεχομένην, καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις πάθη συνέπεται πάσχουσαν παντοδαπὴν μὲν ἰδεῖν φαίνεσθαι
διὰ δὲ τὸ μήθ᾽ ὁμοίων δυνάμεων μήτε ἰσορρόπων ἐμπίμπλασθαι κατ᾽ οὐδὲν αὐτῆς ἰσορροπεῖν
ἀλλ᾽ ἀνωμάλως πάντῃ ταλαντουμένην σείεσθαι μὲν ὑπ᾽ ἐκείνων αὐτήν κινουμένην δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν
τὰ δὲ κινούμενα ἄλλα ἄλλοσε ἀεὶ φέρεσθαι διακρινόμενα ὥσπερ τὰ ὑπὸ τῶν πλοκάνων τε καὶ ὀργάνων τῶν περὶ τὴν τοῦ σίτου κάθαρσιν σειόμενα καὶ
ἀνικμώμενα τὰ μὲν πυκνὰ καὶ βαρέα ἄλλῃ τὰ δὲ μανὰ καὶ κοῦφα εἰς ἑτέραν ἵζει φερόμενα ἕδραν:
σειόμενα ὑπὸ τῆς δεξαμενῆς, κινουμένης αὐτῆς οἷον ὀργάνου σεισμὸν παρέχοντος,
τὰ μὲν ἀνομοιότατα πλεῖστον αὐτὰ ἀφ᾽ αὑτῶν ὁρίζειν τὰ δὲ ὁμοιότατα μάλιστα εἰς ταὐτὸν συνωθεῖν,
διὸ δὴ καὶ χώραν ταῦτα ἄλλα ἄλλην ἴσχειν πρὶν καὶ τὸ πᾶν ἐξ αὐτῶν διακοσμηθὲν γενέσθαι.
καὶ τὸ μὲν δὴ πρὸ τούτου πάντα ταῦτ᾽ εἶχεν ἀλόγως καὶ ἀμέτρως: |
(52а) А вот третий же род, всегда к хоре/пространству (относимый), не подлежащий гибели, дающий место для всаживания всякому, имеющему рождение (становление, генесис), сам же не-ощущением схватывамый, но каким-то непозволительным (незаконным, недопустимым, буквально незаконорожденным) способом мышления, в который (род) едва можно поверить (и) смотря на который в снодеяниях (сношествиях, «пахоте снов» – в imaginarium), мы говорим, что необходимо быть сущему всегда в каком-то месте, и должно ему содержаться в какой-то хоре ( пространстве хаосе/пустоте/бездне/атмосфере), (когда негде ему) быть ни в земле, ни в направлении неба.
Это же все и к этому близкое все другое (о чем мы говорили – к хоре относящееся), как только начнем просыпаться и истинную природу начиная (воспринимать) из-под этих сновидений, мы уже не способны (проснувшись совсем) различить и сказать, как оно есть истинно;
Ведь то, на чем возникает образ (икона), не есть он сам, а другое, вот и носится призраком (хора), проникая из одного в другое, чтобы влезть в сущности каким-то непонятным образом, устроиться там, чтобы не быть ничем.
Поэтому же помощник (ассистент/ демиург) сущему сущего (высшему Благу, Идее идей) посредством точности истинный логос (мышление и слово) (есть), и (получается согласно ему – этому помощнику – логосу) что, пока одно есть, другого нет; ведь не может в одном родиться другое и родиться сразу два.
Так по моему суждению (через камешек) скажем об основном:
сущее, и хора, и происхождение суть три, каждое по своему (тройным образом) и прежде неба родились (стались);
становления (рождения) кормилица (питательница), влажневеющая ся и пламенеющая ся и земли и воздуха формы принимающая, и их страданиями страдая, следует, являет себя всемерно разноликой;
ни одинаковыми, ни уравновешенными силами, наполняется и сама их не уравновешивает
Однако, аномально во все стороны балансирующая сотрясается, и ими движимая, их же самих и тресет;
движимая, но всегда разделяющаяся, словно в тряске, которая осуществляется плетеным канатом и прибором для очищения зерна;
близкое и тяжелое к одному, маленькое и легкое к другому несет и усаживает.
Ну так вот четыре рода (стихии/элементы)
потрясаемые Вместилищем (хорой), самой движущейся как содержащий пшеницу инструмент (сито),
наиболее непохожие сами из себя разделяются, особенно наиболее сходные насильно влекутся (принуждаются) к тому же самому, по такому случаю же хору эти однако другую держат
прежде чем все из самой себя, упорядочив, породить.
Но прежде несет она все (в себе) бессмысленно и бесконечно.
|
(52а) and a third Kind is ever-existing Place,which admits not of destruction, and provides room for all things that have birth, itself being apprehensible by a kind of bastard reasoning by the aid of non-sensation, barely an object of belief; for when we regard this we dimly dream and affirm that it is somehow necessary that all that exists should exist in some spot and occupying some place, and that that which is neither on earth nor anywhere in the Heaven is nothing.
So because of all these and other kindred notions, we are unable also on waking up to distinguish clearly the unsleeping and truly subsisting substance, owing to our dreamy condition, or to state the truth
how that it belongs to a copy—seeing that it has not for its own even that substance for which it came into being, but fleets ever as a phantom of something else—to come into existence in some other thing, clinging to existence as best it may, on pain of being nothing at all;
whereas to the aid of the really existent there comes the accurately true argument, that so long as one thing is one thing, and another something different, neither of the two will ever come to exist in the other so that the same thing becomes simultaneously [52d] both one and two.
Let this, then, be, according to my verdict, a reasoned account of the matter summarily stated,—
that Being and Place and Becoming were existing, three distinct things, even before the Heaven came into existence;
and that the Nurse of Becoming, being liquefied and ignified and receiving also the forms of earth and of air, and submitting to all the other affections which accompany these, [52e] exhibits every variety of appearance;
but owing to being filled with potencies that are neither similar nor balanced,
in no part of herself is she equally balanced, but sways unevenly in every part, and is herself shaken by these forms and shakes them in turn as she is moved.
And the forms, as they are moved, fly continually in various directions and are dissipated; just as the particles that are shaken and winnowed by the sieves and other instruments used for the cleansing of corn
fall in one place if they are solid and heavy, but fly off and settle elsewhere if they are spongy and light. So it was also with the
Four Kinds when shaken by the Recipient:
her motion, like an instrument which causes shaking,
was separating farthest from one another the dissimilar, and pushing most closely together the similar; therefore also these Kinds occupied different places even
before that the Universe was organized and generated out of them.
Before that time, in truth, all these things were in a state devoid of reason or measure, but when the work of setting in order this Universe was being undertaken
|
Некоторые пояснения к таблице.
В левой колонке мы приводим оригинальный текст Платона на греческом. В средней колонке наш буквальный подстрочник, основанный на спонтанном вычленении семантических пластов без того, чтобы руководствоваться той или иной традицией переводов. В правой колонке – для иллюстрации – даем конвенциональный академический перевод на английский. Внимательное сравнение трех столбцов может дать богатую пищу для размышлений.
Во-первых, сразу бросается в глаза, что текст Платона составлен таким образом, что однозначного грамматического (не говоря уже о семантическом) толкования наиболее важных мест, касающихся первоначал мира, быть просто не может. Чтобы читать Платона надо не просто знать греческий, но прежде иметь представление о топике мышления Платона. Но это замкнутый круг – составить себе представление о его топике можно только через чтение его текстов.
Как правило, большинство ученых и философов, столкнувшись с этой проблемой, поступают следующим образом: обращаются к авторитетной переводческой традиции. Но благодаря Т.Куну и особенно философам-структуралистам (в частности, М.Фуко), мы знаем, что авторитет в научном мире в значительной степени есть результат определенных социологических конвенций, которые, с одной стороны, создают общее поле научного дискурса, а с другой, блокируют саму возможность научных открытий, не говоря уже о фундаментальных открытиях, переворачивающих наше представление о мире. Поэтому в нашем случае обращение к авторитетной переводческой традиции может подвести.
В правой колонке текст английского перевода показывает, как далеко может уйти интерпретация от оригинала. В угоду логической непротиворечивости приносятся самые тонкие и интересные места в философствовании Платона. Академический текст прилизан, аккуратен, строг, но таким он выглядит только до того момента, как мы взяли в руки греческий оригинал и попытались соотнести одно с другим. После этого нам остается обескуражено развести руками. Ведь у Платона излагаются совершенно иные мысли, а самое главное – они выстроены иначе и имеют совершенно иную структуру – во всех отношениях.
Даже неуклюжий подстрочник, в котором концы с концами не сходятся или сходятся еле-еле, дает представление о том, как далеко ушла академическая наука от какой-либо строгости. Подстрочник не позволяет проникнуть в мысль Тимея и лишь дает о ней очень отдаленное представление. Но стройный академический текст вообще к Платону никакого отношения не имеет: в угоду формальной непротиворечивости в жертву принесено все, что только возможно. Может быть в правой колонке изложены любопытные мысли. Но они совершенно не о том.
Поэтому мы предлагаем при дальнейшем рассмотрении темы хоры обращаться к приведенному греческому оригиналу или, на худой конец, к нашему подстрочнику.
Явление хоры
Текст, начинающийся на фрагменте 48 e, представляет собой логический сбой в истории Тимея о «подобии», которое лежит в основе всей философии Платона. Тимей объявляет, что теперь он представит новый рассказ обо всем, в котором будет введено больше различий, чем в первом. Различая первоначально две идеи (=два начала – здесь используется слово «идея», точнее, «две идеи» -- δύο εἴδη -- для первых двух начал), Тимей затем вводит «третью», но называет ее «третий род» или, более точно, «другой третий род» (τρίτον ἄλλο γένος).
С первыми двумя идеями все кристально ясно: одна есть вечная и неизменная парадигма, образец, другая – вечно ориентированная на нее и подражающая ей в иных – подвижных, изменчивых и временных условиях – копия.
Далее во фрагменте 49 a Тимей объясняет, почему он не упомянул о третьем начале, когда говорил о первых двух, которые ему казались «достаточными». Дело в том, что этот вид (третье начало, в данном случае третий eidoz - чуть выше он был назван «γένος») Тимей назывет «сложным» (χαλεπός) и «темным» (ἀμυδρός).
Используемые для характеристики «третьего начала» прилагательные следует рассмотреть подробнее. χαλεπός означает «трудный», сложный» и «опасный», а ἀμυδρός -- «темный», «неразличимый», «туманный». Это важно. «Третье начало» отличается от первых двух тем, что оно трудно для понимания, плохо различимо, да еще и опасно, несет в себе угрозу, тревогу, возможно, ужас. Это отчасти объясняет то, почему Тимей, излагая свою версию устройства мира, изначально не ввел его в свой дискурс. Тимей, видимо, боялся этого начала, и испытывал трудности с тем, чтобы описать его надлежащим образом, то есть с той ясностью и однозначностью, которой требовал от философа платонический метод.
Наконец, ситуация складывается таким образом, что столкновение с этим началом становится неизбежным. Логос приходит в соприкосновение с тем, чего он очень хотел бы избежать. Поэтому вся ситуация описана Платоном в тонах гнетущего насилия, сопряженного с тревожной неясностью и нечеткостью всего происходящего. Так, мы видим во фрагменте 49a слово «ἔοικεν» , которое означает «казаться», «представляться», «создавать впечатление» , что выдает неуверенность Тимея в том, что сообщаемое им строго соответствует тому, что есть.
И это лишь прелюдия к дальнейшим удивительным событиям, связанным с осмыслением «хоры». Далее следует важнейшее пояснение, что происходит при встрече логоса с «хорой» и как эта встреча протекает. εἰσαναγκάζειν – использованный здесь глагол поражает своей жесткостью; его корень -- ἀνάγκη, «судьба», «принуждение», «необходимость» -- указывает на ту инстанцию, которую греки считали превышающей самих богов. Логос (в единственном числе) «насильно принуждает» «опасный и темный вид» «протянуть руку» (ἐπιχειρεῖν) словам («логосы» во множественном числе), чтобы явить (ἐμφανίσαι) себя. Единый большой и светлый логос готовится развернуть свои маленькие отблески, чтобы уловить то, что от них пытается ускользнуть, скрыться, зарыться в темный и зловещий ил мира.
И тут в дело вступает «принуждение» -- ἀνάγκη, то есть судьба, рок. Этот рок можно рассмотреть с двух сторон. Со стороны первого начала (великой парадигмы, чистой идеи, сущего сущего) ситуация встречи представляется так: логос, добравшись до дна всего, обнаруживает там нечто смутное и противящееся свету, и в высшем напряжении вбрасывает это «третье начало» в свой свет – судьбоносным жестом, идя на риск, запуская необратимый для самого бытия процесс. Если же взглянуть на ситуацию со стороны «третьего начала», то окажется, что «темный и опасный» вид вступает в зону слов, чтобы привнести туда свое роковое качество, наделить им легкие крылатые слова и омрачить другие начала своим «темным и опасным» дыханием. Это «рождение» пространства в громовых раскатах судьбы.
В обоих случаях фрагмент Тимея 49а предстает перед нами в неописуемом тревожном величии, как заря совершенно особого и не угадывавшегося заранее философского эона. Явление хоры.
Хора-Женщина
Тимей совершает решительный рывок вперед и ставит перед собой вопрос: «Какова сила и какова природа третьего начала?» Итак, мы пытаемся посмотреть на него с точки зрения δύναμις и φύσις. Это не пустые слова, хотя еще и не такие категоричные, какими они станут после Аристотеля. Природа и сила хоры измеряются в момент ее первого появления в философии. Значит, и сами эти меры оценки – инструменты философского постижения – приобретают особый смысл: ими измеряли (ранее) неизмеримое.
Ответ на вопрос звучит так:
«Для всего становящегося (для становления) быть ей самой содержащим (сосудом) как кормилице». Показательно, что вопрос стоял о «силе» и «природе», о двух свойствах «хоры», и в ответе мы находим два определения: «содержащее» («содержащий сосуд», «чаша»/«бездна») и «кормилица». Хора, как теперь выясняется – Женщина («сосуд»-«кормилица»), и ее природа и ее сила – это женская природа и женская сила. Можно предположить, что «быть содержащей» -- в этом природа Хоры, ее φύσις; а «быть кормилицей» -- в этом ее сила, δύναμις.
Теперь многое становится понятным. Героическая, солнечная, маскулинная мысль Тимея (Платона) столкнулась с тем, что стояло на противоположном полюсе от нее самой, с ее вертикальным стремлением, с ее жестко небесной ориентацией, с ее экстатическим упоением небесным светом. Теперь Тимей оказался лицом к лицу с Женщиной, с вселенским женским началом, и он слегка впал в ступор.
Во фрагменте 50 с женские аспекты хоры будут обозначены еще ярче. «προσεικάσαι πρέπει τὸ μὲν δεχόμενον μητρί, τὸ δ᾽ ὅθεν πατρί, τὴν δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν ἐκγόνῳ» - «уподобим наглядно содержимое матери, то откуда (все) – отцу, а что между – ими произведенному ребенку». dεχόμενον – дословно «содержащее» (активное причастие среднего рода), наше «третье начало», «хора» выступает как «мать».
Этого и следовало ожидать.
Хора- Материя
Тимей, видимо, осознавая, что, вводя в космогонию фигуру Матери, он оказался в сфере мифа, не свойственного логической и ясной структуре рационального философствования, постоянно переходит на иные формы описания «третьего начала». Шок прямого столкновения с «темным и опасным» выводит рассказчика на две параллельные и переплетающиеся в его дискурсе стратегии: он то проецирует свой ужас на образ того «самого темного и самого опасного», что он только, видимо, знает – на образ женщины, но одновременно старается держаться на уровне строго логического изложения.
Фрагмент 49b начинается с обращения к стихии огня, будто Тимей хочет разогнать окружившие его сумерки, зажечь отцовский факел бытия в обступившей его материнской мгле.
Тимей далее (49 d) рассказывает о «превращении стихий», как одна переходит в другую – разряжаясь от земли через воду и воздух, к небу поднимается как огонь, а сгущаясь, от огня обратно в землю. В ходе этого рассказа перед нами встает фундаментальный философский вопрос: можем ли мы легитимно употреблять такие слова как «огонь», «вода», «земля», «воздух», понимая под ними строго одну и ту же неизменную (остенсивно) данную нам вещь? Если все меняется, и стихии перетекают одна в другую, то мы никогда не имеем чистой земли, которая не становилась бы в то же мгновение водой, или воды, не испаряющейся в воздух, или воздуха, не зажигающегося (в соответствии с древнегреческой картиной мира) в небесных светилах, и так далее. Значит, неверно со строго философской точки зрения называть огонь «огнем», так как он в чем-то уже или еще «не-огонь», так как самого огня нет, а есть огневое состояние, а то, что мы именуем «огнем», корректнее было бы именовать «как огонь», «подобный огню» (так называемый «огонь»)
В этом вся платоновская теория идей. Только идеи в мире неизменного бытия (в сущем сущего -- ὂntwV ὂn) суть нечто самотождественное и неизменное, что можно без опасений назвать по имени. Собственно огнем является только идея огня. Тот огонь, который мы встречаем в мире становления (γένεσιz), области феномена – это не огонь, но «нечто огнеподобное», никогда не до конца огонь, всегда «еще не огонь», «уже не огонь» или «не целиком огонь».
Во фрагменте 52d Платон вновь заводит речь о «третьем начале», которое «влажневеет» и «пламенеет», не будучи ни влагой, ни пламенем; приобретает формы чего-то другого – всегда чего-то другого, нежели оно само. При этом ее состояние тревожится этими формами и разными силами, отчего и происходит «дрожание мира» – горение огня, течение воды, дуновение ветра, медленное круговращение земли, иногда вызывающее сотрясения и иные катаклизмы.
Подозревая, что это отступление о стихиях не столько прояснило проблему «третьего начала», сколько увело от него в сторону, Тимей во фрагменте 50a поправляется и в очередной раз грозится рассказать «более ясно» о том, что он имеет в виду. Интересно, что до этого он говорил, на самом деле, вполне «ясно» и в строгом соответствии с общей схемой платоновской мысли. Но в этой ясности «темное и опасное» начало куда-то затерялось или не было достаточно четко обозначено. И вот Тимей берется поправить дело. Он приводит историю про литейщика из золота, постоянно изменяющего отливаемые формы, да так, что наблюдатель не может различить треугольная ли у него сейчас форма из золота или какая-то другая. Правильным ответом, если спросить у наблюдателя, что он видит при постоянном мелькании отливаемых фигур, будет «золото».
Так Тимей подводит к тому, что «третье начало» представляет собой то общее, что есть у всех явлений мира становления (мира явлений, феноменального мира), у всех его стихий, но что не совпадает с их идентичностью, которую следует искать в мире неизменного бытия (в мире идей). Ясно, что мы находимся где-то в преддверии формировании идеи «материи», которая будет в дальнейшем ясно изложена Аристотелем в его теории через понятие «ulh», что позднее перевели на латынь как «materia». Это уже совершенно иное описание «третьего начала», и начинает складываться впечатление, что Тимею удалось уйти от мифа и включить рассматриваемое им «третье начало» в более или менее ясную философскую конструкцию.
Во фрагменте 51а он связывает эти два подхода в один, показывая, что Мать и Восприемница становления и есть то начало, которое является общим для огненных, водных, воздушных и земных вещей, не будучи ни огнем, ни воздухом, ни водой, ни землей сама по себе. Оно также есть «золото» из приведенной ранее метафоры с отливщиком. Это род «невидимый», «бесформенный», «всевоспринимающий», но Платон никогда не забывает подчеркивать, что любое описание его ставит в тупик.
Хора-Пространство
Во фрагменте 52a Тимей называет «третий род» собственно «хорой» (χώρα).
χώρα по-гречески означает «местность», «окрестность», причем в отличие от слова topoV, здесь подразумевается не пустое место, но место вместе с его содержанием – лесами, полями, ручьями, ветрами, облаками, волами, змеями и людьми, но вместе с тем и открытое пространство, позволяющее заполнить себя. Это непустое пустое место, местность. χώρα также противопоставляется «городу», и в этом смысле означает «деревню», «сельскую местность». Показательна этимологическая связь слова «cora» с глаголом χωρίζω, означающим «отделение, различение».
Представление о пространстве может быть соотнесено с более ранним введением образа «содержащего сосуда» -- того, в чем содержится все. Бытие как неизменное и высшее Благо, как сущее сущего не нуждается в том, чтобы быть где-то, оно есть в себе. Поэтому оно не нуждается в том, чтобы иметь содержащее его дополнительное начало. Но второе начало, становление, γένεσιV, нуждается, так как, чтобы восприниматься нами, оно должно быть где-то и должно быть каким-то, состоящим из стихий. А сами стихии, чтобы быть в своем круговращении как-то связанными с наличием, – ведь по запечатленному в них идейному образу (отражающему парадигму) они постоянно видоизменяются, – должны на что-то опираться, чем-то поддерживаться, к чему-то относится не только в своем копировании оригинала, но и (пусть лишь частично) сами по себе. Если бы они были полностью сами по себе чем-то, то они не смогли бы воспринять образы мира идей. Но если бы они были ничем, то были бы простыми галлюцинациями, не имеющими вообще никакого значения и никакого градуса бытия. Значит им необходима опора, которая была бы и ничем (в сравнении с вечно сущим) и не ничем, чтобы становление не провалилось в никуда. Эта опора и есть «хора», «третье начало», восприемница становления.
В общей картине платоновской космологии и космогонии хора-пространство находится на противоположном конце от вечного мира чистых идей -- с другой стороны от начала становления. Поэтому-то становление и помещается Тимеем между Отцом (парадигмой) и Матерью (пространством). Становление всегда несет в себе двойственность – его содержание заимствуется от Отца, его конкретность и подвижность – от Матери. Становление придавлено в двух сторон массивными онтологическими плитами – плитой идей и плитой пространства; его собственное существование разыгрывается в тонкой диалектике отношений Отца и Матери. Пространство, таким образом, мыслится как строго материнское начало.
Хора-Сновидение
Самое удивительное, однако, начинается с фрагмента 52a, где Тимей в очередной раз пытается объяснить, что же такое «хора», но теперь не через мифологию и не через космологию, а через нюансированное рассмотрение процесса познания. Этот пассаж настолько сложен для понимания, что в большинстве переводов Платона он передается очень приблизительно. Для нас же он имеет основополагающее значение.
Здесь Тимей впервые использует слово «хора» для обозначения «третьего начала», говорит о ее вечности (« не подлежит гибели» --φθορὰν οὐ προσδεχόμενον), о том, что она дает место для всего, но вдруг добавляет странное выражение:
«αὐτὸ δὲ μετ᾽ ἀναισθησίας ἁπτὸν λογισμῷ τινι νόθῳ» -- «не через ощущения (она постигается), но через какой-то «непозволительный жест мышления». Этот «logoV noqoV» («недопустимое мышление») мы должны отметить как нечто фундаментальное – именно с его помощью и на его основе нам предстоит строить русскую философию (скажем мы, несколько забегая вперед). Введя «logoV noqoV», Тимей открывает ворота в мир снов. Продолжая начатую фразу Платон говорит:
«καὶ ὀνειροπολοῦμεν βλέποντες καί φαμεν ἀναγκαῖον εἶναί που τὸ ὂν ἅπαν ἔν τινι τόπῳ καὶ κατέχον χώραν τινά τὸ δὲ μήτ᾽ ἐν γῇ μήτε που κατ᾽ οὐρανὸν οὐδὲν εἶναι». Этот трудный по языку и смыслу фрагмент, мы предлагаем переводить так: «Пребывая во сне и смутно сновидствуя, наблюдая (нечто), мы говорим, что с необходимостью должно быть какое-то место и содержаться какое-то пространство для сущего, которому (нет места) ни на земле, ни в направлении неба».
Это самое главное. С помощью «недопустимого мышления» мы перешли в сон и стали созерцать его содержание. То, что мы увидели в этом сне, представляет собой нечто, не поддающееся ни дешифровке через отсылку к образцу-парадигме (первое начало), ни проверке ощущениями в бодрствующем, трезвом состоянии. Этому «нет места ни на земле, ни в направлении неба», так как в этом нет ни телесности, ни идейности. И в то же время это есть. И вот то, как есть нечто, чему нет ни места, ни причины, ни цели, ни соотношений, ни парадигмы в мире, освещенном светом трезвого дневного разума, и берется Платоном как важнейший опыт «хоры» -- опыт пространства и материи, опыт Женского Начала, опыт Матери. Не содержание снов, но их субстанция, их вещественность, их ткань есть прямое выражение пространства/материи/космической женственности. Материя есть материя сновидений(55).
Здесь уместно напомнить фрагмент из «Бури» Шекспира (The Tempest, Act 4, scene 1, 148–158), где Просперо произносит свой знаменитый монолог после окончания спектакля духов:
|
Prospero: Our revels now are ended. These our actors, As I foretold you, were all spirits, and Are melted into air, into thin air: And like the baseless fabric of this vision, The cloud-capp'd tow'rs, the gorgeous palaces, The solemn temples, the great globe itself, Yea, all which it inherit, shall dissolve, And, like this insubstantial pageant faded, Leave not a rack behind. We are such stuff As dreams are made on; and our little life Is rounded with a sleep.
|
Просперо: Наши представления окончены. Все наши актеры, как и говорил вам заранее, все – духи И расстворились в воздухе, в тонком воздухе: И как бездонная фабрика этих видений Увенченные облаками башни, роскошные дворцы, Величественные храмы, весь великий шар земной, Да, все, что есть на нем, Все расстворится, И как бестелесная карнавальная процессия, Не оставляя позади даже облака пыли. Мы из того же вещества, из которого сотворены и сны. И наша маленькая жизнь округлена (окружена, завершена) сном. |
«Мы из того же вещества, из которого сотворены и сны». В данном случае Шекспир не просто дает поэтическую метафору, хотя и как метафора это звучит чрезвычайно сильно и завораживающе. Но насколько более сильно и завораживающе это высказывание стало бы звучать, если бы мы придали ему статус философской истины, основанной на точном и строгом осмыслении философского устройства мира (56).
Хора есть субстанция сновидения, тот «материал», из которого создаются сны.
Показательно у Шекспира употребление глагола «make on» вместо «make of», как напрашивалось бы. «The stuff the dreams are made on» еще точнее соответствует смыслу хоры. Сны не просто сделаны из вещества, они основаны на веществе (stuff), на материи. На том же веществе и на той же материи основаны и люди, и земной шар, и бескрайний космос. Это – пространство сновидений.
Показательно, что Платон в этой фундаментальной фразе, вводящей «хору» в философию, а значит, в историю философии, а значит, в историю, использует слово «ὀνειροπολοῦμεν», что можно перевести как «снодеяние», «труд сновидения» и даже «пахота снов». Фрейд использовал выражение «работа сновидений», что может быть привлечено для пояснения смысла. Сны – это место титанической работы пространства, но не поверхность, а основа, глубина, машинное отделение великого механизма вселенной.
Далее Платон детально описывает процесс того, как происходит трудный контакт между logoV noqoV ( (недопустимым мышлением, созерцающим хору) и дневным, вполне допустимым и даже нормативным мышлением. --
«καὶ περὶ τὴν ἄυπνον καὶ ἀληθῶς φύσιν ὑπάρχουσαν ὑπὸ ταύτης τῆς ὀνειρώξεως οὐ δυνατοὶ γιγνόμεθα ἐγερθέντες διοριζόμενοι τἀληθὲς λέγειν ὡς εἰκόνι μέν ἐπείπερ οὐδ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἐφ᾽ ᾧ γέγονεν ἑαυτῆς ἐστιν ἑτέρου δέ τινος ἀεὶ φέρεται φάντασμα διὰ ταῦτα ἐν ἑτέρῳ προσήκει τινὶ γίγνεσθαι οὐσίας ἁμωσγέπως ἀντεχομένην ἢ μηδὲν τὸ παράπαν αὐτὴν εἶναι»
Это приблизительно можно перевести так:
«Как только начнем просыпаться и истинную природу начиная (воспринимать -- А.Д.) из-под этих сновидений, мы уже не способны (проснувшись совсем -- А.Д.) различить и сказать, как оно есть истинно (в отношении хоры, открывшейся в сновидении -- А.Д.), так как образ же не сам есть что-то, но становится он сам другим чем-то, всегда растягивается фантазм, через это в другом являясь, обретает сущность каким-то (непонятно каким -- А.Д.) образом и становится между (вещами -- А.Д.), чтобы не быть совсем ничем.»
Этот пассаж переводят и толкуют по-разному, так как исходный текст довольно темен. Мне представляется, что речь идет о следующем. Когда мы переходим из мира сна в мир бодрствования, мы переходим от видимой хоры, схватываемой «недопустимым мышлением», к миру, организованному на основе первых двух начал. В этом мужском, залитом светом логичном мире, где нам открывается «истинная природа» того, как все есть на самом деле, «хоре» больше нет места. Отныне мы видим только становление и запечатленные в нем идеи. Если мы философы и мудрецы, то видим эти идеи сквозь вещи и в самих вещах ясно. Если нет, то смутно, поддаваясь простоте банальных (и уже только по одному этому неверных) мнений. Но Тимей – философ, и он рассказывает про свой опыт пробуждения. И вот в этот-то момент и происходит переключение сознания от недопустимого режима (logoV noqoV) к обычному и допустимому. Хора убегает, ускользает, скрывается. В этом промежутке еще можно заметить, как хора укрывается в вещи дня, переползает в них, пропитывает их, прячется в них, как она их создает – из своего прямого открытия в «работе сновидений» к своему сокрытию в «работе становлений» (отражающей мирный покой – отдых идей).
Вера в хору и область философской тени
Показательно, что есть и еще один способ мыслить о хоре, вскользь упоминаемый Тимеем вслед за «недопустимым мышлением»: это вера (μόγις πιστόν). Хору можно мыслить, осмысляя сновидения, но можно еще и верить в нее.
Итак, постижение пространства не дается ни чистым умом (nouV), способным созерцать высшее и неизменное единое сущее, ни чувствами, формирующими область «мнения» (doxa). Для описания того, как схватывается хора, Платон использует понятия «сна» и «веры».
Темные интуиции сна после пробуждения дают смутный остаток, который, в свою очередь, воспринимается разумом как указание на то, что было схвачено с помощью «третьей» способности («сновиденческой веры», «недопустимого мышления»), и как нечто философски значимое, что интерпретируется как «пространство» для того, чтобы становящееся могло становиться.
В общем контексте платонизма может создаться впечатление, что хора ворвалась в стройную модель платоновской мысли насильственно и неожиданно, навязав себя Тимею, но сохранив присущие ей темноту и неопределенность, разместившись на периферии философии, ничего не добавляя к ней, но ухватив тем не менее статус вечного и непреходящего начала, чтобы потом рассеяться и скрыться в вещах (например, под видом «ulh» Аристотеля).
Теперь соединим все эти темы воедино. Если мы помыслим «хору» объемно, то получим цепочку тесно связанных друг с другом философских, мифологических, гендерных, гносеологических и психологических представлений: «материя» -- «пространство» - «вмещающее» (сосуд, содержащее) – «женщина» (женское начало) – «кормилица» (мать) – «вещество сновидения» – «недопустимое мышление» (инструмент постижения хоры) – «мягкая (почти слабая) вера» (другой инструмент постижения хоры). Вся эта цепочка отличается тем, что стоит на крайней периферии западноевропейской истории философии, обретается в области ее тени. Можно сделать предположение, что хора относится к зоне исключения в этой философии, несет на себе отпечаток отверженности и забытости. В западной метафизике доминирует солнечный дискурс, связанный с первыми двумя началами – вместе или по отдельности, но именно они составляют основное содержание западного мышления. Скорее всего, это не случайно и как-то сопряжено со структурой самого европейского Dasein'а.
Что-то в этой цепочке определений, образов, фигур и описаний хоры оказывается чрезвычайно созвучным началу русскому.
Если сопоставить то, что мы говорили о значении для русского дазайна пространства, с объемным описанием хоры у Платона, мы обнаружим глубинное родство между русскими и хорой. Можно даже сделать предположение о ее русской природе. Хора – русская.
Эту линию мы сейчас и продолжим.
Хора и европейский Dasein
Если подойти к Платону с позиции экзистенциальной аналитики, мы можем несколько прояснить ситуацию. Тимеевская онтология и космология строится на европейском Dasein'е, поэтому в ее основе лежит жесткое различие (сам Dasein здесь расположен на границе между радикально «тем» и радикально «этим»). Это различие возведено здесь в статус онтологии: оно основано на выделении позиции, из которой можно наблюдать не только за мыслимым (как в обычном нефилософском, онтическом мышлении), но и за мыслящим. Сфера наблюдателя за мыслящим именно у Платона стройно оформляется в вечное сущее, в перво-идею, в идею блага. Это первое начало. Все остальное, предстающее в мире чувственного восприятия, в сфере «мнения» (doxa), есть область второго начала, изменчивый, двойственный, становящийся и гибнущий мир. Это разделение онтологическое, но возведено оно на основании онтическом, на основании Dasein'а, причем строго европейского с его фундаментальным и строгим различением в самом ядре. Обоим началам соответствуют формы познания. Все прекрасно объясняется – и время, и движение, и тела, и гармония вещей.
Но вот в эту стройную картину врывается хора, «третье начало», которое называется также «другим», «eteroV». И хора отвоевывает себе место в общей конструкции философии, на ее крайней периферии, забирая себе особый способ быть постигнутой («сновиденческая вера») и присваивая себе одновременно свойство вечности и изначальности наряду с другими началами. Существенного влияния на структуру платонической философии она не оказывает и появляется позже лишь время от времени, например, у Аристотеля, когда он основывает на критике Платона и его идее «вечности пространства (хоры)» свое учение о телах, движении и «естественных местах» («topoi»).
С нашей точки зрения, в данном случае «третье начало» врывается в платонизм как в онтологическую конструкцию, основанную на западном Dasein'е из совершенно иной области. По сути, это проявление иного дазайна.
Вспомним, что именно в русском дазайне пространство приобретает фундаментальное значение. Более того, оно предопределяет природу самого русского дазайна не менее, нежели Zeit природу Dasein'а европейского.
Хора не огонь, но способна огневеть, она не жидкость, но способна растекаться, не воздух, но способна испаряться. Она не относится к становлению, поскольку она вечна и неизменна сама в себе. Но и не относится к сущему, поскольку она скрывается от лучей знания и не испускает из себя познающих лучей. Она не видящая и невидимая, ее можно различить только в «сноведении веры» -- в «пророческом сне».
Однако не стоит забывать, что хора в онтологии Платона получила чисто отрицательные характеристики, такие же характеристики она получила и в западноевропейской философии в целом. То, что большого внимания ей не уделил даже Хайдеггер, показывает, что она чужда онтическому уровню западного Dasein'а. Дело в том, что хора отличается от остальных начал именно тем, что в ней отсутствуют жесткие дифференциалы. Даже само возведение ее в статус начала обязано какой-то странной операции, – «темному сну», -- которая противоречит по своему настрою дневной, светлой, прозрачной и бодрственной онтологии Платона. Хоре отводится низшее положение в иерархии – предоставлять место, служить «сидением», подножием для вещей становления, для полуосмысленных и полубессмысленных секторов «второго начала».
Русская хора
Но все изменится, если мы взглянем на хору с позиции русского дазайна. Этот дазайн не предопределен корневым дифференциалом, он, напротив, характеризуется отсутствием дифференциала. Поэтому хора максимально близка ему по природе.
Однако «сидением становления» хора выступает только там, где становление и высшее неизменное сущее возведены на онтологический пьедестал. Уже на уровне Dasein'а, хотя и западного, она может мыслиться совершенно иначе: ее статус имеет все основания существенно возрасти, коль скоро онтика освободится от ее онтологической надстройки и вопрос о бытии (Sein) будет поставлен в ином ракурсе. Однако европейский Dasein все же слишком связан с различием, с граничностью между тем и этим, между бытием и ничто; он полностью ангажируется проблемой Zeit, отводя пространству (пространственности, Raumlichkeit) слишком скромное место среди других экзистенциалов (хотя далеко не такое унизительное, как у Платона).
Но в русском дазайне все меняется, и пространство (место, окрестности) начинает играть ту роль, которую играет в Dasein'е европейском время. Тем самым происходит нечто чрезвычайно важное -- «da» Dasein'а, бывшее самой удаленной точкой от бытия, становится самим бытием как пространством, сливается с ним. «Da» как пространственное явление оказывается не возможностью бытия, не его предпосылкой, но непосредственно им самим. Самое близкое и самое далекое в русском дазайне совпадают – причем иным образом, нежели у Хайдеггера, где da открывается через озарение (Lichtung) Sein'ом.
Отличие русской хоры (русского пространства) от понимания хоры Платона в том, что русская хора воспринимается не как нечто третье, внешнее и постороннее, как другое по отношению к двум первым началам, но как единственное, а значит, как это. Есть только одно начало – хора, пространство, и именно пространство конституирует своей внутренней динамикой все остальное.
Простираясь в самом себе и сквозь себя само, пространство образует и время – как последовательность и порядок вращения, и все то, что время встречает в своем развертывании-верчении (снова пространственные конфигурации!) – «пламенеющее» и «растекающееся», не будучи ни пламенем, ни огнем.
Такое пространство противно европейскому уму, потому что в нем отсутствует базовый дуализм, гарантирующий возможность референции и, следовательно, самой логики, а также отсутствуют причины, следствия, основания, и даже само различие. Но неевропейскому русскому уму оно не противно.
При этом русская хора не совсем нереферентна. Она обладает собственной пространственной диалектикой, так как ее временное выражение и порядок вращения времени создают игровые концы общей протяженности, которые, совпадая, не совпадают друг с другом, а значит, могут быть соотнесены между собой. Однако это соотнесение не огня с водой, но «огневеющего» с текучим; не ворона с зайцем, но чернокрылого летящего с остроухим прыгающим. При этом отсутствие наблюдения о том, что жидкое не пламенеет, а остроухое прыгающее не летает, имеет всю строгость игрового сиюминутного утверждения: время совершает свой поворот, и мы спокойно можем столкнуться с горящей жидкостью (например, нефтью) или с летающим зайцем (пока мы с таким не сталкивались, но однажды, по логике хоры, можем и столкнуться).
Аристотель, насмехавшийся над «козлооленем» (tragelafoz), принадлежал к такому сектору открытого временем пространства, где «трагелафа» не было (или он просто его плохо искал). Но если Аристотелю было смешно, то и смех его уважается пространством как -- на равных с трагелафом основании -- свойство пространства. Потому что пространство несет в себе как смеющихся философов, так и плачущих, и они отнюдь не исключают друг друга, но в определенный момент смеющийся может заплакать, а плачущий захохотать. Так, в один момент своего витка пространственное время может столкнуть Аристотеля с «трагилафом», не делая из этого, впрочем, ни открытия, ни трагедии, ни посрамления, ни опровержения того или другого.
Мы можем не чувствовать и не замечать того, что лежит в тени данного куска пространства, который высветился в форме времени – нашего времени – в ходе его движения по самому себе. Экзистируем ли мы в этом случае неаутентично? Хочется сказать «да», но надо сказать «нет». То, что поддается на уловки играющего с самим собой пространства, не есть нечто иное, нежели оно само. Способность дурачить самое себя и есть высшее искусство его игры, и заблуждение относительно хода и смысла игры не просто вполне допустимая возможность, но в каком-то смысле ее апогей. Если пространству удастся таким образом сокрыть свою природу, что оно будет восприниматься как нечто иное, например, как время, пространственно-временной сектор, совокупность вещей или индивидуум, как россыпь причудливых предметов, лишенных смысла или наделенных призрачным, обманчивым смыслом вокруг него, то радости пространства не будет предела.
На фоне играющей хоры, если мы вникнем в ее структуру и ее единственность, даже как-то мелко рассуждать о пространственности русской души, об особых отношениях, которые связывают русский народ с пространством, о лежащей в основании гигантского государства тяге к дальнему и предельному горизонту, куда влечет русских история, о широте русских и об отсутствии у них вертикального измерения, об их раскатанности по родной земле, об их землеплаваниях и искусстве построения «землелетов». Все это так, но лишь в качестве следствий намного более глубокого и одновременно лежащего на поверхности явления русской хоры как выражения инаковости нашего дазайна по сравнению с другими Dasein'ами – в первую очередь, с Dasein'ом европейским.
Горизонты Ксенофана
Можно взглянуть на хору и под несколько иным углом зрения. «χώρα» οзначает также «страну» и «ниву», «засеянное поле». Так в некоторых случаях это слово переводилось в славянской «Библии» в традиции Кирилла и Мефодия. Если χώρα - это «страна», то мы можем представить себе тимеевскую картину устройства Вселенной следующим образом. Есть неизменное бытие (ὄν), первое начало. Есть второе начало – становление (γένεσις). Их соотношение между собой в данном случае известно. Но оба они в их диалектическом соотношении помещены в конкретную страну. То есть бытие и становление размещены в стране, имеют свою географическую и, если угодно, этническую принадлежность. Здесь можно вспомнить учение Ксенофана Колофонского, которого некоторые историки философии считают основателем элеатской школы.
Ксенофан полагал в основе всего сущего землю. Все остальные элементы происходят из земли и в землю возвращаются. Сама же земля уходит корнями в бездну. Можно сказать, что она и есть бездна, откуда все поднимается и в которой все покоится. Ксенофан говорил о «горизонте», то есть «области», а также о «климате». В каждой местности («горизонте») существует своя земля, а значит, и своя вода, и свой воздух, и свой огонь, и свои состоящие из огня светила – солнце, луна, звезды. Так как в основе Вселенной лежит земля, то часть земли – страна – содержит в себе свою Вселенную, во всем ее содержанием. Возможно, именно в этом духе и следует толковать мысли Ксенофана о том, что разные этносы описывают своих богов похожими на самих себя (эфиопы -- черными, фракийцы -- русыми и т.д.) и что, если бы звери имели руки, то и своих богов изобразили бы подобными себе (у котов был бы бог-кот, у волков – бог-волк и т.д.), не как критику антропоцентризма, но как указание на глубинную связь между земным и небесным, как догадку о земной природе неба.
Сама по себе эта космологическая география, учение о том, что существует столько же миров, сколько и «мест», «климатов», «горизонтов», имеет колоссальное значение для понимания различия человеческих культур и обществ, на которое, как кажется, мало кто обратил должное внимание. А ведь это целая развернутая и фундаментальная геософия, без труда при желании реконструируемая даже на основании тех обрывков, которые дошли до нас из трудов Ксенофана.
Но нас интересует нечто иное, а именно, возможность соотнести «горизонт» Ксенофана и «хору» Платона. По своему прямому значению это близкие понятия – оба означают «местность», «место», «окрестность», «пространство». У Ксенофана речь идет о стихиях, но само Божество у него не отделяется от стихий, пребывает в стихии. Значит, в определенном смысле мы можем утверждать, что бог Ксенофана – в земле. Иногда он так его и описывает: как земной, смешанный с водой (Мать Сыра Земля) шар, неподвижный и вечный, всевидящий и всемудрый. Будучи в земле, он присутствует и в других стихиях, рождающихся из земли – и так вплоть до неба и небесных светил. Но истоком и матрицей его является именно земля в ее конкретном воплощении, в виде местности, страны. Поэтому-то люди разных стран представляют богов как высших существ, похожих на себя. Это, по мнению Ксенофана, наивно, но вполне объяснимо, так как тем самым они чтут свою страну, свою местность, свою землю. Так они свидетельствуют о ее божественности.
Страна бытия. Онтология нивы
Если мы вернемся к рассказу Тимея о хоре, мы увидим, что здесь вполне уместна прямая симметрия. Бытие и становление, чтобы быть и становиться, нуждаются в хоре, то есть в стране. Не может быть бытия и становления без страны, без местности. Бытие и становление обязательно присутствуют, пребывают и становятся «где-то», в какой-то «стране». И то, где они пребывают и где становятся, влияет на то, как они пребывают, и на то, как они становятся. Множество солнц и множество светил, освещающих землю, согласно Ксенофану, на горизонтах разных климатов, можно соотнести с множественностью бытия и становлений в завимости от их отношения к хоре, которая дает им место. Такое сопоставление подводит нас к обоснованию множественности не только Dasein'a, но и множественности Sein'а.
Это ставит нас в тупик. Бытие должно быть единым. Неужели?! А так ли это? И с чего мы это взяли?! Нам ответят, что такова философская традиция и сама возможность словоупотребления – у слова «бытие» нет множественного числа. Но эта традиция сама локальна, как локальны и релятивны любые человеческие языки. Мало того: можно и согласиться, что бытие едино, с одной лишь оговоркой – оно едино в рамках единого «горизонта», в рамках единой местности, в рамках единой страны, в рамках единой хоры. Перемещаясь в иную хору, в иной горизонт, мы имеем дело с иным бытием. Нам только кажется, что это то же самое, как кажется, согласно Ксенофану, что солнце в разных странах одно и то же. Но Солнце везде разное. И разные звезды. И разные луны (Ксенофан, правда, по некоторым источникам считал, что луна вообще является лишним небесным явлением). Как в каждой хоре -- разное «da», «вот», «здесь/там» ( что очевидно), так же в каждой хоре -- разное Sein.
Сходятся ли где-то разные пространственные выражения бытия? Это чрезвычайно трудный вопрос. Вопреки поспешному импульсу свести все воедино, осторожнее было бы сказать так: неизвестно, может быть, да, может быть, нет. Но если попробовать сделать более смелое допущение на этот счет, можно предположить, что они сходятся в земле, в бездне земли.
Поэтому мы можем назвать хору «страной бытия». Русская страна, таким образом, представляет собой русский горизонт, русский климат, русскую хору и, соответственно, в ней развертывается драматическое тимеевское действо бытия и становления. Причем
и бытие, и становление оказываются русскими – русским бытием и русским становлением.
С этими соображениями прекрасно согласуется и перевод «хоры» как «нивы» или «поля». Нива – это место для посадки и всходов, а также сбора урожая. Русское слово «нива» того же происхождения, что и греческое νειός, «поле», и родственно по смыслу и истокам словам «низ», «ниц», «внизу». Нива -- место для урожая, а мы знаем, что Хайдеггер выводил само понятие логоса из аграрной метафоры урожая, показывая, что глагол «legein» прежде, чем получить смысл «думать», «мыслить», «говорить», «читать» или «учить, означал «жать» или «собирать урожай».
Хора как нива – это простор для развертывания логоса. Бытие, обернутое в становление, высаживается в ниву, как зерно, и прорастает на ней, чтобы быть сжатым. Весь круг превращений зерна в стебель, стебля в колос, колоса в хлеб происходит в пространстве поля. Не будь хоры как нивы, не было бы цикла возрастания, превращений и вечного постоянства зерна. Поэтому-то Платона и называет хору «кормилицей».
Хора таким образом есть именно живая нива бытия, куда сеется бытие, где бытие вызревает, где оно прозябает, является, где оно колосится, и где оно, наконец, подвергается жатве. Русское поле, русская нива в этом смысле есть место круговращения русского бытия.
Введение хаоса
Нить рассуждений о хоре можно продолжить, обратившись к Аристотелю, разбиравшему на основе космогонии Тимея соотношение между пространством (хора) и местом (топос). В IV книге Физики (57) Аристотель вводит новое понятие «топоса» вместо платоновской «хоры». Сейчас для нас это различие не существенно, и важнее всего лишь проследить определенные ассоциации Аристотеля. Чтобы объяснить, «что есть место», Аристотель приводит фрагмент «Теогонии» Гесиода.
«Прав Гесиод, отводящий первенство хаосу, когда он говорит в «Теогонии», что «первым из всех вещей был хаос, а второй широкогрудая земля», так как перед тем, как чему-то возникнуть, необходимо место (хора), где бы это могло произойти»(58).
Здесь важно, что Аристотель четко фиксирует этимологию слова «хаос», «caoV», связанную с «caunoV», « χαίνειν», что изначально означало «дыра», «пустое место», «нечто дырявое», то есть «открытое пространство», сама «открытость». При этом слово χώρα имеет то же происхождение и связано с развитием той же семантической конструкции. Это слово напрямую этимологически связано с русским словом «зияние» («зевание»), «открытая пасть» (59). Отсюда мы получаем пару хора=хаос, в основе которой лежит идея открытости, освобождение места для чего-то, пустоты, необходимой для того, чтобы быть заполненной. Таким образом, мы постепенно переходим от хоры к хаосу, к зияющей пустоте, к открытости.
Но хаос мыслился древними греками не только как хора и как разверзшееся пространство, в котором проявилась Вселенная. Хаос -- еще и изначальное состояние мира, где противоположности сосуществуют, будучи не разделенными, недифференцированными, не выстроенными в структуры порядка, обязательно предполагающие эксклюзии. В хаосе противоположности мирно сосуществуют, в хаосе царит мир. Порядок, упорядоченная Вселенная, космос начинается в войне и пребывает в войне. Отсюда гераклитовское «война – отец вещей». Структуры порядка предполагают агрессию и страдание, повеление и подчинение, насилие и ограничение, иерархию и стратификацию. В хаосе различное не различается, несовместимое совмещается.
Если перенести эти свойства на хору, мы получим очень интересную картину.
Введенная в тимеевский рассказ о появлении Вселенной хора таким образом приобретает новое фундаментальное качество. Она выступает здесь как напоминание о фазе мышления, принципиально предшествующей Платону и его рациональной онтологии. Поэтому тема «введения хоры» многим исследователям творчества Платона представляется «странной», и сам Тимей в своем рассказе окружает хору эпитетами «темный», «трудный», соотносит ее со сном, а не с ясной деятельностью бодрствующего ума.
Хора, введенная Платоном в философию, несет в себе глубинное доплатоновское, дорациональное (и даже до-досократическое) содержание. Это вторжение более древней формы мышления, поэтому оно конфликтует и с первым (бытием) и со вторым (становление) началами, представляется чем-то излишним, без чего, как кажется, Тимей в своем рассказе вполне мог бы обойтись.
Бытие и становление (первое -- вечное, неизменное, благое, постоянное, второе – изменчивое, преходящее, двойственное) исчерпывают рациональные возможности онтологии: мы имеем в них идеальный мир и мир феноменальный, явленный; принципы и их выражения (вещи). Этих двух начал вполне достаточно для построения всей разнообразной палитры философии. В них исчерпывающе описан логос и его структуры, а также его выражение в действительности, где он частично открывает, а частично себя скрывает. Платонизм остался бы самим собой – истоком западноевропейской онтологической философии – и без хоры: она ничего не добавляет к этой философии и ничего не убавляет у нее. Можно считать ее спорадическим вторжением какого-то принципиально иного мышления, прорвавшимся в стройную картину платонизма почти случайно и необоснованно. Она присутствует в этой картине как взявшееся ad hoc пустое место, не необходимое для содержания двух фундаментальных начал – бытия и становления, не несущее в себе никакого отдельного смысла и значения. Но вместе с тем, ее вторжение заставляет Тимея говорить о ней, как о вечном начале, наряду с двумя другими.
Складывается впечатление, что хора в рассказе Тимея не та, за кого она себя выдает. Мы лишь отдаленно, искаженно и преломленно узнаем о ее содержании по косвенным признакам, по оговоркам и неуверенным фигурам речи. Она присутствует в качестве намека на себя саму, в качестве своего бледного двойника, отдаленного и неясного указания на свою сущность и подлинную идентичность. Но мы сможем совсем по-иному посмотреть на нее, если последуем за этимологией и кристально ясным для Аристотеля ее функциональным (по крайней мере) тождеством с хаосом.
Поставим на место хоры в Тимее хаос, и все приобретет совершенно иной смысл (а прежний потеряет). Тьма поднимется до ясных небес с парящими идеями. Темные бездны озарятся новым, неожиданным и непредсказуемым собственным светом.
Хаос пробивается сквозь философский разум
Сделаем краткий экскурс в этимологию слова «caoV». Она восходит к индоевропейскому корню «*ghaw-», означавшему «пустое место», «окрестности, вокруг поселения», «большой простор»: вновь семантически это не что иное, как «χώρα». В немецком языке это дает «Gau» – «область», «провинция», «территориальная и административная единица». Вместе с тем этот же корень, как мы видели в случае тождественной ему хоры, означает и χωρίζω, то есть «различать». Различение есть основная функция мышления, его основа. Хаос как различение, стало быть, есть мышление в его изначальной и бездонной сути.
Приняв хору в Тимее за субститут хаоса, мы получаем наложение друг на друга двух космологий – философской, рационалистической, собственно, онтологической, с одной стороны, и фрагментарно представленной, затемненной и «вывернутой наизнанку» мифологической, сакральной -- с другой. Платон стоит целиком и полностью на стороне светлой и рациональной онтологии, на стороне «световой метафизики» (как назвал учение Платона об идеях Ойген Финк) (60). Эта метафизика состоит из двух начал и может быть исчерпана ими. Позже неоплатоники так и поступят, включив материю в нижний этаж мира становления, не придавая ей никакой особой роли и статуса вечного начала, отдельного от бытия и становления, и рассматривая ее как нечто, не имеющее собственного существования (paraupostasiV). Такой рационалистический подход, представляющий собой позвоночник всей западноевропейской философии (Уайтхэд справедливо заметил, что «вся западноевропейская философия есть ничто иное, как заметки на полях Платона»), строится на постулировании двух принципиальных «миров» -- «идеального» (неизменного, вечного, неподвижного, благого) и «феноменального» («реального», изменчивого, погруженного во время, движущегося и двойственного). Выяснение соотношения между этими двумя мирами есть суть процесса философии и построенной на философии науки. Как бы ни трансформировались представления об «идеальном» мире – вплоть до размещения его в субъекте (Декарт), сознании или «трансцендентальном разуме» (Канта) – он оставался базовой моделью всех философских методологий, всех сценариев познания. Найти соответствие в изменяемом (феноменальном) мире неизменному (началам, законам, идеям, представлениям, понятиям, теориям и т.д.) – это главная задача Запада. Сформулирована впервые эта программа была именно Платоном, и до сих пор, согласно Хайдеггеру, она несет на себе его отпечаток.
Космогонез в этой перспективе есть логическая операция – переход от «идеального мира» к «феноменальному», запечатление идей в вещах и явлениях. Философ движется в обратном направлении – он возводит свой взгляд от вещей к идеям (см. «Государство» Платона и знаменитый фрагмент о пещере(61)). У Плотина и неоплатоников философское познание сливается нераздельно с сотериологией, учением о спасении души из феноменального мира множественности и о «хеносисе» (ενοσις), то есть «воссоединении» с Единым. Два начала – идеальное и феноменальное – в таком видении гармонизированы, что и дает дорогу самому процессу познания, а также является предпосылкой философии и науки. В этом состоит базовая установка западной метафизики, основанной на доминации разума и его операций.
Взгляд на хаос со стороны порядка
Картина возникновения мира доплатонических греков, свойственная также мифологиям самых различных народов – шумеров, египтян, китайцев, индусов, древних германцев и т.д. – имеет одно фундаментальное отличие. Космогенез, как правило, начинается не сверху – от бытия, света, логоса, Единого, а снизу -- из тьмы, из ниоткуда, из чего-то, что предшествует появлению света, бытия и единого. В отношении этой инстанции, как правило, мифы не сообщают ничего определенного, и это показательно, так как в самом себе это начало, будучи беспредельным, неохватным, не имеет «пределов», способных его определить. Одним из образов этого мифологичеcкого начала является «хаос», «бездна», «зияние» (62).
Хаос предшествует порядку, но не так, чтобы в самом себе являться бес-порядком. Он скорее пред-порядок, в котором содержатся одновременно и бесконфликтно корни порядка и корни его противоположности. В этом смысле хаос всегда чреват, то есть беременен, несет в чреве своем. Он несет в чреве своем порядок, но не только его. Он несет в себе и его противоположность. И обе эти инстанции в хаосе суть, то есть они есть, экзистируют, наличествуют. Однако такое наличие внутри хаоса не позволяет провести строгого различия между одним и другим. Это всевключающее наличие, которое совмещает в себе бытие и небытие в одном и том же контексте, не делая выбора ни в чью пользу, не проводя разграничительной черты, не расставляя бытие и небытие по разные стороны, но, напротив, полагая их по одну и ту же сторону.
Мы привыкли смотреть на хаос со стороны порядка, со стороны онтологического и рационального порядка, начинающего свое движение с точки максимальной концентрации бытия и сознания. В этом случае хаос кажется чем-то беспорядочным, темным, далеким (лежащим на горизонте, конституирующим сам этот горизонт). Хаос и его творения – титаны и гиганты, змеи и хтонические монстры -- вызывают у богов и людей, ставших на сторону богов, ужас, ненависть и желание поместить их куда-то за черту, под спуд, вынести за рамки светлого и упорядоченного мира. В такой перспективе хаос представляется чистым отрицанием, чем-то плоским, далеким и недифференцированным.
Но стоит только поменять позиции взгляда и внять мифологической мысли, ее настрою, и мы увидим хаос другим. Пред-порядок отличается от бес-порядка тем, что первый содержит в самом себе порядок (хотя не только его). Он и есть этот порядок, причем во всем возможном объеме. Хаос – это бытие, в его чистейшей и яснейшей сути. Хаос – это сознание (χωρίζω – различать), в его высшем выражении, так как оно охватывает все возможное и даже невозможное. Но если порядок есть только порядок и ничего больше, то хаос – это порядок плюс нечто еще. Это «нечто еще» и составляет самое важное.
Когда порядок выпрастывается из хаоса и смотрит на то, откуда он вышел, он не видит в нем себя самого (особенно если речь идет о порядке западноевропейской философии), он видит только это «нечто еще», от чего он сам и отрывается. Это «нечто еще» можно назвать «ничто» или «небытие». Если порядок есть бытие, то «нечто еще» должно быть «небытием», и одновременно, вместе с тем, «беспорядком». Так оно и есть, если смотреть на все глазами Единого. Тождественность Единого самому себе, тождественность бытия бытию не оставляет возможности быть чему-то вне его. Значит, взгляд на хаос со стороны Единого распознает в нем только ничто. Строго говоря, если Единое будет не совсем честно перед самим собой, оно этим и ограничится, как ограничился признанием того, что «бытие есть, а небытия нет», Парменид. Все отличие чего-то от самого себя в таком случае будет сводиться к гносеологической погрешности (как в пещере Платона), к плотности заблуждения, не порождая никаких дополнительных онтологических инстанций. Феноменальный (реальный) мир есть только постольку, поскольку он воплощает в себе (отражает в себе, представляет, замещает) идеальный. Это монистический подход, как в области философии, так и в области религии. У «зла», «отрицания» и «антитезы» здесь нет собственного бытия, они суть лишь умаление «добра», «утверждения» и «тезы». Правда, та же установка Единого может привести к дуалистической картине, и противопоставить существование порядка и блага существованию беспорядка и зла. Таков дуализм во всех его версиях – от иранского маздеизма до гностицизма и манихейства. Но и в этом случае, признав за «злом», «отрицанием» и «антитезой» некоторое парадоксальное «бытие», мы остаемся в рамках все той же парадигмы – взгляда со стороны порядка, со стороны Единого на «не-себя». За всем этим стоит одно фундаментальное подразумевание: того, что порядок вечен, и он стал таковым необратимо и навсегда, а в самом чистом случае он таким всегда и был, и не было никогда до него ничего, и не будет ничего после него. Стоит только встать на эту позицию, и хаос исчезает, испаряется, теряется вдалеке, превращаясь в нерасчленимую, пусть и тревожную, точку на горизонте, способную разве что несколько омрачить наши сны. Так все и обстоит в западноевропейской философии, несмотря ни на какие нюансы и отклонения от этой фундаментальной онто-гносеологической парадигмы, являющейся основой Запада.
Глядя из хаоса
Но совсем иначе дело обстоит в том случае, если мы взглянем на космогенез с позиции хаоса – того, который был перечеркнут западной философией, отправлен без особых разбирательств в область мифа. Видимо, самому хаосу была безразлична его судьба, раз он на это согласился, а может быть, с его стороны речь шла о какой-то более тонкой стратегии. В любом случае он оказался в ряду мифологических представлений, не заслуживающих основательного философского рассмотрения. Внимание к хаосу, наблюдаемое современной науке, не в счет — там под «хаосом» понимается просто специфические физические состояния, процессы или математические исчисления, где проявляются несводимость, непериодичность, бифуркация (равновероятное движение точки по двум различным траекториям и т.д.). Это не хаос, а особые выделенные в отдельные зоны сектора упорядоченности, отличающиеся от наивных механистических представлений о порядке, свойственных первым этапам Нового времени, когда наука развивалась экстенсивно и наступательно. Хаос, по признанию современных физиков-теоретиков, не альтернатива порядку, но его особая идеовариация. Одним словом, это не хаос, а метафора.
Если отложить в сторону этот частный случай, почти никому не приходило в голову встать на точку зрения хаоса. Тем не менее область мифа далеко не единственная позиция, которая могла бы стать территорией хаоса. Вполне возможна именно философия хаоса, основанная на специфическом представлении о порядке, бытии, сознании, процессе, космогенезе и предполагающая развитие своих предпосылок в сторону прикладных применений.
Философия хаоса должна была бы двигаться по траектории, фундаментально отличной от траектории философской мысли Платона, с его онтологизацией Единого, метафизикой сущего, парадигмы и копии и его логоцентризмом. Нельзя исключить, что Хайдеггер и пытался выстроить именно философию хаоса, не используя это наименование. И даже сам факт того, что он этого термина не использовал, может дать нам серьезные ключи к расшифровке Dasein'а и его значения.
Но мы намерены двигаться последовательно и попробовать набросать основные моменты этой возможной (но не существующей) философии хаоса.
Пролегомены к философии хаоса. Нулевое Начало
Бытие как только бытие, как самотождественное, Единое, благое и неизменное в философии хаоса не является первым Началом. Оно – Начало, но есть нечто, что «начальнее» его; оно самотождественно, но вместе с тем оно тождественно не только самому себе, а значит, оно и несамотождественно. Оно благо, но этот эксклюзивизм претензий на благо и является источником зла. Оно вечно, но есть нечто и более древнее. Оно едино, но единственно, в его единстве содержится двойственность, не только последующая за ним через воспроизведение, но и предшествующая ему.
Философия хаоса не просто дублирует первое Начало, надстраивая над ним еще один дополнительный метафизический этаж: философия хаоса действует в том смысле, что она признает все полномочия Единого, все его утверждения, все его парадигмальные установки как верные и соответствующие истине, но вместе с тем она придает им очень тонкий оттенок. Это не сомнение и скепсис, но дополнительное измерение, внесение которого кардинально меняет скорее не сам логос, но интонации логоса, акценты и микроскопические детали.
В разум хаос приносит тончайший оттенок безумия. В ясность – тончайшую дымку намека. В вечность – тончайшую интуицию конечности. Утвердительность Единого, являющегося ответом на все, превращается хаосом в вопросительность -- не в такую, которая требовала бы ответа, но в особую вопросительную утвердительность, в громогласной очевидности которой скрыта насыщенная смыслом драматическая неуверенность. В свете – в самом его центре – хаос обнаруживает невидимое присутствие мрака, крохотную черную точку…
Для хаоса порядок, который мыслит себя выделившимся из пред-порядка, мыслится не выделившимся, но остающимся в нем. У хаоса нет времени, вернее, у хаоса время внутри него, поэтому в нем нет последовательности. Отделившиеся от него логос, чистое бытие, не отделяются от него. Вернее, для логоса это происходит так: «свет зажигается во тьме, и тьма не обнимает его». Для хаоса этого не происходит -- «свет горит во тьме, и тьма горит во свете». Для логоса есть бытие и небытие, он сам и не он сам (статус не его самого может быть, как мы видели, разным в монистических и дуалистических философиях и религиях). Для хаоса также есть бытие и небытие, но они совпадают, не различаются, они включены друг в друга, инклюзивны друг другу. Все остается всегда одним и тем же, при том, что постоянно меняется.
Можно сказать, что в философии хаоса первое начало пребывает внутри нулевого начала, причем вместе со вторым началом или с его прямым отрицанием. Нулевое начало хаоса – это начало фундаментального мира (pax).
Диалектика включений
Философия хаоса прекрасно объясняет и второе начало – изменяющийся мир, данный нам через «мнение» (doxa), явления, ощущения, мир феноменальный или «реальный». Будучи феноменологически и онтически неизбежным дополнением/искажением к миру идеальному,
он составляет серьезную проблему для разума. Не случайно Лейбниц задается вопросом: «Почему существует нечто, а не ничто?»
С позиции философии хаоса феноменальный (реальный) мир, мир становления, просто воспроизводит модель отношения порядка к хаосу внутри самого порядка. Он точно так же не есть порядок (и есть порядок), как сам порядок не есть хаос, и в каком-то смысле – черная точка в бездне света – есть хаос. Становление возможно и действительно потому, что возможно и действительно бытие, а оно возможно и действительно, потому, что возможен и действителен хаос. Реальный мир есть мир бытия в том, что касается идей, в нем заложенных. И он же отличен от мира бытия в том, что эти идеи существуют не сами по себе, а через другое – через знаки. Наличие хаоса добавляет здесь еще одно измерение – само бытие есть знак: ведь будучи равным самому себе, оно не равно самому себе, а значит, оно означает не только самого себя (автореферентность), но и другое. А раз дело обстоит так на уровне первого начала, ясно, что то же самое может развертываться и внутри этого первого начала – во втором начале.
Пограничный хаос
Здесь можно поставить вопрос – а где предел такой зеркальной имплозивной (врывающейся внутрь) игры тождеств/нетождеств? Показательно, что в рассказе Тимея им выступает именно хора, которую мы отождествили с хаосом, равно как у неоплатоников им считается материя – как чистая привация, недостаток, как абсолютно отрицательная категория. Пределом реального мира выступает та грань, где он полностью исчерпывает свое сходство с миром идеальным, перестает означать что-либо. Но перестать означать что-либо -- не то же ли самое, что означать только самое себя? Когда мы (в философии порядка) признаем первое начало первым и единственным, все просто: только оно самореферентно, а все внутри мира становления гетерореферентно, является денотацией другого (идеи) и от этого приобретает смысл. Как только мы максимально далеко удаляемся от этой автореферентной инстанции, – Единого, – вещь утрачивает свое референтное свойство и тем самым онтологию: ведь бытие вещи в платонизме определяется мерой ее соучастия в Едином. Здесь граница понятна, хотя и размыта. По меньшей мере, с онтологической точки зрения мы можем ее провести. Она-то и называется «материей». Ту же функцию в чисто платоническом прочтении двух космогонических начал выполняет и хора у Тимея, дополнительно выступая как пространство. А само пространство, в таком случае, есть именно граница вещей (эту линию в отношении понятия «места», «topoz», позже более эксплицитно разовьет Аристотель).
Последний шаг вниз (телеология космогенеза)
Если мы встаем на точку зрения философии хаоса, то вся картина меняется. Во-первых, бытие утрачивает свойство исключительной автореферентности. Оно, принципиально означая только самое себя (поэтому оно бытие, а не небытие), означает одновременно и что-то другое – не бытие. Так обстоит дело в хаосе, где нельзя строго провести разделительной черты. Но -- что важно! – бытие не означает и хаоса. Хаос, как мы говорили, не просто надстроенный метафизический этаж над первым началом, это особое измерение – скорее внутреннее или параллельное, нежели иерархически расположенное (вверху или внизу). Хаос не новая инстанция автореференции, но сам принцип гетерореференции, которая указывает одновременно на себя (автореферентная гетерореферентность) и на другое (чистая гетерореферентность) и – возможно, на нечто третье (бифуркационная гетерореферентность). В хаосе нет эксклюзивной идентификации, всякая идентификация в нем инклюзивна, то есть включает в себя «что-то еще».
Теперь, если мы учтем это обстоятельство, мы по-иному сможем осознать нижнюю границу реального мира (становления), где мы столкнемся с материей и пространством. Эта материя, утрачивающая последнее сходство с бытием (первым началом) и начинающая означать в своем бесбытийном, нигилистическом состоянии только себя саму, свою привацию и тщету, внезапно оказывается иной, нежели она сама, то есть начинает выступать референцией чего-то, но вместе с тем и чего-то иного, нежели бытие. Причем именно достигая дна, развоплощаясь и максимально удаляясь от Единого, реальность (становление) вступает в режим истинной и полной референтности, обозначая отныне хаос. Разделение (χωρίζω - различение), которое несет в себе материя, оказывается непрерывным и бесконечным выражением абсолютного предшествования, самого хаоса, с позиции которого бытие есть не вовне (как для материи), а внутри. Таким образом, внешней границей становления, пространством, пределом, материей интеллигибельного космоса (в рамках второго начала) оказывается сам праисток, самое первейшее, самое вечное и самое предшествующее, никуда не исчезнувшее, неопределенное, не избытое. Это возвращение в живородящую тьму, в чреватую ночь, в тот свет, который является источником всякого света. Таким образом, достигая дна мира, мы оказываемся на вершине небес.
Прекращая быть референцией бытия, чистая материя (хора, пространство) становится референцией небытия, но само бытие – в философии хаоса – есть не что иное, как референция ничто в пространстве всеохватывающей референции самого хаоса. Поэтому если вещь, следуя импульсу космогенеза и отдаляясь в потоке становления от бытия, сумеет сделать еще один шаг вниз, достичь дна зияющей бездны, она очутится даже не в самом бытии, а в том, из чего это бытие воссияло, в чем оно сияет и что дает ему основание и право быть.
Но можем ли мы в такой оптике ясно распознать саму телеологию космогенеза, упорно увлекающего вещи в сторону их нижней границы, которая утрачивает смысл недоразумения и становится настоящей целью, телосом, а сам процесс космогенеза -- ясно выраженной телеологией и сотериологией, но только не в смысле возврата к бытию по обратному пути (неоплатонизм), а в смысле движения вперед, к центру ночи? Если этот центр ночи, сгусток материи, более черной, нежели само черное, есть присутствие хаоса/хоры, то именно такой «путь вперед» и, точнее, «вперед и вниз», а отнюдь не рационалистические конструкции возврата и не философская сотериология Запада, будет спасительным сценарием становления Вселенной.
Русская философия возможна только как философия хаоса
Нам осталось сделать последнее заключение, сводящее все эти несколько разрозненные наблюдения о хоре/хаосе/пространстве/мышлении/различении воедино. Складывается впечатление, что феноменологическое описание русского дазайна вплотную подводит нас именно к инстанции хаоса. Пространственность русского дазайна и доминация пространственного фактора для русского «пребывания» получает важнейшее онтологическое разрешение. Если, как мы видели, хора в «Тимее» не то, за что она себя выдает и замещает в этом повествовании «упраздненный», вернее, скрывшийся хаос, заточенный в области мифа, то мы можем напрямую связать пространство, пространственность с хаосом и получить тем самым прямой выход на финальное решение вопроса о возможности русской философии.
Структура русского дазайна, описанная в общих чертах, в целом совпадает с той картиной, которую мы набросали, говоря о философии хаоса. Эта философия, равно как и русская философия, есть нечто (пока) не существующее. Но в отличие от русской философии, возможность которой только еще надо доказывать, хаос, будучи извлеченным из мифологического контекста и сопоставленным с классической философской топикой платонизма, базовой для всей западноевропейской философии, вполне подтверждает свою возможность быть основанием подлинной философии. Более того, если приглядеться к самым общим наброскам философии хаоса внимательнее, мы увидим следующее: не существуя в полностью оформленном, систематизированном и структурированном виде, философия хаоса в своих основных моментах представляет собой отнюдь не пустую и экстравагантную гипотезу. Мы легко опознаем ее версии во многих восточных духовных учениях – в даосизме (частично даже в конфуцианстве), в дзэн-буддизме, в учении Патанджали, тантризме и Адвайта-Веданте Индии, в еврейской каббале, в разнообразных мистических учениях самой Европы (герметизм, мистика, алхимия), которые, однако, остались на периферии европейской культуры и были отброшены магистральным курсом развития западноевропейской философии как «мифы», «предрассудки» и «абберации». Если должным образом конституировать философию хаоса как парадигму, мы сможем опознать ее фрагменты, ее процедуры, ее отдельные моменты повсюду – в учениях как восточных, так и западных, как древних, так и современных. При этом европейское Средневековье и отчасти Возрождение дает нам примеры того, как подход хаоса был ассоциирован с понятием «философии». Мы имеем в виду «герметическую философию», использовавшую предикат «философский» к тем объектам, которые попадали в зону ее внимания – «философский камень», «философский огонь», «вода философов», «философский ребенок», «философская ртуть», «философская соль», «философская сера», и даже «философский хаос». Для нас этот устойчивый герметический прецедент чрезвычайно важен именно потому, что он показывает, как понятие философии может быть распространено на ту область, которая находится в введении хаоса и его основных процедур.
Следовательно, если мы сможем отождествить русскую философию (не существующую и не ясно, возможную ли?) с философией хаоса (также не существующей, но точно возможной), мы, по сути дела, решим поставленную нами задачу. Русская философия возможна как философия хаоса.
Более того, если мы соотнесем это утверждение с тем, что мы выяснили относительно фундаментального различия между русским дазайном и Dasein'ом западноевропейским, мы сможем дать внятный ответ на вопрос, почему у русских нет философии. У русских нет философии в западноевропейском понимании и нет аналогов тех философий, которые имеются у восточных культур, потому что русский дазайн фундаментально слит с самой стихией хаоса, потому что он принципиально и сущностно хаотичен и находится в отношении к бытию в принципиально ином отношении, нежели Dasein европейский.
Русское бытие пребывает в хаосе, в русской стране, в ниве, на русском поле. Оно совпадает с русским народом, который и есть живое представление живородящего хаоса. Модель идентификации, различения, соединения у русских, статус границ и противоположностей в русском дазайне представляют собой хаотическую структуру полной включенности -- включенности и по отношению к бытию и по отношению к небытию. Такая структура русского дазайна категорически не благоприятствует построениям высоко дифференцированных онтологий и иерархизированных рационалистических гносеологий – в духе Платона и магистральной линии западноевропейской философии. Более того, она радикально отличается и от той экзистенциальной подосновы, которую обнаружил Хайдеггер в основании всей философской конструкции, и которую он проанализировал в «Sein und Zeit». На таком дазайне выстроить конструкцию в духе западноевропейского логоса невозможно – для этого нет никаких глубинных экзистенциальных предпосылок, нет не только внутренней мотивации, но и принципиальной структурной возможности. Все напластования западной культуры будут соскальзывать и превращаться в противоестественные ироничные симулякры (что и имеет место в археомодерне). Так смеется русский хаос, играя с фрагментами непонятой или слишком хорошо понятой (что одно и то же) западноевропейской культуры. Как в случае с пересечением границы материи вниз, в философии хаоса мы попадаем не в бессмысленную автореферентность, но в высшую гетерореферентную инстанцию, врываясь через небытие в смысл и значение бытия. Так, следуя по спиралям русской глупости, мы доходим до момента, в котором западный ум обнаруживается как нечто чрезвычайно несерьезное, необоснованное и смешное. Русское срамит западный логос, выводя его в дурацком свете.
И вместе с тем, даже первых и предварительных наблюдений относительно русского дазайна и его экзистенциальной структуры достаточно, чтобы с полной уверенностью сказать – русская философия возможна. Для нее есть все внутренние предпосылки и основания, для нее есть дазайн и его экзистенциальные структуры, для нее есть место и есть тот, кто способен ее создать – русский народ. Но эта философия будет заведомо другой, нежели западноевропейская философия. Не только по внешним признакам или даже по своей судьбе, но еще глубже -- по своим изначальным основаниям, по своей экзистенциальной природе. Это будет философия хаоса. Философия русского хаоса. Русская философия хаоса.
Глава 12. Четверица в структуре русского Начала
Схема Четверицы
Обратимся к другой центральной теме философии Мартина Хайдеггера – к теме Четверицы (Geviert) и попытаемся соотнести ее с тем, что нам теперь известно о русском дазайне. Это направление должно вывести нас на другое Начало философии, так как Четверица (Geviert) имеет к нему самое прямое отношение.
Другое Начало, по Хайдеггеру, это философия, которая не отрывается от Четверицы, но развертывается в ее лоне как в наиболее аутентичном модусе существования Dasein'а (63).
Напомню, что Четверица состоит из четырех «мировых областей» (Weltgegende), которые можно назвать четырьмя векторами бытия (Sein/Seyn). Она включает в себя:
Небо – Himmel (Welt -- мир(64))
Землю -- Erde
Богов -- Gotter (Бессмертных/Unsterbliche, aqanatoi)
Людей -- Menschen (Смертных/Sterbliche, qanatoi)
Оси Четверицы натянуты между Небом и Землей и между Богами и Людьми и пересекаются между собой. В точке их пересечения располагается само Бытие (Seyn), всегда существующее как (и только как) Четверица. Отсюда встречающееся у Хайдеггера написание слова Seyn:
 |
|
 |
SEYN
В некоторых случаях Хайдеггер помещает в центр перекрестья Er-Egnis (Событие) или Ding (Вещь). Более подробно мы рассматривали Четверицу в первом томе данной книги (65). Теперь попытаемся соотнести Четверицу и ее структуру с русским дазайном.
Небо (Himmel)/ Божественные (Gottlichen)

 Welt (мир?)
Welt (мир?)
Смертные, Люди Земля (Erde)
(Sterblichen, Menschen)
Схема 10. Четверица
Попробуем уточнить значения этих слов, важнейших для другого Начала философии, и нащупать их русские аналоги, чтобы приблизиться к русской Четверице.
Небо-Welt и Волотомон Волотомонович
Небо (Himmel) в контексте Четверицы у Хайдеггера выступает как синоним Welt (мир?). В первом томе и выше, при описании экзистенциалов русского дазайна, мы уже говорили о тех сложностях, которые представляет собой корректная передача смысла немецкого «Welt» на русском языке. Мир для русских -- это близкое, закрытое, всегда имманентное, успокаивающее, свое, представляющее вечный материнский ответ. Мир не содержит ни вызова, ни разрыва. Он сворачивает Вселенную в уют и нору, помещает ее внутрь, в утробу. Это не греческий «kosmoV», ни латинский «mundus» (это, скорее, русское «лад» как украшение).
Немецкое «Welt» отличается от русского «мир» более радикально, нежели греческие и латинские аналоги. Этимология «Welt» восходит к древнегерманскому «*wiraaldo», и далее, к индоевропейским корням «*uiros» – «муж», «сильный», «крепкий» и «*al-» -- «расти», «кормить». «Welt» мыслится как гигантская растущая мужская героическая мощь. Это вызов, это подъем, это нечто выдающееся во всех смыслах.
Welt всегда беспокоит. Героизм выражает в себе не умиротворенность, но воинственность, не баланс, но неравновесие, не решенность, но проблему. Таков для Хайдеггера Welt. В русском языке есть слово, образованное от развития того же индоевропейского корня «*uiros» c утратой первого (затвердевшего) «u».
Это «род». В роде древние славяне почитали именно эту жизнеобразующую, созидательную и опасную одновременно, великую мощь. Но не случайно не «род» и не «свет» стали в современных славянских языках означать «mundus», «kosmoV», «Welt», а именно «мир». Вселенная у русских свернулась, успокоилась, умиротворилась. Она перестала быть вызывающей высящейся громадиной. Она улеглась. Поэтому для того, чтобы понять мировую область Четверицы, нам надо сделать над собой усилие – над собой и над нашим языком. С точки зрения набора русских понятий немецкому «Welt» (мир?) более всего подходит «война», или образ гиганта-богатыря Святогора -- великана, высящегося посреди лесов и полей в своей угрожающей выдающейся стати. В русском фольклоре «Голубиной книги» (66) и в русских духовных стихах эта фигура Вселенского Человека изображается подчас как Волотомон Волотомонович (дословно «Великан Великанович»), сказочный Царь Царей и Господь Господствующих.
«Волотомон Волотомонович» «Голубиной книги» не только по своим функциям и свойствам близок к тому, что заключено в слове «Welt», но и этимологически связан с серией слов «волот», «велет» («великан», «гигант»), «владеть», «володеть» («обладать», «властвовать»), готским «waldan», немецким «Gewalt» («насилие», «сила», «господство»), индоевропейским «*ualdh-» (или «*walǝ-»), русским «воля» и немецким «Wille». А «Wille» как ницшеанская «Wille zur Macht», по Хайдеггеру, есть основа основ западноевропейской судьбы как tecnh и Gestell.
То, что Хайдеггер в Четверице отождествляет «Welt» («мир?») с «Himmel» («небом») вновь никак не приближает нас к сути хайдеггеровской мысли, так как русское слово «небо» восходит к индоевропейскому корню «*nebh-» (латинское «nebula», германское «Nebel») со значениями «туман», «туча», «облако». Не то, что открывает нам небесную лазурь, но что, напротив, ее тщательно от нас скрывает. Немецкое «Himmel» (от «*xim-in-a-», «*xim-il-a-m») восходит к индоевропейскому «*k(')em-er/n-», что, правда, тоже означает именно «облачное небо», при том что облачность здесь взята как синоним «каменности» и соответствует индоевропейскому корню «*akm-» (русское «камень», «камы» отсюда же).
«Каменность» неба – часто встречающийся в мифологии сюжет, давший, в частности, и русское слово «твердь». Каменная тяжесть Неба (Himmel) под стать мужеской мощи Welt-мироздания. Это все тот же регистр гигантских воинственных образов, созвучных фигуре Волотомона Волотомоновича. Русская же «туманность», заложенная в слове «небо», напротив смягчает, растворяет эту каменную мощь, сглаживает ее, лишает ее громоносной угрозы.
Но через серию различий и поправок, уточнений и этимологических соответствий/несоответствий, мы все же приблизились к описанию мировой области, которая пусть и не Мир и не Небо, но представляет собой грозную, мужскую, каменно-великанскую сторону Четверицы, бьющую войной вздымающегося всеразрывающего Рода.
Бытие Земли
На противоположном конце Четверицы находится Земля (Erde). Значение этой «мировой области» столь велико, что стоит тщательно исследовать все возможные этимологии в рамках индоевропейских языков, так или иначе имеющих отношение к философии или к возможной философии (то есть в языках славянских).
Русское «земля» восходит к индоевропейскому «*dg'hem-» и далее к ностратическому «*DVG-», вплоть до «борейского» (по С.А.Старостину (67)) «TVKV». Отсюда же латинское «humus» и греческое «cqonoV», авестийское «zɔ̄». Основной смысл слова «земля» -- «низ», «то, что внизу». Сюда же относят и индоевропейскую основу «*ghem-» со схожим смыслом. Существует древнейшая индоевропейская основа «*mag(')h», восходящая к ностратической «*magV» и борейской (по Старостину) «HVMGV». Это «земля с оттенком праха, грязи». Еще есть индоевропейская «*tal-», от ностратического «*ṭalV» и борейского (по Старостину) «TVLV», откуда латинское «tellus» и русское «тело» («тло» – дно, основание). Здесь подчеркивается гладкость, плоскость, ровность, равнина. Индоевропейское «*tēres-», от ностратического «*ṭVŕV» и борейского (по Старостину) «TVRV», откуда латинское «terra», имеет коннотацию с «прахом», «пылью». И, наконец, индоевропейское «*er-», откуда немецкое «Erde» и английское «earth», подчеркивает связь земли с пашней, с пахотной почвой.
Немецкий смысл для нас чрезвычайно важен, так как позволяет сблизить «землю-пашню» («Erde») с «нивой», «полем», а это, в свою очередь, напоминает нам хору. В этом случае, однако, большого зазора в семантике между немецкой и русской этимологией нет, хотя для полного понимания смысла этой «мировой области» в Четверице стоит держать в уме оттенки всех значений, заложенных в индоевропейских и, далее, ностратических и борейских этимологиях. Общая цепочка понятий:
«низ» – «грязь» – «прах» – «тело» -- «дно» – «гладкость» – «равнина» – «пашня» – поле».
Если мы отнесемся к «Земле» не как к одному из возможных слов, выведенному из индоевропейской группы сходных корней, а к заместителю всех их, то получим «широкое значение» «Земли», как широка сама Земля. Это «широкое значение» должно быть включающим, всеохватывающим, поэтому что «Земля» есть и «низина», и «равнина», и «почва», и «прах», и «пахота», и «поле», и «нива», и «грязь», и «плотность», и «телесность», и «дно». В таком широком охвате она не может отличаться и от хоры и, следовательно, от изначального хаоса. И хотя мифология старательно подчеркивает то первичность хаоса по отношению к земле (Гесиод), то первичность Земли по отношению к хаосу, мы вправе пренебречь этим как позднейшей рационализацией, произведенной в целях вторичных и всегда несколько искусственных обобщений. В свете начальных значений индоевропейской Речи все это видится слитым и нерасчленимым.
Поэтому Земля в Четверице может быть самим бытием, fusiV, природой, как в санскрите слово «bhur», образованное на основе индоевропейского корня «быть», означает Землю.
Но теперь, после исследования хоры/хаоса, мы можем взглянуть на проблему бытия несколько иначе, основываясь на оси Земля-Небо (Welt-мир?) в Четверице. Можно поместить на двух концах этой оси Бытие как Небесное и Бытие как Земное. Бытие как Небесное будет так или иначе тяготеть к тому, чтобы выпростаться из западноевропейского греко-германского Dasein'а и снова ворваться в него как в свое «da». Это воинский Welt, почти Gewalt (насилие, сила), агрессия светлого тяжелого и каменного Неба, мирового Гиганта. Это Sein-бытие, которое неслучайно оказывается помещенным в небесные просторы, где парят световые идеи. Так же и западноевропейская метафизика -- как надстройка над западноевропейским Dasein'ом, с его коренными травматическими, высоко дифференцированными особенностями -- выглядит теперь не случайной, но закономерной.
Но есть и иное Бытие, бытие как «bhur», как Земля, как пространство, как хора, как хаос. Оно не исключает, но включает, оно хранит в себе противоположности, оно обволакивает и успокаивает, примиряет и убаюкивает. Это русское бытие, бытие Земли.
Между этими двумя – Бытием и Бытием – возникает гигантское напряжение, сверхэкзальтированное в Небе (Welt, мире?) и полностью успокоенное в Земле. Небо-Welt вырывается из Земли и, вырываясь, создает в образовавшемся просторе водовороты своих световых онтологий, свои конусы нисхождений и восхождений, свои световые лестницы, свои летающие горизонты. Небо-Welt ставит себя на другую сторону мировых областей, но Земля этого не знает, этому не внемлет, для нее ничего не меняется и измениться не может. Для нее Небо-Welt не вне, но внутри, в утробе, не отделено, но соединено, не мучит ее, но ласкает – ласкает изнутри. Мужеская деятельность вселенского Воина Волотомона Волотомоновича не беспокоит Землю, даже если концы мироздания качаются и сходятся в битве. В Земле царит мир, который никто и ничто не может поколебать. Всякое волнение здесь есть покой, всякая вражда – примирение, всякая бойня – любовь, всякое различие – тождество.
Земля будущего и судьба Welt (мира?)
В одном из фрагментов «Geschichte des Seyns» Хайдеггер высказывает пророческое изречение:
«Die Geschichte der Erde der Zukunft ist aufbehalten im noch nicht zu sich befreiten Wesen des Russentums». — «История/судьба земли будущего содержится в еще не освобожденной для себя самой сути русскости»(68). И продолжает: «Die Geschichte der Welt ist aufgetragen der Besinnung (курсив Хайдеггера) der Deutschen». – «История/судьба Welt (мира?) вручена осмыслению немцев».(69)
Вначале вспомним, что «Geschichte»(70), согласно Хайдеггеру, это не «история» (в дословном переводе), но скорее (этимологически) «посыл» или даже «скачок» (как в этимологии слова «schieken» -- «посылать», «резко обрывать»). Для перевода этого фундаментального хайдеггеровского слова здесь можно было бы использовать русское слово «Рок», которое берет свое начало от глагола «рцети» -- «высказывать», «говорить», «молвить», «глаголить». Рок – это следование тому, что было «проречено» (предречено), высказано и предсказано, но такое следование, которое превращает в соучастников произношения этой первоначальной и вечно произносящейся Речи. Рок – это Речь. Тот, кто способен к речи (а это человек как носитель «вот-бытия»), соучаствует в стихии Рока в той степени, в какой он способен аутентично изречь эту речь.
Geschichte-Рок/Речь – это всегда само Бытие (Seyn), и только оно наделяет все происходящее в ходе своего развертывания существованием. Итак, в данном высказывании мы говорим о местонахождении того, что является самым главным для Хайдеггера -- а именно, о Geschichte-Роке/Речи и ее локализации. Эта локализация имеет колоссальное фундаменталь-онтологическое значение.
Второе, что важно для Хайдеггера, это Zukunft, «грядущее», «будущее» -- экзистенциальный горизонт аутентичного существования Dasein'а. Так как само Zeit (время?), по Хайдеггеру, есть Sein, то его экстазы (прошлое, настоящее и будущее) суть выражения разных модусов Sein-бытия. При этом будущее есть такое выражение, в котором Sein есть Seyn и существует в своей «истине». Поэтому «будущее» имеет самое прямое отношение к другому Началу -- к тому Началу, которое должно начаться в ходе осмысления (немцами, как видно из этого фрагмента) Конца первого Начала и смысла этого Конца, а вместе с этим и смысла самого первого Начала (западноевропейской философии/западноевропейской истории). Следовательно, говоря о «Земле будущего» (Erde der Zukunft), Хайдеггер обращается к Четверице (Geviert), какой она будет в другом Начале. Земля будущего – это Четверица другого Начала, когда Dasein будет экзистировать аутентично и выбор будет сделан в пользу Er-Eignis'а. Поэтому и Geschichte (история/судьба/Рок) der Welt (мира?), о которой здесь идет речь, относится к Четверице будущего, к Четверице другого Начала.
И что же мы, таким образом, узнаем из этих двух предложений? Ничто иное, как ту картину, которую мы сами получили в поисках обоснования возможности русской философии. Аутентичная Четверица другого Начала представляет собой столкновение двух мировых областей (Weltgegende) – Неба/Мира? (Himmel/Welt) и Земли, которые, соответственно, распределены по ксенофановским горизонтам, по «странам», по особым местностям философской географии. Область Himmel-Неба вверена осмыслению («Besinnung»– от «Sinn» «смысл», «значение») немцев (выступающих в данном случае общим знаменателем западноевропейского Dasein'а – в чем, не без оснований, был уверен Хайдеггер), а область Земли «содержится в еще не освобожденной для самой себя сути русскости».
Все на этот раз полностью сходится. «Суть русскости» (Wesen des Russentums) – это русский дазайн, русский народ, русское Начало. Эта «суть русскости» есть хора, хаос и теперь, как мы видим, и Земля. «Не освобожденной» от чего является «суть русскости»? От археомодерна, от навязанной внешне «модернизацией» болезненной парадигмы, от свалки западной онтологии, сброшенной на чистую, стоящую под философским паром в ожидании настоящего пахаря, настоящего сева, настоящих всходов почву. Поэтому германский Welt (мир?) призывается Хайдеггером освободить «русскость» не для себя, но для нее самой.
Суть Земли следует освободить не для навязывания ей сути Неба, но для выявления ее собственной сути. Поэтому Хайдеггер говорит о «еще не освобожденной для себя самой сути русскости», «im noch nicht zu sich befreiten Wesen des Russentums». В другом месте (71) Хайдеггер снова возвращается к этой теме: «Russland – dass wir es nicht technisch-kulturell uberfallen und endgultig vernichten, sondern zu seinem Wesen es befreien und ihm die Weite einer Er-leidenskraft eroffnen zur Wesentlichkeit einer wesentlichen Rettung der Erde». Дословно: «Россия – мы не должны завоевать ее культурно-технически и (тем самым) окончательно уничтожить, но (мы должны) освободить ее для ее (курсив Хайдеггера) сути и открыть ей широту ее страдательной мощи к сути сущностного спасения Земли». И снова «мы» у Хайдеггера не просто немцы 1941-1945 годов, когда написаны эти строки, но это Германия в целом, шире, Запад, еще шире, западноевропейская онтология, и еще глубже, западноевропейский Dasein. И Хайдеггер, который никогда не позволяет себе никаких лишних высказываний, утверждает: «должны» -- «мы должны», точнее, в данном случае, «не должны» уничтожить, но «должны» освободить и открыть.
В чем суть этого «долженствования» для Хайдеггера? В том, что без этого невозможно начать другое Начало. Чтобы другое Начало началось, необходима другая Земля как важнейший, да что там – главный и основной – член Четверицы будущего. Для этого западный Dasein, из которого выросло Небо-Himmel, должен освободить Россию, русский дазайн, русский народ. От чего освободить? От себя самого, от своего модерна, от своей онтологии, от своей философии, которая началась и закончилась и сейчас сама разлагается в Machenschaft'е и разлагает всех вокруг.
Убравшись в свой Welt (мир?) и забрав с собой болезненный и тупиковый мусор модерна, европейский Dasein действительно освободил бы широту русской Земли для нее самой, для ее сути, и освобожденная русскость спасет Землю, даст будущему Землю, сделает будущее возможным, допустит новой Четверице быть, а другому Началу начаться. Это и будет спасение. Спасение России от Запада будет спасением самого Запада от себя самого, от своей собственной трагедии, от своих ложных и тупиковых лабиринтов в закатных сумерках вечера Вселенной. Хайдеггер видел все это. И все это с какой-то невероятной, немыслимой, невозможной ясностью понимал, высказывал, изрекал.
Русской Четверицы нет
В Четверице множественность Бытия, которая ставила перед нами трудные вопросы ранее, открывает свою суть. Русские – земля, хора, хаос. И мы несем в себе хаос, без которого, как говорил Ницше, «невозможно родить танцующую звезду» (72). Мы -- хаос не для себя и не в себе, мы -- просто хаос в самом широком и безбрежном смысле. Мы и есть Земля, бытие Земли, земля для всех, русская Земля. И мы -- носители философии Земли.
В Четверице другого Начала мы есть те, кто есть. И это другое Начало может родиться только из нас, и никак не без нас, не вне нас, не против нас, не на наших останках (тем более, что мы непобедимы, так как мы всегда перебываем в мире – даже, когда воюем; и это мир Земли).
В Четверице русский дазайн должен войти в самый большой горизонт, наше пространство должно стать всеобщим. Неверно здесь формально пытаться выстроить русскую Четверицу. Русский дазайн есть, и он -- единственное, что есть, а вот русской Четверицы нет. Есть просто Четверица. Она имеет отношение к другому Началу. Это Начало, конечно, будет русским Началом, но если для Запада это будет другим, вторым Началом, то для нас оно будет первым и единственным, вечно длящимся, не начинающимся и не заканчивающимся Началом русского народа, русской Земли. Не надо рваться к небу. Надо найти русское Небо в русской Земле, в русском тумане, в русской норе, в русском теле, в русской пашне, в русском поле, в русском прахе, в русской равнине, в русской грязи. Наше Небо – земное.
Божественное и человеческое в русском взгляде
Русское в Четверице – это взгляд. Взгляд на нее со стороны Земли. У Земли есть глаза. Небо/Вселенная, глядя на землю, видит спину, «тло», тыл, tellus, и только. Но у Земли есть лицо, оно всегда повернуто прочь от Неба. Но оно есть, и на этом лице есть глаза. Глаза, которые смотрят и видят. Это особое земное зрение. Это русское зрение. Поэтому русский взгляд в Четверице – это взгляд глазами Земли.
Особенность этого взгляда в том, что он не видит Небо как другое, он видит Небо как то же самое (земное Небо). Он не видит порядок, как другое, нежели хаос, он видит порядок как хаос. В ином он видит то же.
Но такой же русский взгляд, как взгляд Земли, должен быть брошен и на вторую пару Четверицы, которую мы пока оставили без внимания. Боги и люди. Бессмертные и смертные. Как видят их русские?
О месте Божественных
Начнем с «богов». Хайдеггер многократно подчеркивает, что вопрос о количестве «богов», о существовании «богов» или «Бога» не лежит в сфере компетенции Dasein'а. Dasein может знать и знает о Божественном, о «священном», о сакральном (Heilige), о «нуминозном» (по Р.Отто (73)). Но опыт сакрального настолько первичен и глубок, что с экзистенциальной точки зрения анализу и разложению на фигуры не поддается.
Здесь Хайдеггер в чем-то следует за Брентано и его идеей интенционального акта (развитой Гуссерлем). Логика и теория суждений Брентано основана на том, что интенциональность всегда оперирует только с одним содержанием (Гуссерль назовет это «ноэмой»), сплавляя субъект и предикаты, а также различные логические операции и предшествующие или мгновенные репрезентации (представления, Vorstellung) в некую единую цельную область. Суждение о существовании или не-существовании выносится целиком в отношении всего этого содержания, независимо от того, простое ли оно или сложное, многочленное или одночленное. Поэтому с экзистенциальной точки зрения «Божественное» как коррелят интенциального акта, на него направленного, может рассматриваться и анализироваться строго и четко. А относительно структуры отдельных составляющих этого интенционального содержания ничего строгого и четкого в феноменологическом смысле сказать нельзя.
Применяя это к области Божественного, Хайдеггер говорит, что вопрос о существовании или несуществовании единого «Бога» – это вопрос, который могут решать и решают только сами «боги», это область их суждения. Человек же, смертный, должен находиться на почтительной дистанции от «тинга богов», где они решают свои дела и выясняют свои проблемы. Они или Он? Человек утверждает: «Оно, Божественное, das Gottliche, которое пребывает в центре Священного (Heilige)». Дальше начинается «открытая теология».
Именно поэтому одну из областей Четверицы точнее всегда назвать «Божественным» -- как мировой областью, отведенной «богам» или «Богу», местом бессмертных. Это «место» есть феноменологически, и оно непустое. В этом у Хайдеггера нет ни малейших сомнений, но все остальное – более проблематично.
Этимология высшего из имен
Немного этимологии. Немецкое «Gott» (как и английское «god») восходит к индоевропейскому «*g'hawǝ-», означающему «взывать», «призывать», «обращаться к». «Gott» -- это «Тот, к кому взывают в священном трепете». В таком выражении легко увидеть как раз интенциональность в чистом виде: это коррелят интенциального акта, который является парадигмой всех интенциальных актов, так как он обращен к тому, что заведомо исключает как наличие предшествующего представления (Vorstellung), так и мгновенной очевидности. То есть именно в акте «взывания к», когда предмет взывания максимально неопределен, неочевиден и невидим (ohne Evidenz), и открывается сама природа основополагающих структур психических феноменов или феноменов ума (nouò). Таким образом, идея, заложенная в индоевропейском «*g'hawǝ-» и германском «Gott», выражает чистую форму интенциональности, парадигму интенционального содержания («Inhalt»).
Показательно, что к тому же индоевропейскому корню восходит и русское слово «звати», «зов». Немецкое «Gott» – это именно «Зов». Зов, предшествующий «на-зыв-анию», «на-зыв-ающему» и «на-зыв-аемому». Зов в чистом виде. Бог есть То, Что при-зывают, к Чему в-зывают, Что на-зывают. Соответственно, область Божественного -- это область воз-звания, это -- сам Зов как акт, в ходе которого конституируется Gott-Бог.
Греческое «qeoV» восходит к «*dhēs-», откуда латинское «fēriae» (праздники) и санскритское «dhíṣṇya-» («внимательный», «умный», «благочестивый»). Фердинанд де Соссюр сводит его к индоевропейскому корню «*dhu̯w-» -- «дымить», «осуществлять жертву всесожжения». В древнеславянском это значение мы встречаем в родственном корне «дым», «дути», откуда английское «dusk», «сумерки». Здесь речь идет об огненном священном ритуале, обращенном к Богу. Бог как qeoV - Тот, Кому приносят жертву. Здесь тоже мы имеем дело с парадигмальной интенциональностью, только выраженной не через словесное обращение – Зов, но через обряд.
Другой индоевропейский корень для называния «Бога» -- «*deiw-», означавший «бога» и «небо». От него происходят индусское «devá-» («бог»), авестийское «daēva-» («демон»), латинское «Deus» и «Juppiter» (контаминация «Deus Pater»), греческое «Ζεύς», «Зевс», немецкое «Tiu» или «Tur» (имена языческих богов). Ностратическое «*dʷVjɣV» и борейское (по С.А.Старостину) «TVWV» подчеркивают значение «света», «сияния», «дня», «солнца». К этому же корню восходит и индоевропейское «deien-», откуда немецкое «Tag» и славянское «день». Основная идея здесь – «свет», «яркость», «проявленность». Древнерусское слово «divъ», откуда «удивляться», относится к этой же группе и подчеркивает, в первую очередь, восторг, ужас и недоумение при столкновении с «Божественным», с «дивом».
И, наконец, русское «бог». Оно восходит к индоевропейскому «*bhag-» (еще далее -- к ностратическому «*bakV») - «наделять», «уделять», «распределять», родственно древнеиндийскому «bhágas» "одаряющий, господин, эпитет Савитара и второго из Адитья", древнеперсидскому «baga-», авестийскому «baɣa», «господь», «бог», от древнеиндийского «bhájati», «bhájatē», «наделяет», «делит» и авестийского «baẋšaiti», «участвует». Отсюда же греческое «φαγεῖν» -- "есть, пожирать". Первоначальное значение – «наделяющий». Бог -- Тот, Кто наделяет.
Три взгляда на неведомого Бога
Суммируя основные индоевропейские семантические комплексы, связанные со словом «Бог», получаем три группы:
1) «*g'hawǝ-» и «*dhu̯w-» указывают на того, Кого зовут (призывают) или Кому совершают жертвы (сжигая их на священном огне). Это ῏немецкое «Gott» и греческое «θεος».
2) «*deiw» -- «Светлый», «Дневной», «Ясный», «Солнечный», «сам Свет», «Солнце», «День».
3) «*bhag-» -- «Тот, кто дает, Кто наделяет, Кто делает пустое полным».
В этих трех возможностях древнейшей идеи «Божества» мы видим три взгляда на интенциональное содержание фундаментального акта чистого мышления.
Первая возможность состоит в обращении к Другому со стороны человека, со стороны обращающегося, зовущего или жертвующего. Это чистая интенциальность, такая, как ее описывают Брентано или Гуссерль. Показательно, что это свойство глубинного семантического пласта имени «Божества» у греков и германцев.
Вторая возможность наименования Божества состоит в нейтральном (с точки зрения, структуры познания) постулировании области Света – то есть того, что явлено (феноменологический мир), как явлено, с помощью чего явлено (обращение к свету как предпосылка учения об идеях и о чистом бытии у Парменида, Платона и у позднейших западноевропейских философов, включая схоластов). На одном этом имени можно обосновать метафизику света, трансцендентного по отношению к человеку и вещи (позднее к субъекту и объекту), то есть «объективный идеализм».
И, наконец, славянское «Бог» несет в себе совершенно иной взгляд на то, что находится на противоположной от мыслящего стороне мыслительного акта в его чистой парадигме. Там размещается Наделяющий, источник всего наличия и, в первую очередь, наличия мыслящего. Мысль становится не мыслью «меня», но мыслью «обо мне». Центр мышления смещается на противоположную сторону, где отныне помещается Тот, Кто «есть» и Кто «весит», Кто «имеет», Кто «значит», и Кто от этого бытия, веса, имения и значения наделяет направленное на Него внимание бытием, весом, наличием и значением. Бытие и мышление человека обосновываются бытием и мышлением Бога о нем. Бог зовет человека, он его конституирует Своим мыслящим действием.
Человек, таким образом, становится интенциональным содержанием Божественной мысли. Вся феноменологическая проблематика переворачивается – «cogitat ergo sum», «(Он) думает, следовательно, я существую».
В Четверицу, понятую по-русски, в Четверицу другого Начала, мы должны поместить «Бога» в его славянском понимании, не «переводного бога» («Gott», «qeoV», «Deus»), а своего, русского, прореченного на нашем языке, выраженного в нашем слове, в нашем глаголе, являющегося нашим Роком.
Божественное у русских мыслится как Наделяющее, как дающее тяжесть тому, что легко как пушинка, как осенний лист, как летняя паутина, как нежный кристаллик снега. Человек же становится очевидностью «Божественного» -- тем, чем Оно поверяет свои суждения, над чем творит свой суд, который и есть судьба.
Имя человека
Невольно мы переключились на «человека». И снова повернемся к этимологии, которая открывает нам замысел изначальной Речи и простирает перед нами ее драгоценное наследие.
Возьмем немецкое «Mensch», «Mann». Слово восходит к индоевропейскому «*mAnw-», что прослеживается в санскритском «mánu-» и русском «мужъ». Имеет ностратическую форму – «*mänV» и борейскую «MVNV». Никакого другого значения или коннотации, вопреки множеству созвучных корней и фантастических этимологий, строгими методами лингвистики выявить не удалось: «*mAnw-» означает «человека», «мужчину» и только. Соблазнительное сближение с индоевропейским корнем «*men-» -- «думать», «мыслить», откуда латинское «mens» и русское «мнение» и «память», доказать не удалось.
Латинское «homo», «человек», имеет иную основу и восходит к индоевропейскому корню «*g'hom-en-» или «ĝhðem-», что означает «человека» как «земного», «земнородного» живущего на Земле, так как первичное значение корня именно «земля», латинское «humus», греческое «χθών». Русское слово «земля» восходит прямо к той же основе. Здесь понятие «человек» берется как его эпитет – «земной», «земен». От этого происходит формула в православном ирмосе: «Всяк земен да взыграется, Духом просвещаемь, да ликовствует же бесплотных умов естество, почитая святое успение Божия Матере».
Греческое слово «ἄνθροπος» возводится к индоевропейскому корню «*andh-», которое никак не толкуется, кроме названия человека и только в греческом и восстановленном хеттском языках. Покорный (74) (предположительно) выводит его из «*ἄνθρο-ωπος», то есть «бородатое лицо», «лицо с ростками» -- из индоевропейского «*andher-» -- «росток», «острие», «цветок». Но это не все лингвисты разделяют, и намеков на такое толкование или понимание этого слова в самой греческой литературе или в мифах нет.
Наконец, русское слово «человек» не менее затруднительно. М.Фасмер (75) выводит его из праславянской формы «*čelověkъ», от индоевропейского «*(s)kʷel», и объясняет его как составное из «čеlо-», что сближается с «че́лядь», далее, с древнеиндийским «kúlam», «стадо», «множество», «семья», «род», греческим «τέλος», «толпа», ирландским «cland», «clan», и второй части «-věkъ», соотносимой с литовским «vaĩkas», «ребенок». Есть гипотеза о том, что «-věkъ» связано со значением «сила» «мощь». Самые строгие лингвисты оспаривают связь «čеlо-» со значением «целый», откуда немецкое «heil», «здоровый», и «heilig», «священный». В любом случае в этом темном слове заключена идея группы людей, представляющих собой определенную силу. По смыслу это близко к слову «полк», в свою очередь, сближающемуся этимологически с германским «Volk» и английским «folk». «Человек» -- как и «полк» и «Volk» – отсылает нас к образу группы более или менее вооруженных и более или менее организованных мужчин, внушающих соответствующие чувства наблюдателям. Значение ирландского слова «clan» ставит акцент на родственных связях этой группы. Слово «челядь» подчеркивает, скорее, отношения, напоминающие феодальные, то есть связанные со значением слов «свита», «слуги», «окружение», «отряд».
Пропавший человек
Филолог В. В. Колесов (76) показывает, что слово «человек» в первых славянских текстах появляется не в качестве существительного, а в качестве прилагательного: «человечь», то есть отвечающий на вопросы «какой?», «чей?». И лишь позже оно постепенно становится самостоятельным существительным. Из этого можно заключить, что изначальное значение было собирательным – как в слове «челядь», откуда древнерусское «челядинъ».
Можно рассмотреть также собирательное понятие «люди». Оно образовано от индоевропейского корня «*leudh-», от которого происходит также немецкое «Leute». К этому же корню восходят греческое «eleuqeroV», «свободный» и латинское «liber», «ребенок». Основной смысл корня -- «расти», «рост». Люди – это те, кто выросли, то есть, в определенном смысле, это «дети», «выросшие дети», «поросль». «Свободными» же они считались в социальных условиях индоевропейских обществ, если были не просто индивидуумами, но детьми конкретных семей, обладавших социальным статусом, на основании чего, как показывает Э.Бенвенист (77), это понятие и стало означать «свободных» в противоположность «рабам», «douloV», не имевших семей и формировавшихся преимущественно из захваченных во время военных действий воинов или мирных жителей, оторванных от собственных обществ и обращенных в рабство с лишением социальных прав.
Важно, что в русском языке «человек» как понятие утвердилось довольно поздно и на основании ранних собирательных терминов – «челядь», «люди», «род», «семья», «огничане», «искренние». Создается впечатление, что в русской древности большого внимания человеку не уделялось, а его индивидуальность, его личное выделение как такового, как единичного существа, как человека в единственном лице, вообще сложились в последние века и, видимо, под внешним воздействием.
Не устоялось в русском языке и в разговорном обиходе и определение «смертные» в противоположность «бессмертным»: эти понятия имеются почти исключительно в переводах и мало что сообщают о собственно русском бытии и о русском понимании человеческого начала.
Для Хайдеггера Sein-zum-Tode, бытие-к-смерти было фундаментальной характеристикой Dasein'а, объяснявшей многие его глубинные черты. На симметрии смертность/бессмертие Хайдеггер основывает две другие, наряду с Небом-Welt (миром?) и Землей, мировые области Четверицы -- область людей и область богов или область человеческого и область Божественного. По Хайдеггеру, между ними развертывается линия высокого напряжения, сопряженного с проблемой смерти. Здесь уместно вспомнить высказывание Гераклита: «Люди умирают жизнью богов, боги живут смертью людей» (78). Хайдеггер с разных сторон рассматривает пару люди/Боги в их сложном и тонком соотношении в Четверице, в их напряженном противостоянии, в их борьбе и примирении, а также в их взаимной дополняемости. В описании этой оси мы уже не найдем у Хайдеггера никаких упоминаний о русскости. Ось люди/Боги мыслится им исключительно в горизонте западноевропейского Dasein'а. Это не случайно, как и все у Хайдеггера.
Проблематичность легких богов
Давайте попробуем взглянуть на эти две мировые области Четверицы (люди/Боги) русским взглядом, то есть с позиций почти нащупанной нами в ее основаниях философии хаоса.
Особенность этимологии русского слова «Бог» подготовила нас к тому, что отношения между «Богом» и «человеком» будут существенно отличаться от того, что имеется в рамках западноевропейского Dasein'а. Эти отношения принципиально перевернуты с самого начала.
У Хайдеггера есть легкие боги, убегающие от грубых и страшных (всегда вооруженных чем-то) людей, одержимых волей к власти и заслоняющих своим техническим напором всякую возможность сакрального чествования бытия в Четверице. Убегающие в бессмертие боги проблематичны и в другом Начале философии. Хайдеггер провидит возможность не столько снять эту проблематичность, сколько создать условия для чрезвычайно тонкого и изящного ее оформления – в духе возвышенных поэтических гимнов. В Четверице другого Начала изгнанные, «удалившиеся», «скрывшиеся» боги должны вернуться, и хотя вынудить их сделать это не в человеческих силах, люди могут и должны постараться создать условия для их возвращения, поместив свое аутентичное экзистирование в ожидание их возврата. Их возвратом будет Er-Eignis, важнейшее происшествие мировой истории/судьбы, и воплотится оно в фигуре «последнего Бога» (der letzte Gott). Этот возврат может состояться только под очищенным Небом и на спасенной Земле.
Бог мыслит русских
Русский взгляд на Четверицу инаков. С позиции Земли не может быть острой и драматичной эсхатологии. И сама ось Божественное/люди организована совершенно иначе. Бог и люди обретаются на Земле. Они взаимосвязаны, но по другой логике. Бог наделяет человека присутствием и селится в нем, размещается уютно и даже буднично. Но один человек разорвался бы от этого вселения, поэтому Бог вселяется в народ, поселяется в нем, усаживается в нем, превращает народ в свою весь, в свое село, в свою страну. Бог наделяет собой народ, и народ начинает быть «вот».
Бог у русских есть, и есть только Он. Это не онтологичеcкое суждение, а базовая феноменологическая очевидность. Сам интенциональный акт русских, как мы говорили выше, перевернут: не русские мыслят Бога, а Бог мыслит русских. Русские -- это содержание «интенционального акта» Бога, его гипотеза. Поэтому проблематично не существование Бога, проблематично существовавание человека. Русские никогда не знают достоверно, а есть ли вообще человек? Челядь какая-то, чада, полки, дворы – все это есть, безусловно и несомненно. Но за точку отсчета, за «человека» как отправную инстанцию это принять трудно, тем более разделив на отдельные сингулярные единицы, на «я». Русский сомневается в своем существовании, не сомневаясь ни в чем остальном. Все беспроблемно и очевидно, кроме него самого как человека. Он безусловно есть как русский, так как в противном случае не было бы ни страны, ни речки, ни леса, ни поля, ни тепла материнских объятий, ни покатой крыши, ни острого ветра, ни мокрого снега на ресницах. Но как у человека у него нет места.
Русский человек не способен спугнуть Бога, потому что он не охотится и не ополчается на Него. Он не рвется напролом с техническим настроем преображения природы. Он не забрасывает дыры бытия истеричной продукцией. Он не обременяет свою голову расчетами и мыслями. Русский человек несет себя как ничто, как ничтожество, получающее содержание только извне и без этого содержания не особенно тоскующее.
Бог, русский Бог, тяжел, а не легок. Он не убегает. Он неподвижен и кругл, он огромен и спокоен. Он есть то, что есть и Он, безусловно, один. Он слишком тяжел, чтобы Его было много. Он пребывает в Земле, в ее сердце, и Он есть Бог Земли. Его не отличить от Земли, так как Он есть Она. Небо над головой и слепленный волевой мир в промежутке – это его сны. Они прекрасны, эти сны. Но они Его. Русский Бог не создавал человека, Он живет в русском народе, который не имеет начала и не имеет конца.
В такой Четверице у человека как смертного, как Mensch'а, нет своей области. Между Богом и человеком нет никакого напряжения. Человек свершается, не появившись, у него нет испытания и игры. Линия главного напряжения проходит вне человека. Речь дана не ему, как и смерть приходит не за ним. За ним приходит жизнь. Русский человек – человек живой. И говорит не он, говорят им. Он есть сам слово, молчаливое слово слов.
Структуры интенциональности
Здесь можно сделать небольшое отступление, поясняющее общую картину отношения человека и Бога в русском дазайне и в Dasein'е европейском. Для этого вновь обратимся к феноменологии и сосредоточим внимание на структуре интенционального акта (по Ф. Брентано и Э. Гуссерлю).
Феноменология основана на поисках точного описания психических структур, явлений и действий, которые предшествуют собственно рациональной деятельности. Франц Брентано (79) строго различает: 1) интенциональный акт, оперирующий с «представлениями» (Vorstellung, representatio), слитыми в общем имманентном психике феномене – «содержании» (Inhalt) интенционального акта, и 2) собственно суждение (Urteil) как вынесение рассудком окончательного приговора относительно соотношения «содержания интенционального акта» и внешнего по отношению к психике (субъекту) объекта (референта) на основании «очевидности» (Evidenz). Новизной модели Брентано и феноменологов в целом по сравнению с прежними традициями западноевропейской философии и психологии является то, что они сосредоточили внимание не столько на рациональном дискурсивном процессе (то есть собственно на разуме и его операциях), сколько на подготовке этого процесса на уровне психики.
Классическая философия так или иначе оперировала с субъектом (и его разумом) и объектом даже до того, как эти термины (после Декарта в Новое время) стали базовыми нормативами. Логика суждений Аристотеля и ее развитие в последующие эпохи, вплоть до современных логических систем типа Г. Фреге и Б. Рассела, была целиком основана на этом подходе. Суждения рассудка выносились на основании рефлексии содержания высказывания – его субъектов и предикатов, а также связей между ними. Самым принципиальным в этом было имплицитное подразумевание того, что каждый элемент логического высказывания сам по себе так или иначе соотносится с соответствующим ему референтом из сферы «объективного» («феноменального», «реального») мира, что и определяет – через серию процедур -- истинность или ложность логических построений.
Феноменологи привлекли внимание к тому, что в таком процессе упускается из виду огромный пласт предварительной психической деятельности, формирующей семантический контент высказываний на основании совсем иных критериев, нежели те, которыми оперирует разум (рассудок, рацио, διανοια). Эта психическая деятельность не может быть помещена ни в область рассудка (так как не является рефлекторной, отстраненно наблюдающей за своей спецификой), ни в область объекта, внешнего мира, так как содержится внутри субъекта. Эта сфера и стала осмысляться как область собственно психики.
Ф. Брентано описал эту область как состоящую из веера интенциональных актов. Интенциональным актом является акт внимания, направленный на какое-то представление или группу представлений. При этом группа представлений в интенциональном акте всякий раз сбивается в нечто общее и неразделимое, что и становится его содержанием. Внимание человека, направленное на предмет, всегда нацелено на те или иные конкретные свойства этого предмета. На уровне психики человек не может обратиться просто к розе как таковой, он всегда обращается, например, к красной розе или желтой розе. При этом он не просто механически соединяет в одном представлении два компонента – розу и ее красноту (или желтизну), но имеет сразу целостный образ красной или желтой розы. И на следующем уровне рассудок выносит свое суждение именно об этой общей, слепленной воедино из двух и более свойств, единице. Сам интенциональный акт в качестве того, с чем рассудок имеет дело, всегда направлен на психический момент, состоящий из представлений и их связей. Этот момент (содержание интенционального акта) имманентен самому акту, то есть находится внутри сферы психики, а не вне ее.
Э. Гуссерль (80) назвал этот уровень «простым мышлением» или «умом» («noesiV», «nouV») в противоположность философскому или научному раз-мышлению или раз-уму («dianoia»). При этом он выделял непосредственно процесс, сам акт (noesiV) и то нечто, что в этом акте конституируется и на что этот акт направлен. То, что мыслится в «простом мышлении», он называл «ноэмой» (nohma). Ноэма может быть простой или составной, но она всегда единична, так как внимание мышления может быть направлено в каждый данный момент времени только на что-то одно. На поздних этапах своих философских разработок Гуссерль выделил зону, где действуют исключительно законы ноэзиса и интенциональности, в особую область – «жизненный мир» (Lebenswelt)(81).
Итак, мышление на интенциональном уровне оперирует с ноэмой. Когда в дело вступает собственно раз-ум, рас-судок (Гуссерль называл его «dianoia»: от «dia»- «раз-» и «nouz» -- «ум»), он выносит суждение относительно того, как психическая «вещь» (ноэма, «положение дел») соотносится с объективной реальностью. По Брентано, рассудок может вынести только одно суждение – существует ли или не существует (existiert oder existiert nicht) нечто. Имеется в виду, что только субъект в своей рас-судочной, рефлекторной деятельности способен соотнести психическую «вещь» интенционального акта с «реальной» вещью объективного мира, существующей вне психики, за пределом субъекта.
Переход от интенционального акта к рассудочному суждению и есть начало философии, логики, науки. Можно сказать, что, согласно феноменологам, этот переход к «онтологическому» суждению на основании рационального рефлексирующего познания и есть ядро западноевропейской истории, культуры и цивилизации.
Однако феноменологи считали, что на первых этапах становления греческой философии, у Платона и Аристотеля, прыжок от интенционального акта к рассудку произошел слишком поспешно и быстро и последующие поколения философов и деятелей науки оперировали уже с готовой топикой логического мышления, лишь уточняемой в зависимости от того или иного периода западной метафизики или направления внутри нее. При этом само внутреннее устройство рефлексии и скрытые психические механизмы суждения систематическому осмыслению и разбору не подвергались.
Переход от психики к рассудку, от nouς к διανοια, от «жизненного мира» к научному и философскому миропониманию всякий раз проходил слишком стремительно, как нечто само собой разумеющееся. Сосредоточив внимание на этом процессе, Ф. Брентано пришел к выводу, что эта поспешность и недоучет интенциональной природы психических явлений привели к тому, что в классическую логику предикатов прокрались погрешности, заставляющие рассудок основывать суждения на рассудочном же анализе структуры высказываний (наделяя при этом психические акты свойством актов рациональных). Это видно в силлогизмах Аристотеля и остается неизменным для современных Брентано логических систем – включая столь развитые, как логика Фреге. Поэтому Брентано предложил собственную логику, основанную на строгом учете интенционального акта, включая тщательный анализ пошаговых механизмов его развития.
Феноменология и интенсивный этап развития европейских наук
Аналогичные феноменологии процессы протекали в науке и философии второй половины XIX века одновременно на разных уровнях. Заканчивался период экстенсивного развития парадигмы Нового времени – рационалистической, позитивистской, активно борющейся с пережитками догматизма и схоластики. Начинался интенсивный период, когда внимание обращалось внутрь самого рассудка, в его глубины и, в том числе, к тем областям, которые непосредственно предшествовали его становлению, развитию и укреплению, а также его триумфу в рационалистической цивилизации Западной Европы Нового времени (82). Переосмыслению подвергались и механика Ньютона (А. Эйнштейн/Н. Бор), и идея прогресса (Э. Дюркгейм), и система западноевропейских нравственных ценностей (Ф. Ницше). На этой волне были открыты психология (В. Вундт), а затем и «подсознание» (З. Фрейд), влияние производственных отношений на сущность общественных процессов (К. Маркс), законы структурной лингвистики (Ф. Де Соссюр). В этот же период расцветает интерес к «примитивным» народам и архаическим культурам, складывается антропология и этнология, начинается усиленное изучение мифа и мифологии. Дильс впервые издает полное, систематизированное и аннотированное собрание фрагментов досократических философов.
Интенциональность, открытая Брентано, и вся область феноменологии полностью вписываются в этот процесс. Научная мысль старалась двигаться не столько вперед, сколько внутрь, вглубь, к своим истокам, чтобы яснее понять саму себя на новом уровне. Открытие интенционального акта и его структуры показывало то, на чем строится рассудок, от чего он отталкивается в своих суждениях. По сути, феноменологи открыли формулу строения субъекта – в тех его аспектах, которые были максимально далеки от его рассудочного полюса ( разума), но все же оставались внутри него, в области, имманентной человеку, в его психике.
Философия как экзорцизм
Можно сравнить открытый феноменологами мир интенциональности с мифом, из которого в Древней Греции развилась философия. Структуры психического мышления («νους», по Гуссерлю) оперировали с «пред-ставлениями», почерпнутыми отовсюду, но только не из рассудочных суждений. Вполне можно уподобить их мифу. По-гречески «muqein» (откуда «muqoV», «миф») означает «рассказывать», «повествовать», и даже «мыслить». Русское слово «мыслить» восходит к тому же самому индоевропейскому корню, что и греческое «muqoV».
В древний период термины «muqoV» и «logoV» были почти синонимичны и означали нечто подобное, но развитие философии отождествило с рассудочной деятельностью, со сферой саморефлектирующего разума именно logoV, отведя muqoV роль познания неточного, приблизительного, недостоверного, нерационального, основанного на непроверенных данных и преданиях, на инерции и пред-рассудках. Феноменологи, обратившись к психике, заново открыли область мифа, «простого мышления» – того мышления, которое предшествовало философии с ее специфической, основанной на рефлексии топикой.
И здесь мы подходим к важной для нас теме. Рациональная философия с самого начала имела дело с мифом, элементы которого вначале корректировала и проверяла, сопоставляя с данными рассудка (как у Сократа, Платона и Аристотеля), а потом принялась последовательно изгонять – на первом этапе под эгидой христианского монотеизма, затем (в Новое время) во имя самого разума. В данном случае нам интересен один аспект этой борьбы с мифом. Он связан с темой существования «духов», «невидимых существ», населявших, по мнению архаических культур и религий, окружающий человека феноменальный мир.
«Духи» и иные «невидимые существа» настолько важны для мифологии (как развитой, так и примитивной), что вера в них может быть положена в само определение мифа. Миф существует там, где есть вера в невидимых существ, так или иначе влияющих на человека и внешний мир и вступающих с человеком и миром в особые отношения. Неважно, добрые духи или злые; неважно также, считаются ли они богами, предками, покойниками или случайными флуктуациями («бродячими влияниями») окружающей среды. Миф всегда повествует о них как о чем-то наличествующем. При этом в отличие от философии и науки, и даже систематизированной религии, миф не вдается в подробности относительно онтологического статуса духов: очень редко или вообще никогда в мифе что-либо говорится об их бытии, сознании или их роли в процессе познания. Онтологический язык не дело мифа, он не оперирует с такими понятиями, как «бытие», «реальность», «субъект», «объект», «существование».
С момента своего рождения западноевропейская философия стала возводить свое здание на принципе изгнания духов. Она была и остается своего рода «экзорцизмом». Отсюда и призыв У. Оккама «не двоить сущности», и битва Френсиса Бэкона против «идолов», донаучных и неотрефлектированных «представлений» (pre-notion), «пред-рассудков», то есть против того, что еще не подверглось холодному рассудочному (научному) анализу.
В результате более чем двухтысячелетнего систематического экзорцизма Западу удалось-таки «расколдовать мир» («Welt entzaubern», по выражению М. Вебера) (83). Философия Нового времени, выделившая исключительно два начала – субъект и объект, сделала на этом пути окончательный решительный шаг: для «духов» более не осталось «места». Но как только «изгнание духов», «расколдовывание мира», воистину свершилось, немедленно – в тот же самый момент! – «изгнанные духи» были обнаружены снова. Ницше подозревал нечто в этом роде: «Многие желавшие изгнать своего дьявола сами вошли при этом в свиней»(84), имея в виду историю с Гадаринским одержимым, из которого Христос изгнал бесов, приказав им вселиться в стадо свиней (тут же бросившихся с обрыва в пропасть). «Духами» стали содержания интенциональных актов, ноэмы, структуры «жизненного мира». М. Штирнер в книге «Единственный и его собственность» (85) выразил это такими словами: «Mensch, es spukt in Deinem Kopfe!" («Человек, твоя голова одержима духами!»)(86). Безличная форма «es spukt» подчеркивает, что духи безличны и преследуют человеческий субъект («Единственного») по внутренним, а не по внешним причинам, как его корреляты. Открыв интенциональность, феноменологи открыли – но на сей раз научно! – область духов. Об этих «духах» они и принялись спорить, размышляя о статусе их соотношения с реальностью. На этом основана не только философия Гуссерля, Райнаха и Мейнонга, но и в какой-то мере – это самое важное – философия Хайдеггера. В конечном счете, хайдеггеровский Dasein как венец гигантской феноменологической работы и есть «дух» по преимуществу -- но не Geist, а именно Spuk (призрак, сила), точнее, та инстанция, которая порождает призраки, духи, тени, образы, состояния, мысли, в том числе и разум.
Феноменология духов
Посмотрим на функцию «духов» в мифологии. Они, как правило, связывались с какими-то физическими и природными вещами – деревьями, ручьями, гротами, горами, светилами и т.д., но мыслились не как сами эти вещи, а как их «дубли», имеющие определенную и довольно широкую степень свободы от самих вещей. Дух леса (Пан, сатир, леший) – это часть леса, но его свободная часть. Он ближе к людям, чем сам лес в своей прямой и непосредственной вещности, поэтому ему приписываются антропоморфные черты, определенные стороны человеческого поведения, и вместе с тем, свойства животных видов – ноги козла, рога. Леший опосредует для человека лес, делает его понятнее, ближе, роднее. Странность и пугающие аспекты лешего – от самого предмета (от леса в его «объективной реальности», полностью чуждой человеку). Его антропоморфные черты и двусмысленность поведения при столкновении с человеком – от близости к человеку. Таковы духи гор, морей, дождей, зверей, растений, мест, предметов, состояний, действий. В мифологии таковы функции и самих богов. Они тоже духи, только высокого порядка.
В религии «духи» сводятся в одну общую картину, воспроизводящую промежуточный слой между людьми и стихиями внешнего мира. Благодаря этому человек осваивается в сфере нечеловеческого, устраивается в ней, соседствует и соотносится с ней. В то же время благодаря духам люди конституируют объекты внешнего мира. Лес становится лесом благодаря лешему, сатиру, Пану; деревья -- деревьями благодаря гамадриадам; ручьи и реки -- ручьями и реками благодаря нимфам, вилам и русалкам; высокие горы -- высокими горами благодаря великим богам. Домовой (лары, пенаты) – это то, что делает дом домом, человеческим домом.
Но эти духи и есть «представления» (Vorstellungen) Ф. Брентано, содержания интенционального акта, ноэмы Гуссерля. Они были изгнаны из сферы рассудка, которая утвердилась через процедуру их изгнания, построив на этом «царство разума», но обнаружились не в научном, но в «жизненном мире». Интенциональность, конституирующая ноэму, психический имманентный субъекту предмет, есть «дух», а серия последовательных интенциональных актов складывается в «мифический нарратив». «Дух» феноменологии устроен точно так же, как и «дух» мифологии: он опосредует человеческое и внечеловеческое психическим гибридом; он есть человеческий эквивалент нечеловеческого; он есть имманентная трансцендентность.
Когда Хайдеггер говорит о «трансцендентности» Dasein'а (87) и открещивается от психологии, он не порывает, как может показаться на первый взгляд, с феноменологическим подходом. Он его продолжает, но при этом утверждает в центре внимания не «субъекта» (пусть и «трансцендентального», как у Гуссерля), и не психику, но самого этого «духа», «ноэму», обнаружившуюся не как проекция субъекта, но как средоточие самого экзистирования. Теория Dasein'а Хайдеггера – это утверждение того, что начинать надо не с субъекта и не с объекта, но с того, что между ними: отсюда экзистенциал Dasein'а Inzwischen. Dasein находится как раз «между» -- как «дух», как «призрак», конституируя своим экзистированием и «эго», и Welt (мир?) в процессе своего (Dasein'а) наличия («кто» Dasein'а может быть Selbst'ом, а может быть das Man'ом, а Welt (мир?) получается в ходе In-der-Welt-Sein) (88).
В таком In-zwischen ситуировании Dasein`a кроется объяснение того, почему Хайдеггер был так увлечен сферой поэзии -- она приравнивалась им к области священного, к сфере мифа. Но в то же время он пытался схватить эту тонкую грань In-zwischen с помощью философских методов, стремясь провести свою работу в максимально чистых условиях ортодоксальной и следующей строго своим курсом западноевропейской философии (не сбиваясь на мистику, герметизм, иррационализм и т.д.). Основополагающий «призрак» («дух») Хайдеггер стремился обосновать чисто научными методами.
Конечно, психика и интенциональность не миф. Но различие состоит не в рассматриваемой субстанции, а в особенности отношения к ней. Миф – это мышление, νους, «жизненный мир», который либо является исключительным и единственным в смысле среды человеческого существования, либо преобладает над рациональностью и рассудком, подчиняет его себе, довлеет над ним. Там, где есть миф, либо нет философии, либо она находится в подчиненном, рабском, зависимом состоянии. Интенциональность там замещает собой рассудочное суждение, не дает саморефлексии сложиться и уж тем более диктовать свои условия человеку и обществу. Миф ничего не знает о философии, либо (в форме поэзии и искусства в целом) предпочитает держаться от нее на почтительной дистанции. Там, где философия вступает в свои права и общество строится на научном рациональном мировоззрении, напротив, миф оказывается в подчиненном положении, изгоняется из области дня и помещается в тени, в укрытии. Этим укрытием является психика. Ее-то и открыли В. Вундт, Ф. Брентано, З. Фрейд и К. Г. Юнг.
Но открытие психики, конечно, не было реабилитацией мифа или возвратом к мифу. Это был следующий этап все той же погони за мифом, охоты на миф и войны с мифом, которые велись рассудочным мышлением. Чистый разум обнаружил противника в его укрытии и принялся выкуривать его оттуда, продолжая его демифологизировать, то есть подвергать экзорцизму -- на новом этапе и в новых формах. Это и есть феноменология – по крайней мере, в ее стартовых намерениях построить настолько рациональную рациональность, чтобы в ней не было места ни для малейшей толики нерационального, как бы глубоко оно ни укрылось, как бы незаметно оно ни слилось с рациональным. Поэтому феноменология – это рациональное исследование пред-рационального; философское осмысление того, что предшествовало философии, того, чем была философия, пока ее не было; каким было мышление пока оно не стало раз-мышлением (мышлением о самом мышлении).
Феноменология (равно как и психоанализ с его мифами – Эросом и Танатосом Фрейда, сновидениями и интерпретациями, оговорками и психическими расстройствами) отнюдь не ставила перед собой цель нового «околдовывания мира». Она просто искала то место, куда спрятались исчезнувшие «духи», куда убежали «боги».
Но дело было сделано, и с помощью феноменологии мы несколько неожиданно получили инструментарий, с помощью которого можно рассуждать о «духах» вполне научно и рационально. Этим стоит воспользоваться.
Феноменологический анализ Зова и Дыма
Вернемся к рассмотрению отношения Божественного и человеческого в Четверице Хайдеггера. Сейчас мы вполне можем назвать ось, связывающую и разводящую их по разные стороны, ноэтической осью. Эта ось имеет строго определенный вектор – от человека к Божественному. В этом направлении оси состоит фундамент западноевропейской антропологии и, что еще важнее, главная особенность западноевропейского Dasein'а.
Что такое «Gott» или «qeoV» с точки зрения интенциональности? Это ноэма в чистом виде, содержание интенционального акта, которое невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть рассудочным суждением. «Gott/qeoV» есть психический феномен, ноэма. Более того, это не простая ноэма, но сама ноэтическая парадигма. В представлении «Gott» мы видим «взывание, обращенное от (человека) к …». Но если то, от чего взывание, более или менее дано западноевропейскому человеку, помещено в его Dasein, то к чему направлен интенциональный акт, неизвестно и не требует уточнения; в нем гораздо важнее то, что он направлен и что он направлен к. Обращаясь к Gott, европеец утверждает свою интенциональность в максимально чистой и общей форме. Gott – это «дух духов», чистый дух, имманентный и трансцендентный одновременно, так как взывание не отрывается от взывающего, но не достигает взываемого в силу того, что его денотат совпадает только с направлением как с намерением. Gott – это чистое «к». Имманентность Gott ответственна за его антропоморфные черты. Нуменозный ужас, с которым взывает взывающий, обобщает свойства чистого объекта, полностью Другого.
Точно так же дело обстоит и с qeoV. Он пребывает на том конце огненного жертвоприношения. Здесь аллатив выражен не в зове, не в восклицании, но в действии жертвоприношения. Это тоже чисто интенциональный акт. Жертвенный огонь пожирает мясо священного животного. Это животное отправлено от (человека, жреца) к. Но Тот, к Кому оно отправлено, не ест мяса, не появляется, не вдыхает аромата жирной пищи. Он не приходит и не является. Он не огонь, не человек, не зверь. Он -- на том конце жертвоприношения, в дыму костра. Он не дым, но в дыму. И священный дым, который скрывает Того, к Кому обращена жертва, постепенно гипостазируется как qeoV. Снова дух духов, но в темном плотном дыму (89).
Содержание интенционального акта как акта жертвенного и все его фигуры и репрезентации – жрец, жертвенное животное, алтарь, обряды, огонь, жесты, восклицания – все это также могло бы быть гипостазировано (как pur – огонь -- у Гераклита), но «не в этом Господь»(90). Он укутан «дымом».
Такова матрица отношений западноевропейского человека с «Божественным». В этом направлении и строится сложный и запутанный диалог смертных с бессмертными. Но все возможные сценарии заведомо заложены в структуру базового интенционального акта. Так западноевропейский человек конституирует Дух, такова его феноменология. В такой ситуации, действительно, не важно много ли «богов» или Он один. Один Он как базовый и абсолютно неизменный сценарий интенционального акта. Множество – как множество самих актов. В этом смысле люди и боги оказываются связанными между собой неразрывно, и вполне верно подозрение Хайдеггера о том, что «богам» небезразлична способность людей к философствованию. Не напрямую, но с этим связана их собственная судьба.
Философские горизонты светлого Неба
Теперь обратимся к «Deus»'у. Здесь структура интенциональности несколько усложняется. По всей видимости, эксклюзивность данного слова у римлян была связана с целой серией серьезных культурных трансформаций. «Deus» – «светлое небо» («coelum», «ouranoV»), «свет», «солнце», «ясность». Это уже не просто парадигма обобщенного интенционального содержания, не чистое указание на направление, но некая инстанция, некое явление, имеющее более определенный характер. Когда Хайдеггер говорит о тех проблемах, которые возникли вместе с учением Платона об идеях, когда именно зрению и тому, что стоит на той стороне зрительного акта, зримому («idea – дословно, «то, что видимо», «видимость») было отведено центральное место, возможно, он косвенно затрагивает и это гипостазирование света в слове «Deus». Если в Зове (Gott) и (святом/жертвенном) Дыме (qeoV) мы видели чистое «к», но не видели и не могли видеть Того, к Кому это обращено (отсюда и «дух» во всех смыслах -- и с точки зрения этимологии, и с точки зрения легкости и неопределенности), то в Deus'е мы видим само видение и гипостазируем способность к интенции. Я хочу сказать: не является ли слово «Deus» как-то связанным именно с переходом от мифа к философии, от «простого мышления» к науке, от «жизненного мира» к миру рациональному? И сами римляне отличались именно такими – упорядочивающими -- свойствами, и греки, у которых был царем богов ZeuV, выстроили философию.
Если мы знаем, к чему мы обращаемся (пусть это будет «нечто светлое»), то это уже не миф в чистом виде, не интенциональность. Здесь заметны следы суждения и рациональности, а также сам объект такого обращения вполне может оказаться (в дальнейшем) самореферентной метафизической декларацией, прославляющей субъекта. Возможно, в этом угадывается и чистый антропоморфизм, в котором человеческий субъект справляется с вызовом нечеловеческого объекта – пусть окольным путем, ставя над собой и не-собой инстанцию света, трансцендентную, но все же чисто антропоморфную. «Человеческое слишком человеческое», как сказал Ницше (90).
Стрела человеческая
В случае Deus мы несколько отклонились от интенциональности и лучевого вектора направления в отношениях человека с «Божественным» и зафиксировали внимание на новой инстанции – инстанции света. Тем самым мы невольно сместились с оси человек-Божественное и незаметно попали в область Welt(мира?)-Неба, которая располагается на иной оси – Небо-Земля. Этот сбой ориентации не случаен, так как и сам человек (в латыни «homo», производное от «humus») ставится в прямую связь с Землей.
Для человека как выражения Земли симметрично было бы видеть в качестве «бога» Небо и организованный украшенный, раскрашенный мир – mundus (латинское «mundus» – от индоевропейского «*mAnd-», дословно «украшать», «наряжать», как и греческое «kosmoV», имеют значение «красоты», «украшенности»). Но в этом случае мы просто дублируем ось Четверицы.
Будем считать, что наиболее фундаментальным в отношении между смертными и бессмертными, людьми и Божественными являются отношения интенциональности, воплощенной в векторе– от человека к Божественному. Это стрела человеческая. При этом Божественное совпадает с духовным, является духом par excellence.
Хайдеггер в Четверице не видит в этом отношении ничего принципиально неверного и полагает, что дело лишь в аутентичном экзистировании Dasein'а. Если Dasein будет экзистировать аутентично, то тем самым создадутся предпосылки для «возвращения ушедших богов» и для пришествия «последнего бога». Это возвращение будет не доказательством истинности веры, но тончайшим примирением фундаментального интенционального акта – интенционального акта в его чистом виде – со структурой Seyn-бытия. Бог кивнет, проходя мимо человека, и этот «кивок», «намек», «едва различимый жест» («Wink»), станет печатью истины другого Начала философии, самой истины Seyn-бытия. Значит, такая структура отношения человека и Бога не является свойством западноевропейской метафизики, которую Хайдеггер считал законченной, но коренится в самой глубине западноевропейского Dasein'а, который был открыт Хайдеггером в преддверии другого Начала совершенно иной философии.
Иными словами, в аутентичном экзистировании Dasein'а -- то есть в условиях Er-Eignis'а -- произойдет гармонизация осей Небо-Земля и Боги-люди.
Русские как перевернутая структура интенциональности
Мы уже видели, что отношения русского человека к русскому Богу и само русское слово «Бог» структурированы совершенно иначе, нежели в европейском контексте, и в частности, в «Gott» Хайдеггера. И теперь с помощью отступления об интенциональности и «духах» мы можем проанализировать это отличие более детально.
В русском мышлении (νους), в русском «жизненном мире», в русском ноэзисе структуры интенциональности прямо противоположны западноевропейским. Это означает следующее. – В русском контексте стрела интенционального акта направлена не от (человека) к, но от Бога как Наделяющего, как первичного феномена, к. К чему направлена интенциональность русского Бога?
Здесь такая же неопределенность, как и с содержанием интенционального акта в общем случае. Можно быть уверенным только в имманентной для Бога (Наделяющего) ноэме, в Его Духе. Этим Духом является русский народ и, соответственно, русский дазайн. Это только момент Божественной интенциональности, и наверняка, может быть много и иных моментов и иных ноэм, но для русского дазайна это не имеет никакого значения. Он есть как помысленное Богом и пребывающее у Бога, по Его сторону, и этого достаточного.
Под вопросом в такой ситуации оказывается не Бог, как в европейской Четверице, но именно человек, столь безусловный (по умолчанию) для западного Dasein'а. Наличие человека – это суждение, которое может вынести только Бог как проверяющий свои интенциональные акты очевидностью (Evidenz). Очевидно ли наличие человека (как русского человека) или не очевидно, это известно только Ему, и на это даст ответ только Его Суд. Не подлежит сомнению другое – то, что русский народ и русский дазайн существуют в Замысле Бога, в обращении Его наделяющего внимания вовне Его Самого.
Может ли Бог основательно конституировать что-то вне Себя Самого? Будет ли это «вне» обладать хоть каким-то бытием, коль скоро оно окажется по ту сторону Наделяющего? Это может выяснить только Он Сам. С точки зрения философии хаоса, с точки зрения Земли, это возможно, так как у Бога возможно все, но только по-земному – чтобы бытие вне Бога и было вне Бога и не было бы вне Бога. Вот так может быть. Но и это совершенно не проблема человека.
У человека есть только одна проблема – быть русским. То, что он является человеком, недоказуемо. То, что он есть как человек, и далее, как личность, как индивидуум – и это недоказуемо. Он всего лишь гипотеза, доказать которую не его ума дело, дело другого Ума. Единственная достоверность – это феноменологичность русского народа, который есть. Он есть не как объект, а именно как Божья ноэма, как содержание интенционального акта. То есть он есть как «дух». Русский дух (и русские духи) – вот что безусловно есть как выражение фундаментального наличия Наделяющего. И русский человек может быть только через русское в себе, только будучи русским, только в силу своего русского содержания.
Если для западноевропейского человека между ним самим и домом есть lares Domestici, фамильные духи, то для русского человека он сам есть дом, а его русскость – дух дома. Отождествляясь только с человеком в себе, он становится пустым объектом, в котором может поселиться, кто хочет – его никто не охраняет, в нем никто не присутствует. Но отождествляясь с русским, он мыслит и ведет себя как «домовой», он становится «духом», «хозяином», местоблюстителем Того, Кому этот дом принадлежит. В качестве русского русский человек есть «леший», «овинный», «банный», «русалий», то есть «дух» места или вещи, «дух» дома или дороги, «дух» реки или болотца, «дух» леса (леший) или костра (саламандра) -- одним словом «дух» земли.
Человечность в русском человеке пуста, гипотетична, ничтожна. Ее вообще нет, она номинальна. Русский человек приобретает значение только в призрачном мире русского сновидения, в пространстве, в грезах хоры, в своем небытии.
Поэтому ось люди-Бог в Четверице, понятой по-русски, выглядит совершенно иначе, нежели у Хайдеггера. Для русских нет ни первого, ни последнего «бога», нет его «кивка», нет его тонкого «мимохождения». Русские не зовут, они позваны. Они не приносят жертвы – они принесены в жертву, они и есть жертва всесожжения. Они не осуществляют ритуал, они то, к кому этот жертвенный ритуал направлен, обращен. Они и есть дым; они суть дух.
Русские люди пусты. Как люди. А как русские прозрачны.
Четверица русского Начала (теперь известна)
Итак, русская Четверица построена совершенно иначе, чем у Хайдеггера.
Есть Земля. Она все. Она живет. Она духовным влажным телом своим есть.
Есть Бог. Он наделяет все всем. И не оскудевает от этого. И все наполняется Им, и радуется или грустит. Бог мыслит и говорит, и видит сны, и Его мысли и слова, Его шепот, Его сны становятся волнами вещей и людей и снова возвращаются к Нему. Бог, как и Земля, все берет в Себя, ничего не отбрасывает. Ему жалко всех – и удачных, и не удачных, и получившихся, и оступившихся. И неудачных и оступившихся ему жальче всего. Ему жалко небытие и жалко человека, поэтому Он греет небытие у Себя в ладонях и дает человеку спелое яблоко. Бог русских добр и помнит только хорошее.
Есть русский народ. Он живет на русской Земле. Он живет в русской Земле. Он живет русской Землей. Он настолько Ее, что не есть сам, но есть Она. В русском народе пребывает Бог. Бог сидит в русском народе, как в кресле. Он любит сидеть в кресле. И русские любят, когда на них давит великая сила русского Бога.
А еще есть Мгла и Туман. Это – nebula, Nebel, русское Небо. Они надежно покрывают русских – ни от кого: там, за стеной тумана, никого нет – просто так, на всякий случай. Иногда, когда вихри темного тумана начинают виться и накладываться друг на друга, кажется, что родные болота выходят из берегов и чем-то тревожатся. Тогда мы различаем в буре полет мохнатых идей, озаренных красным отблеском уютного домашнего огня. Идеи – это тени русских тел, прокладывающих себе свой неспешный путь от несуществующего начала к несуществующему концу.
Такова Четверица другого Начала, русского Начала, того Начала, которое не начиналось и не кончалось, которое просто было неизвестно, а теперь известно.
Другое Начало, по Хайдеггеру
В первом томе мы подробно рассматривали, как понимает другое Начало сам Хайдеггер. Теперь мы вполне можем соотнести это Начало с западноевропейским Dasein'ом и его особенностями, раз нам удалось осуществить -- в общих чертах и пока довольно приблизительно -- экзистенциальную аналитику русского дазайна.
Сам Хайдеггер подчеркивает, что другое Начало имеет смысл и содержание именно для Запада, так как его культура и философия первыми вступили на путь Gestell, который привел к вскрытию ничто (европейский нигилизм, обнаруженный Ницше). По мысли Хайдеггера, осмысление этого пути и открытие в нем его seynsgeschichtliche измерения могут быть внятны только Западу, который и призван осуществить на его основании радикальный шаг – шаг к другому Началу. Это и есть суть Решения (Entscheidung), которое должно произвести «европейское человечество».
Другое Начало -- это построение радикально новой философии, по своим основным параметрам отличной от всей западноевропейской философии, известной от досократиков до наших дней. Ее «новизна» состоит в том, что она будет основываться на Dasein'е и строиться изначально как фундаменталь-онтология, как онто-онтология, в которой ни на одном этапе структурирования рассудка не будет упущена из виду его основа – онтичность, «жизненный мир», корневые экзистенциалы Dasein'а.
Другое Начало философии -- это момент наступления будущего, переключения Dasein'а в режим аутентичного экзистирования со всеми сопутствующими переключениями экзистенциалов, начиная с утверждения Selbst Dasein'а как его «я». Это и есть Er-Eignis.
Так или иначе, мы описали это в первом томе нашего исследования (92).
Теперь мы можем внести в другое Начало существенное уточнение. Когда Хайдеггер говорит о другом Начале, он имеет в виду не только то, что предпосылкой для него является полноценное соучастие в западноевропейской судьбе (Seynsgeschichte) и переосмысление ее содержания на основании этого соучастия, но и то, что другое Начало будет иметь прямое отношение именно к европейскому Dasein'у и развертываться на его основе.
Не выявив феноменологию русского дазайна, мы не могли ясно истолковать это последнее соображение, так как вопрос об универсальности Dasein'а оставался открытым. Можно было интерпретировать Хайдеггера в том смысле, что Dasein, о котором он говорит, является всеобщим и универсальным, но лишь его судьба является западной, и в этом случае для незападных или не совсем западных культур остается перспектива соучастия в этом другом Начале.
Уточнение относительно геофилософской(93) локализации западного Dasein'а в его сопоставлении с дазайном русским, показывает, что, если Хайдеггер и мыслит другое Начало как нечто универсальное, то он соотносит эту универсальность с исключительно с собственным европейским взглядом. Другое Начало описано Хайдеггером в европейской оптике, это европейский взгляд на другое Начало, и в каком-то смысле – европейское другое Начало. Коль скоро русский дазайн и Четверица, увиденная русским взглядом, фундаментально отличаются от той картины, которую дает нам Хайдеггер, причем в самых корневых экзистенциальных пластах, то мы вправе поставить вопрос о том, как видит другое Начало русский дазайн или, еще радикальнее, видит ли он его вообще?
Место русских в другом Начале
Если рассмотреть ситуацию мягко и признать за другим Началом определенную универсальность, то в этом случае, как мы видели из фрагмента, где Хайдеггер говорил о «русскости» в контексте Земли, и о «немецкости» в контексте Неба/Welt(мира?), можно предположить два взгляда на него --- европейский (=немецкий, так как Германия, по мысли Хайдеггера, отвечает за Европу в метафизическом смысле), с позиции Неба/Welt(мира?), и русский, с позиции Земли. В этом случае другое Начало могло бы быть помыслено как содержательный диалог двух философий – фундаменталь-онтологической философии, построенной на Хайдеггере в проекте другого Начала, и философии хаоса, философии хоры, основанной на более четком и систематическом выведении всех следствий из тех предпосылок, которые мы наметили применительно к структурам русского мышления и его особенностям. Обе они были бы новаторскими во всех смыслах и представляли бы собой «новые Небеса» (постхайдеггерианскую фундаменталь-онтологию) и «новую Землю» (русского Начала, освобожденного от археомодерна).
Таким образом, Er-Eignis представлял бы собой философскую динамику наложения взгляда Неба и взгляда Земли на содержание их борьбы/любви, их войны/мира.
В центре между ними мы могли бы локализовать собственно «вот-бытие», которое в обоих случаях толковалось бы в различных перспективах: со стороны Земли мы имели бы русский дазайн, со стороны Неба – Dasein европейский. Поэтому другое Начало в такой ситуации было бы столкновением двух чистых экзистенциальных стихий, двух изводов бытия, в которых оно само и его противоположность (небытие) были бы расположены и соотнесены между собой совершенно иначе, но в любом случае – совсем не так, как это было в западноевропейской метафизике первого Начала.
Чем был бы в этом случае европейский Er-Eignis, мы вполне можем себе представить – это синхронное повторение западноевропейским человечеством того витка, который привел – через феноменологию, психологию, философию языка – к Хайдеггеру и озарению Dasein'ом, и выбор в пользу аутентичного экзистирования со стороны голографической для всего западного общества в целом интеллектуальной элиты. То, что этого не произошло при жизни Хайдеггера, и то, что сегодня мы не видим на Западе ни малейшего движения в этом направлении, не должно сбивать нас с толку. Если Хайдеггер верно распознал структуру Seynsgeschichte Запада, это не может пройти бесследно для нее самой. Видимости могут убеждать нас в том, что это оказалось изолированной и не подхваченной индивидуальной инициативой, но если эта инициатива коснулась сути судьбы, она не может не сбыться. Тем более, что в ХХ веке – хотя и в ужасающем и во многом пародийном виде – она чуть было не сбылась, и сам Хайдеггер прекрасно осознавал всю близость к Ereignis'у и всю дистанцию от него исторического момента, в котором он жил, мыслил и принимал участие.
Суррогат Er-Eignis'а в русской истории. Предчувствие
Но что было бы аналогом Er-Eignis'а для русского народа? Русский Er-Eignis – это момент сбрасывания с русского начала бремени археомодерна, освободительный миг Революции, в котором народ сбросил бы тяжесть, давящей на него веками западноевропейской свалки – в первую очередь, в лице прозападных элит. Совершенно очевидно, что нечто подобное – великое Предчувствие – висело в воздухе в конце XIX – начале XX вв. накануне Октябрьской революции. Внутренние силы народа копились, сбирались, готовились к тому, чтобы выбраться на поверхность. С этим связаны и основные силовые линии в трудах русских философов, которые мы в начале этой книги квалифицировали как археомодернистскую невнятицу, но которые по мере их соотнесения с вычлененными нами экзистенциалами русского дазайна все более обнаруживают свое русское содержание. Великое Предчувствие явно проступает в русской поэзии Серебряного века (Блок, Белый, Волошин, Брюсов, Кузьмин, Иванов, Хлебников, Маяковский, Гумилев) и особенно в крестьянской поэзии (Есенин, Клюев). Это было предчувствие Er-Eignisa -- Начала, которое вот-вот должно было начаться. И оно, в каком-то смысле, началось в революции – в сметении старых политических и культурных структур романовской России (как воплощения прежней версии археомодерна). Послереволюционный цикл стихов Клюева, романы и повести Андрея Платонова дают нам безошибочную картину того, как большевистская революция и коммунизм сознавались (по крайней мере, на первых этапах) наиболее вдохновенными и глубокими представителями русского народа. Желание освободиться от археомодерна и готовность к этому были налицо, но марксистская догматика, навязанная большевиками, скоро дала о себе знать, и вместо полноценного русского Er-Eignis'а мы получили новое издание археомодерна. Поэтому и в случае русского дазайна мы вполне можем себе представить, как могло бы или должно было бы проходить «сбывание» великого Предчувствия, даже если его исторические формы были поддельны и неаутентичны. В целом же картина получается довольно симметричная: в ХХ веке другое Начало и дало о себе знать, и, одновременно, было спародировано, карикатуризировано и «подделано» в Европе (национал-социализм) и в России (большевизм).
Из этого наблюдения можно сделать два вывода: отрицательный и положительный. Отрицательный заключается в констатации, что Предчувствие было обмануто, Начало не началось, Er-Eignis'а не произошло, а вместо этого произошло нечто иное. А положительный вывод состоит в том, что заходы на Er-Eignis и в случае Германии (Welt), и в случае России (Земля) были весьма внушительны, серьезны и основательны – так, что их отголоски в политике, идеологии, экономике, мировоззрении составили основное содержание истории ХХ столетия.
Событие не сбылось, Начало не началось. Но Событие сбывалось, а Начало начиналось. В этом отношении мы отныне должны иметь дело именно с таким «положением дел». Сбывалось – значит, могло сбыться, начало сбываться, но не сбылось. Начиналось: могло начаться, начало начинаться, но не началось. Причем почти синхронно и со стороны Неба (Deutschland), и со стороны Земли (Russland, Russentum). Было даже их столкновение в виде двух идеологически и политически враждебных держав, что –в искаженном и пародийном виде – представляло собой геоураномахию, войну Неба и Земли.
Сегодня мы можем взвесить эти повороты истории ХХ века в философском контексте. Мы видим искаженные и слишком поспешные, предварительные, абортивные проявления того, что могло бы быть, но чего не случилось. Если мы сосредоточимся только на бывшей, но упущенной возможности, и проанализируем внимательно контекст, не позволивший этой возможности реализоваться, мы можем извлечь для себя ценнейшие выводы – не только в ретроспективном, но и в перспективном смысле.
Er-Eignis: взгляд Земли
Пока мы говорили о другом Начале только с позиции Неба и Земли в Четверице, и исходя из той гипотезы, что Er-Eignis может быть воспринят как нечто универсальное, хотя и рассмотрен с двух сторон. Однако мы совсем не затронули вторую ось Четверицы – люди-боги. И здесь мы оказываемся в иной, несколько более сложной ситуации. С одной стороны, обратная симметрия между стрелой интенциональности человек-Gott/qeoz в западноевропейском Dasein'е и Бог-(русский) человек в русском дазайне показывает нам очень схожую картину. Но столь фундаментальное различие антропологических перспектив не позволяет нам все же говорить о какой-то общности Четверицы, что можно было при определенных поправках сделать при рассмотрении первой оси – Небо-Земля. Да, как и в предыдущем случае, мы имеем дело с наложением друг на друга двух изданий вот-бытия как двух «духов», двух «ноэзисов», двух «интенциональных актов». Европейский «дух», европейский «призрак», Spuk -- помещен между человеком и Gott/qeoz, но имманентно человеку. Русский же дух, русский «призрак» (домовой, леший), также помещенный между Богом и человеком, имманентен Богу. Оба духа конституируют «вот-бытие», но не одно, а два, причем устроенных радикально противоположным образом. Европейский Dasein помещен на границе между одним и другим, а русский дазайн – на границе между одним и тем же самым. Как следствие из этого мы имеем: голографическую антропологию Запада и всенародную антропологию русских (дазайн=народ, а индивидуум неголографичен ни другому индивидууму, ни всем вместе, ни обществу). Это не просто различие в деталях, это различие глубинных природ. Вот с этой точки зрения, мы обнаруживаем, что Er-Eignis не имеет одинакового значения для европейцев и для русских. Для Запада и его Seynsgeschichte – это переломный момент, это вопрос «быть или не быть», так как сам западный Dasein стоит на острие этого вопроса, на острие выбора, на острие между бытием и не бытием, и Er-Eignis для него, есть окончательное решение этого вопроса в пользу быть, причем быть так, чтобы этот вопрос со всей остротой больше бы не стоял. Это и есть ставка фундаменталь-онтологии и бездонная глубина западного выбора (Entscheidung). Вся структура европейского интенционального акта, западного «жизненного мира» построена на этом. Er-Eignis – резкое и бесповоротное выздоровление. Промедление – «noch nict» («не сейчас») – чревато гибелью в бездне ничто.
Но так ли принципиально это для русского дазайна? Ведь по своей природе он не стоит на границе между тем и этим, он гораздо более укоренен, так как имманентен не «зовущему» его в Зове, но Наделяющему – Богу. Вопрос Er-Eignis'а не стоит для него столь остро: быть или не быть – не русский вопрос (датский, германский, европейский). Быть и не быть помещаются вместе, и в этом нет никакой драмы. Есть русский народ как дух, как мысль Бога. И ничто и никогда не сможет это отменить, так как нет ничего, кроме Наделяющего. Небытие включено в бытие, есть его идеовариация. Конструктивный характер небытия, ничтожности, русский человек может испытать на опыте: он сам – как человек – ничтожен и не есть сам по себе, но от этого больших проблем не возникает. Как русский он наделен бытием от Наделяющего, и всегда мгновенно может решить все трудности ношения небытия (своей нигилистичности) обращением к своей русскости. Конечно, у русского начала есть одна небольшая трудность – это археомодерн, вектор народно-освободительной борьбы против «модерна», «модернизации», западного герменевтического круга. Археомодерн – несомненно болезнь, и русский народ очень заинтересован в том, чтобы вылечиться и стать здоровым. Но… при всей этой заинтересованности и при всей силе Предчувствия как предчувствия выздоровления, Er-Eignis для русского человека и отдаленно не представляет собой того решения, той решительности, которую он имеет для европейского Dasein'а, достигшего сегодня точки полуночи.
Для Запада все предельно остро: либо Er-Eignis, либо все пропало. Для русских и отдаленно не так. При всей отвратительности и неприятности археомодерна, он не может быть смертелен, а если он и будет смертелен, то только для его бацилл, для его вирусов, для его закоренелых носителей. Суть русского народа и русского дазайна, его «дух» (во всех смыслах) не может быть затронут историей и ее ходом, так как он не просто внеисторичен, то есть еще не историчен, но по определению лежит вне истории, не во времени, но в хоре, в пространстве, в хаосе. Er-Eignis поэтому с точки зрения человеческой, с точки зрения оси между человеком и Богом, не является для русских чем-то единственно насущным. И когда мы говорим об Er-Eignis'е, то становимся на точку зрения именно западного человека, шире, западного Dasein'а. В этой зоне мы не наблюдаем той симметрии, которую встретили в Четверице на оси Небо-Земля. Отношения между человеческим и Божественным в западном и русском контекстах настолько различны, что их совмещение в одном моменте – в пункте Er-Eignis'а – либо маловероятно, либо чисто случайно. Излечение Запада от себя самого и излечение русских от западного влияния по своим фундаментальным основаниям никак между собой не связаны. Структура русского бытия и возможность русской философии закончены и самостоятельны, диалогальность в них акцидентальна. Быть может, полное излечение западного Dasein'а могло бы быть обретено в переходе на русскую сторону, но и это не проблема русских. И уж точно, каким бы путем ни пошел Запад – в другое Начало или в бесконечный конец нигилизма (современный постмодерн) – в контексте археомодерна он будет подпитывать собой полюс, сдерживающий становление русской философии, ее открытие, ее обнаружение.
Значение Er-Eignis'а для возможной русской философии
Взгляд на Четверицу со стороны оси люди-боги показывает, что другое Начало для русских может иметь совершенно иной смысл и иное место в общем контексте, нежели для европейцев. Допуская симметрию и связь в Четверице, увиденные европейскими и русскими глазами, и считая возможным момент совпадения между Er-Eignis'ом Запада и его аналогом у русских (исцеление от археомодерна), мы не можем признать равную необходимость и их насущную остроту в двух рассматриваемых нами контекстах.
Для Запада другое Начало означает «быть или не быть». Для русских оно же означает «быть или быть», то есть Начало уже началось, то есть все время начинается. Начало у русских помещено не во время, а в пространство, и «событие» происходит пространственно. Это значит, что оно уже есть, уже сбылось, уже имеется, уже находится где-то, но просто мы его там, где оно находится, не обнаружили, до него не докопались, на него не наткнулись. Но будучи ничтожными, русские люди и не имеют шансов найти это Начало как люди, а как народ они не могут его потерять, не могут его не иметь, не могут не быть им. Не случайно с самого начало мы говорили в археомодерне о русском Начале как о arch. Русское arch это то, что всегда начинается, вечно начинается, не прекращая начинаться. Но это начало не порождает истории, не конституирует Geschichte, не развертывается в истории философии, потому что оно выражает пространство, одновременность, вечность и пребывает в особой философии, исключающей историю как таковую – в философии хаоса, в философии хоры.
Другое Начало центрально для западноевропейской философии. Для русской оно возможно как игровое пересечение темпоральной игры отражений в вечной стране зеркал. Это пересечение будет событием (Er-Eignis) для Запада, но вечным сбыванием для русских. В нем ничего не решится, все решается и решилось само по себе – в структуре интенциональных актов Наделяющего. Отсюда и различия европейской и русской эсхатологии: Запад идет к чему-то, что является целью пути; русские несут навсегда достигнутую цель в самих себе по пути в никуда, и конец (escaton) здесь строго совпадает с началом. Русский эсхатологизм не связан с «происшествием» (Er-Eignis), помещенным во время (Zeit). Zeit для русских не существует, а вращающееся веретено времени движется вокруг неподвижной точки, где конец совпадает с Началом. И для русских не может быть, строго говоря, «другого» Начало. У них есть только одно – русское Начало.
Окинуть взглядом выводы
Сейчас можно оглянуться назад и подвести промежуточный итог нашей работе, чтобы двинуться дальше. Итак, что мы получили в ходе нашего исследования?
Оперируя с философией Хайдеггера и, в первую очередь, с его экзистенциальной аналитикой Dasein'а, нам удалось прийти к ряду фундаментальных выводов о структуре русского Начала, скованного в обычном состоянии принудительной двусмысленностью археомодерна и его герменевтического эллипса. Хайдеггер имел дело с завершившейся западноевропейской философией и выделял из нее ее основание – Dasein. Подключившись к его мысли именно на этом этапе, мы получили уникальную историческую возможность строго отслоить герменевтический круг этой философии, создав ситуацию, в которой стало возможно обратиться к русскому Началу, к русскому arch напрямую. Далее, на основании все той же хайдеггеровской философии мы попробовали применить его метод экзистенциальной аналитике, к тому, что мы предварительно и гипотетически назвали «русским дазайном». Эта процедура дала нам феноменологию русского Начала, которую мы попытались по аналогии с хайдеггеровским методом привести к общей структуре. Так мы получили описание «русского дазайна» и его экзистенциалов.
В ходе выявления этой структуры мы заметили существенные различия с Dasein'ом европейским. Это позволило предпринять экзистенциальную аналитику археомодерна уже не с позиций противопоставления фрагментарно-осколочных и периферийных моментов западноевропейской философии и смутных и интуитивно воспринимаемых очертаний гипотетического русского Начала, на первых этапах обнаруживавшегося лишь через свои «подрывные стратегии» и «деструктивные тенденции» в отношении западноевропейских систем. Теперь мы получили возможность соотнести одно -- европейское --«вот-бытие» с другим, русским, и выяснить ряд различий между ними.
Некоторые из этих различий подвели нас к чрезвычайно важным выводам: эти две версии «вот-бытия» фундаментально различаются в своих наиболее существенных аспектах. Через это глубинное экзистенциальное измерение мы смогли объяснить структуру западноевропейской философии, причину и предпосылки ее возникновения и одновременно, понять, почему философии не возникло в России и почему русский дазайн не последовал по пути аналогичному западноевропейскому Dasein'у.
Параллельно этому мы выяснили особенность локализации русского дазайна (в русском народе) и специфику его соотношения с антропологическими установками. Вместе с тем нам удалось определить и описать особенности отношение русского дазайна с бытием, причем эти особенности обнаружились в значительной мере как глубинные основания в различии Dasein'а европейского и дазайна русского.
Далее мы продолжили исследование русского дазайна в области хайдеггеровского описания Четверицы и ее роли в другом Начале. В исследовании русского отношения к Четверице мы все дальше и дальше отклонялись от Хайдеггера и уточняли структуры русского мышления и особенности русского восприятия мира, языка, народа. В ходе этого исследования Четверицы мы почти вплотную подошли к ответу на главный вопрос данной работы: к обоснованию возможности русской философии. В области, связанной с тематикой хоры и хаоса, мы, по сути, наткнулись на то, чем могла бы быть русская философия, если бы ей суждено было состояться, и чем она может стать – при том же условии, помещенном в настоящем и в будущем. Философия хаоса стала для нас той областью, где на основании особенностей русского дазайна мы могли бы построить собственно русскую структуру философствования.
Другим важнейшим моментом стало обнаружение обратной симметрии в оси человек-Бог у Хайдеггера, с одной стороны, и в русском контексте, с другой, что наметило граничные условия собственно русской антропологии и русской теологии.
Осталось соотнести то и другое между собой, и мы можем не только обосновать возможность русской философии, но и предложить в зародыше набросок ее эмбриональной структуры.
И, наконец, сопоставив другое Начало Хайдеггера и русское Начало, а также соотнеся между собой хайдеггеровский Er-Eignis и его аналог в русском контексте, мы пришли к выводу о свободном и недетерминированном соотношении их между собою, что открыло нам перспективу спокойного и безотносительного к каким-либо факторам подступа к этому Началу.
Два основания возможной русской философии
В окрестностях возможности русской философии мы имеем два фундаментальных утверждениях:
1) русский дазайн (русское мышление, русский nouz, русский «жизненный мир», русская интенциональность) есть выражение границы между этим и этим же, между тем же самым и в этом заключается его суть;
2) отношение человека к Богу в русском Начале строится на понимании:
- Бога (Наделяющего) как интенционально мыслящего,
- русского дазайна как «ноэмы», «содержания интенционального акта» (имманентного мышлению Бога),
- человека как проблематичной гипотезы, подлежащей вынесению суждения со стороны какой-то инстанции, относящейся к самому Богу, но инаковой по отношению к Его мышлению.
Между этими двумя утверждениями есть определенный диссонанс. В первом случае обе области, находящиеся по сторонам от самого движения разделения (различения = мышления, ноэзиса), оказываются взаимозаменяемыми, на чем основывается принципиальная взаимозаменяемость обозначающего и обозначаемого в процессе мышления, свойственного русскому дазайну. Во втором – мы имеем неравновесный вектор соотношения человек-Бог, где стрела интенциональности направлена строго от Бога к человеку. Поэтому русский дазайн, находящийся на этой стреле как «содержание интенционального акта» в сфере божественной феноменологии, оказывается в ситуации неравновесной – с одной стороны от него Бог, с другой – гипотеза человека или ничто. Обе эти позиции фундаментально отличаются от структуры европейского Dasein'а, но отличаются по-разному, совмещая в себе обе возможности построения экзистенциальной структуры, отличной от него. Хотя алогичность и противоречия не должны нас ни в коем случае останавливать в наших поисках возможности русской философии, и их было не мало и на предыдущих этапах исследования, возможно, сведение этих двух перспектив подведет нас к самому главному.
Достоверность существования именно философии хаоса
Здесь стоит вновь спросить себя: почему мы употребили раньше выражение «философия хаоса», говоря о мышлении, основанном на равнозначности, взаимозаменяемости того, что лежит по обе границы разделяющей инстанции (хоры). Употребление имени «хаос» здесь вполне уместно и это было объяснено, но почему «философия»? Философия отличается от мышления тем, что конституирует ту инстанцию, то «место», тот метафизический этаж, с которого мы можем взглянуть на это мышление и на мыслящего, а заодно и на то, о чем мыслящее мыслит, со стороны, причем с такой стороны, с какой мы можем увидеть и внутреннее, и внешнее с полной достоверностью и с такой же достоверностью произвести суждение о том, как одно с другим сочетается, более того, как и то и другое есть. Это логос Гераклита, его «Мудрое» (to sofon). Про философию досократиков, Платона и Аристотеля и весь дальнейший ее путь нам все понятно на основе Хайдеггера. Но как соотносится философия – взгляд на мышление, мыслящее и мыслимое -- с трансцендентной позиции (Логоса, Зевса, Идеи, Единого, субъекта или рассудка – не важно) – с мышлением в структуре хаоса, где мыслимое и мыслящее строго взаимозаменяемы? Откуда мы смотрим на хаос, если хаос претендует на полную инклюзивность?
А если мы смотрим на хаос из самого хаоса, то как мы можем говорить о философии? Как мы можем быть уверенными, что корректно описали мышление (различение) и его стороны? Ведь только это может называться «философией»?
Ответ лежит во внимательном рассмотрении «хаоса». Хаос – это то, что предшествует не просто порядку, но и тому – топологическому – пространству, где можно говорить о последовательности, причем любой: логической, хронологической или генетической. Как только мы делаем допущение, что «хаос» есть, мы получаем не просто момент «предшествования» порядку, но ту инстанцию, которая включает в себя все моменты последовательности – предшествование, наличие и горизонт будущего. И снова во всех трех смыслах – в логическом, хронологическом и генетическом. Хаос есть предшествование лишь в том смысле, что он есть как сам он и только как сам он в предшествовании порядку, а в порядке он есть и как сам он и не только как сам он, а и как не сам он. В порядке хаос есть иначе, нежели вне порядка, то есть в самом себе. В порядке хаос есть:
- как сам он – как хаос (поскольку, предшествуя порядку, он никуда не девается)
- как пред-порядок (так порядок видит то, что было до него)
- как не-порядок (так порядок видит его, сравнивая с собой хаос в моменте настоящего)
- как пост-порядок (подозревая, что если он – будучи вечным – все же кончится, то его антипод начнется).
Но раз хаос и в порядке есть как хаос, то логос/порядок он не просто отрицает (это логос/порядок отрицает хаос, а хаос не отрицает логос/порядок), но утверждает, включая в себя. Поступая так, хаос не только есть как сам он, но еще он есть как не сам он, и следовательно, будучи не самим собой, он имеет дистанцию по отношению к самому себе. А это и значит, что в нем самом – в горизонте своего собственного отрицания через порядок/логос – содержится пространство для взгляда на себя со стороны, то есть искомое метафизическое место.
Однако это место, будучи трансцендентным для хаоса, есть нечто имманентное ему. В любом случае он имеет инстанцию, с позиций которой ему открывается картина себя как мышления. И эта инстанция и есть исток именно «философии хаоса», это особый «логос хаос», через который он мыслит о себе и о том, как он мыслит. Благодаря этому хаос начинает говорить и возвещает о себе – себе и другим, всем, кто готов это слушать. Хаос через себя говорит о том, что по обе стороны его как границы лежит одно и то же, и сам и не сам, а через порядок он повествует о заключенном в нем самом своем же собственном отрицании. Тем самым хаос учреждает свою философию, делает возможным ее аппарат, набрасывает ее таксономии, обосновывает ее методы, подготавливает ее аксиоматику, закладывает фундамент ее структур.
Имея философию хаоса, мы, опознав локализацию русского дазайна, обосновываем возможность русской философии. Следовательно, мы и на предыдущем этапе не ошиблись, употребив именно имя «философия». Теперь значение этого не простого слова стало для нас более внятным применительно к этому случаю.
Пересечение русской философии и русской теологии
Но как быть с отношением человека к Богу, обнаруженному нами в Четверице, увиденной русским взглядом? Вписывается ли оно в эту философию хаоса, ведь оно противоречит своей неравновесностью взаимозаменяемой симметрии хаотического мышления? Или это совершенно особенная область, которую надо вынести в раздел русской теологии, особой русской антропологии или русской гносеологии, вне всякой связи с философией хаоса?
В принципе, можно было бы поступить и так, обосновав две непересекающиеся сферы – русскую философию и русскую теологию, основанные на разных симметриях, но феноменологически обоснованных корректным экзистенциальным анализом. И быть может, так было бы правильнее. Более того, быть может, в конце концов, мы к этому и придем. Но все же нет оснований для того, чтобы отказаться от попытки совместить две эти модели в обобщающей картине. Попробуем.
Для этого нам придется ввести «стереоскопическую» топику, представив себе русский дазайн расположенным на двух пересекающихся плоскостях или областях. Конечно, в пространстве философского процесса геометрические образы (симметрия плоскость, прямая, пересечение) суть метафоры. Но вот какую картину мы получаем.
 |
Схема 11. Стереоскопическая схема русского дазайна в философской оптике хаоса и теологической оптике Наделяющего
Схема 11 показывает как вертикаль интенционального акта Наделяющего, достигая линии хаоса, конституирует один дазайн, за которым по обе стороны линии хаоса конституируются две гипотезы человека. Полная неопределенность в отношении того, куда поместить человека -- в Это или в Это, но с одной или с другой стороны от линии хаоса? – заставляют поставить его локализацию под вопрос и на всякий случай зарезервировать для него два места. Но, допустим, что он все же находится на одном из этих мест (хотя сказать на каком – невозможно). Что в таком случае будет находиться на другом? – Мир. Не Welt/Himmel, а русский мир, мир в смысле того, что человеку кажется все же расположенным вокруг него, а не в нем самом. Но мы не уверены и не можем никогда быть уверены, что поместили человека правильно, а не ошиблись. Поэтому мы либо попали в человека, либо промахнулись и попали в мир. И наоборот: вдруг нам надо было бы точно – указать на мир, на природу, скажем, и продемонстрировать ее остенсивную наглядность. Велик был шанс, что мы ошибемся и попадем в человека.
Кто же может вынести суждение? Кто будет философствовать и соотносить одно с другим, чтобы удостовериться – истинно/неистинно, есть/нет? Сам хаос в данном случае нам не поможет, так как он и путает нас. Человек – который сам под вопросом – еще менее пригоден, поскольку мы не знаем, где он и есть ли он вообще, будучи гипотезой, требующей доказательств.
Остается только Наделяющий, Которому и следует вынести суждение – где (с какой стороны от хоры) Это, а где (с какой стороны от хоры) Это? Но Его философия принадлежит Ему Самому и только Ему. Его мышление нас касается, так как учреждает нас как дазайн (если мы русские). Но Его философия, Его суждение, Его суд – слишком далеки от нас, и вероятно, просто не наше дело.
Но не достаточно ли нам знать, что наша человечность гипотетична, как гипотетична ее локализация? И симметрично: не довольно ли нам знать, что гипотетичен мир и его локализация тоже? Тем более у нас есть нечто, что негипотетично и, напротив, экзистирует фактически – это наш дазайн и, что не менее важно, философия хаоса.
Этого более, чем достаточно, так как позволяет философствовать вполне достоверно практически обо всем, равно как позволяет экзистировать и быть. Да, в отношении человека и природы мы будем вынуждены смириться с неуверенностью и неопределенностью, но зато все остальное будет кристально ясно.
Хотя мы несколько форсировали ситуацию и не удержались от сведения двух фундаментальных подходов к русскому дазайну в одну модель, – со многих точек зрения чрезвычайно ревелятивную и заслуживающую многократного осмысления по процедуре герменевтического круга, – все же один шаг мы делать не будем: мы не станем соотносить Наделяющего с хаосом/хорой. Таким образом, мы все же исполним желание оставить в этой базовой картине некоторую недоговоренность.
Здесь вполне уместно будет снова вспомнить о высказывании Гераклита «Логос (to sofon) любит и не любит называться Зевсом». Является здесь ли Наделяющий именно Тем, Кто обеспечивает хаосу возможность философствования или не является («не любит или любит называться «Зевсом»»), пусть остается вопросом открытым. И наряду с самобытной русской философией – как философией хаоса – мы зарезервируем место для русской теологии. Если же когда-то они сойдутся более плотно и более внятно, это станет гигантским оглушительным взрывом, предвосхищать который трескучими хлопками нет нужды.
Примечания
(1) См. об этом соотношении подробнее первый том Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
(2) Гуссерль Э. Логические исследования. Том I: Пролегомены к чистой логике / Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
(3) Там же.
(4) Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию / Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
(5) Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. М.: Изд-во МГУ, 1980.
(6) См. в первую очередь Levy-Strausse C. La Pensée sauvage. Paris: Plon, 1962, а также Idem. Les Structures élémentaires de la parenté. La Haye-Paris: Mouton, 1968; Idem. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1958; Idem. Mythologiques, t. I : Le Cru et le cuit. Paris: Plon, 1964; Idem. Mythologiques, t. II : Du miel aux cendres. Paris: Plon, 1967; Idem. Mythologiques, t. III : L'Origine des manières de table. Paris: Plon, 1968; Idem. Mythologiques, t. IV : L'Homme nu. Paris: Plon, 1971; Idem. Anthropologie structurale deux. Paris: Plon, 1973; Idem. La Voie des masques. 2 vol. Paris: Plon, 1979.
(7) Витгенштейн Л. Философские работы части. I-II. М.: Гнозис, 1994.
(8) См. Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М., 1997; Он же. Архетип и символ. М., 1987; Он же. Психология бессознательного. М., 1994; Он же. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996; Он же. Тэвистокские лекции. Киев, 1995.
(9) Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
(10) Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. 1950-59 Gesamtausgabe Bd. 12. Frankfurt am Mein:Vittorio Klosterman, 1985.
(11) Эта тема рассматривается в первом приближении в работе Дугин А. Социология русского общества. М.: Академический проект, 2010. См. также Дугин А. Русская вещь. Т.1-2. М.: Арктогея, 2000.
(12) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
(13) Например, Vallega A. Heidegger and the issue of Space, Pennsylvanya: The Pennsylvania State University Press, 2003; или Raffoul François, Nelson Eric Sean. Rethinking facticity, Albany: State University of New York Press, 2008.
(14) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(15) Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
(16) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(17) Pokorny Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Francke, 1959.
(18) Там же.
(19) Этому соответствует латинское pre-s-entia, entia причастие от esse.
(20) Сравни латинское ab-s-entia.
(21) Аристотель. Метафизика /Аристотель Сочинения. Т. 1, М., 1975.
(22) Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Кн.1. Мир человека, СПб.: Издательство СПбГУ, 2000.
(23) Там же.
(24) Heidegger M. Zein und Zeit. Tubengen, 2006. S. 162
(25) Heidegger М. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffes. F/am Mein, GA 20. S.420
(26) Heidegger M. Zein und Zeit. Op.cit.
(27) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(28) Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955.
(29) Березович Е.Л. Еще раз о русском авось/ Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: Индрик, 2007. С. 333-339.
(30) Там же.
(31) Heidegger M. Logik als Frage nach Wesen der Sprache, GA Bd 38, II Abteilung, Vorlesungen 1919- 1944. Frakfurt an Mein: Vittorio Klostermann, 1998.
(32) Ibidem. С.30-78.
(33) Эту особую логику мы встречаем также в японской культуре и философии, основанных на преемственности буддистской и синтоистской традициям. Так, крупнейший японский философ и исследователь традиции Дзен Дайсецу Тейтаро Судзуки (1870 – 1966) предложил ввести особую логику – soku-hi, что означает по-японски «и есть и нет». Основанная на коанах дзэн-буддизма и обращению к сверхрациональному просвещению (сатори), эта логика исходит из принципа Аравно А и вместе с тем А не равно А. Показательно, что Хайдеггер был знаком с Судзуки и его работами и даже по свидетельству американского философоа Уильяма Баррета говорил о трудах Судзуки: «Если я корректно понял этого человека, то это именно то, что все это время я хотел сказать». Zen Buddhism: Selected Writings of D.T. Suzuki. New York: Doubleday, 1956. Сходные идеи излагает другой крупнейший японский философ Китаро Нишида (1870-1945), разработавший логику bosho или «логику места», которая, в отличие от Аристотелевско логики, не признавала исключительности ни утверждений, ни отрицаний. Идеи Судзуки и Нишиды легли в основу Киотской школы.
(34) Эту же идею о том, что «Ничто есть» Хайдеггер развивает применительно к понятию «мир» в ранней работе «Метафизичсекие основания логики» -- Heidegger M. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1990
(35) См. Heidegger M. Zein und Zeit. Op.cit., и Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(36) Топоров В. Н. Этимологические заметки (славяно–италийские параллели) / Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 25. М., 1958. С. 80.
(37) "Милостивый государь, — начал он почти с торжественностью, — бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это гем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета — порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же — никогда и никто".
(38) Heidegger M. Die Geschichte des Seyns. Fr./M.: P. Trawny, 1998. (GA 69). С. 142.
(39) Vallega A. Heidegger and the issue of Space. Pennsylvanya: The Pennsylvania State University Press, 2003
(40) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(41) Vallega Alejandro. Heidegger and the Issue of Space. Op.cit.
(42) Там же. С. 37.
(43) Kristeva Julia. Revolutions in Poetic Language. NY: Columbia University Press, 1984.
(44) Irigaray Luce. Speculum of the Other Woman. NY: Cornell University Press, 1985.
(45) Derrida Jacques. Khôra. Paris: Galilée, 1993. По-русски Деррида Ж. Эссе об имени. М.-СПб:Алетейя, 1998.
(46) Там же.
(47) Caputo J. D. Love among the Deconsructibles: A Response to Gregg Lambert// Journal for Cultural and Religious Theory. 2004. № 5 (2).
(48) Термин а/теология (иначе «слабая теология») Капуто ввел для описания своей собственной феноменологической и герменевтической доктрины. С его точки зрения, в религии следует различать властный дискурс, приводящий к построению жестких «тоталитарных» теологий, называемых «сильными теологиями», и тонким поэтико-религиозным импульсом, лежащим в основе человеческого начала, который отнюдь не тождественен общей структуре религии и может быть назван «мягкой теологией». См. Caputo, J. D. The Weakness of God: A Theology of the Event. Bloomington: Indiana Unversity Press, 2006; Idem. What would Jesus Deconstruct?: The Good News of Postmodernism for the Church// Baker Academic. 2007. November № 1, а также Caputo, J. D. God, the Gift and Postmodernism/ John D. Caputo and Michael J. Scanlon (eds.). Bloomington: Indiana University Press, 1999. В этом ключе Капуто интерпретировал некоторых постмодернистских авторов и самого Хайдеггера, относя их теории не к атеизму, как это принято делать в конвенциональной истории философии, но именно к «мягкой теологии»; см. его интерпретации в этом ключе Ж.Дерриды Caputo J. D. The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
(49) Caputo, J. D. Love among the Deconsructibles: A Response to Gregg Lambert. Op. cit.
(50) El-Bizri, N. ‘Qui-êtes vous Khôra?’: Receiving Plato’s Timaeus// Existentia Meletai-Sophias. 2001.Vol. XI, Issue 3-4, С. 473-490. См. также El-Bizri, N. ON KAI KHORA: Situating Heidegger between the Sophist and the Timaeus// Studia Phaenomenologica. 2004. Vol. IV, Issue 1-2.С.73-98.
(51) el-Bizri N. The Phenomenological Quest Between Avicenna and Heidegger.Binghamton, N.Y.: Global Publications, SUNY, 2000; Idem. On kai khôra: Situating Heidegger between the Sophist and the Timaeus// Studia Phaenomenologica 2004. № 4. С.73-98.
(52) El-Bizri, N. Ontopoiēsis and the Interpretation of Plato’s Khôra// Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research. 2004. Vol. LXXXIII. С.25-45; Idem. A Phenomenological Account of the Ontological Problem of Space// Existentia Meletai-Sophias 2002. №12. С. 345-364; Idem. Le problème de l'espace: approches optique, géométrique et phénoménologique/ Vescovini Graziella Federici, Rignani Orsola (eds.) Oggetto e spazio. Fenomenologia dell'oggetto, forma e cosa dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani. Firenze: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2008. С. 59-70.
(53) Corbin H. L'homme de lumière dans le soufisme iranien. Р.: Éditions Présence, 1971; Idem. Temps cyclique et gnose ismaélienne. Р., 1982; Idem. Corps spirituel et Terre céleste: de L'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite. Р.: Buchet/Chastel, 1979; Idem. L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabî. Р.: Flammarion, 1977.
(54) El-Bizri N. The Phenomenological Quest Between Avicenna and Heidegger. Binghamton, N.Y.: Global Publications, SUNY, 2000.
(55) Эту темы связи материи и «грезы» в структуре научного мирофоззрения развивает французский философ науки Гастон Башляр см. Bachelard Gaston. La Terre et les rêveries de la volonté : essai sur l'imagination de la matière. P.: J. Corti, 1947; Idem. La Terre et les rêveries du repos : essai sur les images de l'intimité. P.: J. Corti, 1948; и особенно в Bachelard Gaston. La Poétique de l'espace. P.: PUF, 1957; на русском -- Башляр Гастон. Вода и грезы. М., 1998; Он же. Грезы о воздухе. М.,1999.
(56) Именно это и пытается сделать Гастон Башляр, заложив как принцип в основание «новой научной рациональности» и «нового научного духа». См. ссылку 55 и Bachelard Gaston. Le nouvel esprit scientifique. Paris, 1934.
(57) Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.3. М.: Мысль, 1981.
(58) Там же.
(59) Русское слово «зиять» исконно родственно как греческому χαίνειν, откуда χαος, χορα, латинскому hiatus (пробел, пустота), так и германскому gähnen, английскому gape (бездна) и yawn (зевать). Все они восходят к индоевропейскому корню *gheio-, что в ностратической теории, в свою очередь, возводится к *gewV, встречающемуся и в алтайских и уральских языках (протоалтайское *gebo-, протоуральское *kawa-). В русском «зиять» индо-европейский дифтонг «ei» закономерно переходит в долгое «i», а «о» (как затвердевшее «в») дает о себе знать в таких формах как «зеВать».
(60) Fink E. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart, 1960.
(61) Платон. Государство. С. 295-326//Платон Собрание сочинений в 4-х т. Т.3. М.: Мысль, 1994.
(62) См. сноску 59
(63) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(64) Мы пишем «мир» с вопросительным знаком, чтобы подчеркнуть качественное отличие немецкого «Welt» от русского «мир», разобраное нами ранее – при рассмотрении экзистенциалов русского дазайна. Точнее было бы писать «свет» или «космос», но это придало бы тексту вычурность, которая чужда простым и внятным словам, используемым самим Хайдеггером для описания Четверицы.
(65) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(66) Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI-XIX веков. М., 1991
(67) Здесь и далее мы ссылаемся на интернет-ресурс «Вавилонская башня» (http://starling.rinet.ru), созданный выдающимся русским лингвистом Сергеем Анатольевичем Старостиным (1953-2005), который разработал на основании компаративистских методик ряд достоверных ностратических и бореальных этимологий. См. также его монографии Бурлак А.С., Старостин С.А. Введение в сравнительное языкознание. Москва, 2001; Они же. Сравнительно-историческое языкознание. Москва: Academia, 2005.
(68) Heidegger M. Die Geschichte des Seyns. Fr./M.: P. Trawny, 1998. (GA 69). С.108.
(69) Там же. С. 108.
(70) См. Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(71) Heidegger M. Die Geschichte des Seyns. Op. cit. C. 119&
(72) Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 1990.
(73) Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соот ношении с рациональным. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
(74) Pokorny Julius. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Op. cit.
(75) Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 т. М., 1987.
(76) Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове, кн.1., Мир человека. Указ. соч.
(77) Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Москва: Прогресс-Универс, 1995.
(78) Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики.,Москва:Наука, 1989.
(79) Наиболее значительные работы Брентано, где рассматривается проблема интенциональности -- Brentano Franz. Die Lehre vom richtigen Urteil. Bern: Francke, 1956; Idem. Versuch über die Erkenntnis. Leipzig: Meiner, 1925; Idem. Vom sinnlichen und noetischen Bewußtsein. (Psychologie vom empirischen Standpukt, vol. 3). Leipzig: Meiner, 1928; Idem. Wahrheit und Evidenz. Leipzig: Meiner, 1930. На русском языке Брентано Ф. Избранные работы. М., 1996; Он же. Очерк о познании [фрагмент]; письмо к Антону Марти от 17.03.1905; 0б очевидности.[Фрагмент]; письмо к Гуссерлю от 9.01.1905 / Антология мировой философии. Т. 3. М., 1971.
(80) Основные работы Гуссерля на русском: Гуссерль Э. Логические исследования. т. 1. СПб., 1909; Он же. Логические исследования. т. 2. М.Ж ДИК, 2001; Он же. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998; Он же. Собрание сочинений. т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994; Он же. Философия как строгая наука. Новочеркасск: Сагуна, 1994; Он же. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. т. 1. М.: ДИК, 1999; Он же. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб: Владимир Даль, 2004.
(81) Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб: Владимир Даль, 2004.
(82) Дугин А.Г. Эволюция парадигмальных оснований науки. М.: Арктогея центр, 2002.
(83) Weber M. Rationalisierung und entzauberte Welt. Berlin, 1989.
(84) Ницше Ф. Так говорил Заратустра М., 1990.
(85) Stirner Max Der Einzige und sein Eigentum. Berlin, 1924, S. 56.
(86) Эту тему К.Маркс саркастически обыгрывает в «Немецкой идеологии» (Маркс.К.,Энгельс Ф. Сочинения. т. 1, М., 1955) и в наше время своеобразно разбирает Жак Деррида в эссе «Что такое идеология?», вошедшее в книгу Derrida J. Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris: Éditions Galilée, 1993.
(87) Heidegger M. Zein und Zeit. Op. cit.
(88) Деррида в упоминавшемся эссе «Что такое идеология?», сноска 86, справедливо замечает: «Призрак находится и не в голове, и не вне головы». См. Derrida J. Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Op. cit.
(89) Вспомним этимологическую связь индоевропейского корня, общего для «θεος», «дым», «дух».
(90) Библия. Ветхий Завет. Третья книга Царств. Глава 19.
(91) Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. СПб.: Азбука-классика, 2007.
(92) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. Указ. соч.
(93) Там же.
(94) Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический Проект, 2009.
(95) См. Дугин А. Ракитник рыдает о рае//Дугин А. Русская вещь. Т..2, М.: Арктогея, 2000.
(96) См. Дугин А. Магический большевизм Андрея Платонова//Дугин А. Русская вещь. Т.2. Указ. соч.
(97) В определенном смысле именно этой теме посвящена наша работа «Русская вещь». Дугин А. Русская вещь в 2 т. Указ. соч.
Часть 3. Взгляд из родимого хаоса
Глава 13. Русская теология и Православная вера
Греческая и русская линии в Православии
Теперь мы можем в первом приближении рассмотреть довольно тонкую проблему: как русский народ – со своей особой структурой дазайна и, соответственно, имплицитной философией хаоса и особой русской теологией воспринял христианство.
В этом вопросе практически нет внятных и достоверных работ, на которые можно было бы опереться. Единственно, что может служить путеводной нитью – смутно различимое в истории Русской Церкви сосуществование двух линий, одну из которых можно назвать греко-европейской (византийской или «универсалистской»), а другую – собственно русской(1).
Первая линия связана с теми греческими архипастырями и их окружением, которые поставлялись на русскую (вначале Киевскую, потом Московскую) епархию из Константинополя. Вторая -- с собственно русской рецепцией Евангелия, которая имела место в русском народе на основании славянского перевода Священного Писания святыми первоучителями славянскими Кириллом и Мефодием.
Первым знаком такого собственно русского православия можно считать краткий период (1051–1054 гг.) архипастырства митрополита Иллариона, автора «Слова о законе и благодати».
В XV веке в эпоху унии и примыкающей к ней эпохе падения Царьграда русское православие стало отливаться в формулу Москвы-Третьего Рима, через предшествующий отказ от признания легитимности Флорентийского собора, изгнание митрополита Исидора из Москвы и выборы русского архипастыря – митрополита Ионы (прославлен в чине святых) в декабре 1448 года -- без санкции Константинопольского патриархата (с 1448 года отсчитывается история автокефалии Русской Церкви).
После правления Ивана Грозного эта линия увенчалась установлением на Руси патриаршества в 1589 году при Федоре Иоанновиче; первым русским Патриархом стал митрополит Всея Руси Иов. При этом собственно греческое влияние в период XV-XVII веков хотя и ослабло, но полностью не прекратилось, а в конце XVII века вспыхнуло с новой силой в драматических событиях раскола и в последующем отрешении от патриаршества Никона.
Собственно русская составляющая в Православии после раскола в значительной степени переместилась в область старообрядчества и его согласов(2), тогда как официальная новообрядческая церковь – особенно в XVIII веке – уклонилась в сторону европейского западничества, перейдя от грекофильства к филокатоличеству и филопротестантизму под «православными» оболочками. Такие деятели, как Стефан Яворский и Феофан Прокопович иллюстрируют именно эти тенденции. Стефан Яворский находился под влиянием католицизма и иезуитов, а Феофан Прокопович, по сути, толковал Православие в протестантском ключе. Показательно, что при Петре первом также было отменено русское Патриаршество, замененное Синодом под руководством светского чиновника.
Откровенное издевательство над Православием мы видим в обсценном и святотатственном Всешутейшем Всепьянейшем и Сумасброднейшем соборе(3), устроенном Петром, «обряды» и «ритуалы» которого представляли собой масштабное и всенародное поношение православной веры и христианских норм морали.
В XIX веке собственно русские тенденции в Церкви снова нарастали, что вылилось, в конце концов, в появление русских религиозных философов и в восстановлении в начале ХХ века – пусть и в трагических обстоятельствах захвата власти большевиками – русского Патриаршества.
Большевистская революция прервала тонкий процесс нового витка самоосмысления собственно русско-православной тенденции, и в эмиграции снова стали преобладать греко-европейские настроения, которые и стали почти доминирующими после конца коммунизма в начале 1990-х годов, так как богословская мысль в МП РПЦ советского периода едва тлела.
В наше время, однако, русское Православие находится в уникальных исторических условиях, когда давление на нее власти минимально, никаких жестких идеологических установок от лица Государства нет, и Русская Православная Церковь свободна осмыслить свое наследие спокойно, взвешенно и беспристрастно.
Влияние русского Начала на христианство и иррелевантность языческого фактора
В рамках исследования возможности русской философии мы выявили ряд конститутивных экзистенциальных черт и структур, которые позволяют сделать несколько предварительных гипотез относительно философской и богословской матрицы, которая лежала в основе собственно русского Православия или, по меньшей мере, относительно тех моментов, которые отличали греко-европейское прочтение Евангельской Истины от прочтения русского. Иными словами, мы можем попытаться разобрать структуру русского Православия на основании аналитики русского дазайна.
Наша основная посылка состоит в следующем. -- Русский народ, принимая христианство, воспринял его в соответствии со своей внутренней структурой, соответствующей коренной философии хаоса. Именно эта философия, а отнюдь не гипотетически и смутно вычленяемое дохристианское «язычество», было той смысловой решеткой, в соответствии с которой русский народ в Киевский период и позднее воспринял и осмыслил христианство и Священное Писание. Эта русская философия проявилась в русском Православии напрямую – минуя мифологический пласт «язычества», и сама структура философии хаоса показывает, что какой-то промежуточный этап реконструируемой «языческой» мифологии в этом отношении является просто излишним. Если такая мифология и имела место, – а мы знаем обрывочные сведения о ее существовании, – то она была, скорее всего, таким же перетолковыванием заимствованных мотивов и сюжетов из иных контекстов (о чем свидетельствуют скандинавские, прусские и иранские имена божков и идолов Владимирского пантеона в Киеве), причем перетолковыванием на основе строго той же философии хаоса, как и в случае христианства. Поэтому «язычество» не дало бы нам никаких дополнительных сведений о собственно русском Начале, явные и откровенные следы которого мы гораздо точнее, надежнее и достовернее можем фиксировать именно в истории русского православия напрямую – как работу живого и постоянно действующего до сего времени русского духа.
С точки зрения самой христианской доктрины, в такой гипотезе об особом восприятии отдельным народом вселенского православного учения не содержится ничего необычного. Проповедь Евангелия была обращена ко всем языкам и всем народам земли, и каждый народ воспринял ее через свою самобытность. Это запечатлено в чуде Пятидесятницы и говорения на языках. В Сионской горнице на апостолов снизошли огненные языки Святаго Духа, и «один» из этих языков дал возможность избранным ученикам Христовым проповедовать на славянском наречии. Спустя 8 столетий славянские первоучителя Кирилл и Мефодий закрепили это таинство, осуществив богодухновенный перевод Святого Писания на славянский язык. Тем самым было положено начало славянской письменности, славянскому Православию и, что чрезвычайно важно, славянскому философскому мышлению. Не случайно святого Кирилла до принятия монашества называли Константином Философом. Язык славянской Библии стал тем языком, на котором отныне могли бы заговорить и русское богословие и русская философия.
4 множества возможных христианских смыслов
Вместе с переводом на славянский Священного Писания и главных богослужебных книг, а затем и значительной части святоотеческого предания, греческая, греко-европейская, византийская трактовка – заложенная в греческом языке и греческой философской и богословской культуре – переносилась на славянский, в нашем случае, русско-славянский контекст. Если учесть то, что мы сказали об особости русского дазайна, то с необходимостью -- и уже в силу инаковой семантической природы и экзистенциальной структуры славянского языка – этот перенос порождал четыре смысловых множества, так или иначе сопряженных с изначальным христианским посланием, с христианской «керигмой»(4).
1) Первое множество представляло собой констелляцию тех универсальных смыслов, которые были заложены в самой глубине Вселенского Благовествования. Эту констелляцию модно считать одинаковой для всех народов земли (это является христианским догматом, не подлежащим сомнению); эти смыслы являются строго трансцендентными по отношению и к форме их изложения и к форме их восприятия разными народами.
2) Второе множество -- греческое или греко-латинское прочтение Священного Писания, на которое с необходимостью повлияли структуры греко-римского философствования в дохристианский период, а также структура греческого языка и, еще глубже, греко-европейского Dasein'а.
3) Третье множество -- поле тех смыслов, имен и связей, которые структурировались под влиянием:
· славянских слов и корней, с соответствующими ассоциациями, этимологией и семантическими особенностями,
· особенностей русского дазайна,
· внутренними структурами философии хаоса,
· моделью присущей русским богословской матрицы (Наделяющий – дазайн).
4) Четвертое множество есть наложение первых трех множеств, в котором три разных по уровню слоя накладывались друг на друга вплоть до неразличимости.
Методологически для аккуратного исследования этой сложнейшей проблемы, мы можем начать с внимательного анализа слоя 2 и слоя 3, чтобы приблизиться – пусть отдаленно – к слою 1, и благодаря этому, наконец, корректно разложить на составляющие слой 4.
Если бы эти операции были бы осуществлены тщательно и осторожно, то никаких трений с собственно православной догматикой мы не получили бы.
Греко-византийское западничество и первые признаки археомодерна
В Благой Вести Христа «несть ни иудея, ни эллина», а значит русский, как не иудей и как не эллин, вполне может найти то, что обращено непосредственно и прямо к нему – как к русскому. И в то же время в том, как Церковь и церковная догматика складывалась в первые века и, соответственно, как они пришли на Русь, были следы и иудеев и эллинов, которые русским предстояло понять либо перетолковать, чтобы сквозь них или минуя их – как-то по-своему -- прорваться к истинному смыслу Христовой Истины.
«Иудеев и эллинов нет», а русские есть. И теперь русским предстояло найти свое место в структуре христианской Вселенной.
Но параллельно этому русско-славянскому поиску Русь как епархия Православной Церкви Константинопольского патриархата мыслилась частично по-эллински, и едва ли на практике греческим митрополитам и их окружению удавалось в своем служении всегда строго проводить различия между собственно «вселенским» и «ромейским», то есть «греческим», «греко-византийским». Славянский перевод в таком случае мыслился как прямое переложение известного грекам греческого же образца без каких бы то ни было собственно славянских семантических, грамматических и синтаксических ассоциаций. И эта установка на интерпретацию священных текстов не могла не породить особой смешанной греко-славянской текстовой контаминации. То есть греческий Dasein вступал не только в истоковых формах и в прямом греческом влиянии, но уже и в ославяненной форме, через греческое прочтение славянских текстов Священного Писания и всех текстов, которые были связаны с его толкованием.
Эта вторая линия уже несколько напоминает «западничество» в его более поздних формах, хотя, конечно, это «западничество» существенно отличается от тех тенденций, которые проявились на Руси в конце XVII века, и особенно в XVIII веке при Петре и после него – вплоть до настоящего времени. Древнее «греко-византийское западничество» можно назвать «прото-западничеством».
Если продолжить эту аналогию с более поздними периодами русской истории, можно сказать, что выделенное нами четвертое множество смыслов, в котором перемешиваются собственно универсальные смыслы христианства со смыслами греко-европейскими и русско-славянскими, типологически и по своей структуре напоминают «археомодерн». Этот термин в данном случае не применим в полной мере, так как ничего собственного от «модерна» в греческом христианстве не было, «модерн» пришел в Европу не через Грецию, а в романо-германском ее секторе и гораздо позже. Но сама структура толкования и интерпретации имен, понятий, образов и связей в рамках православной религии в четвертом множестве очень напоминает картину позднейшего «археомодерна». Поэтому сходны по модели операции, связанные с разъяснением этих запутанных ситуаций и их корректной интерпретацией через необходимое приведение к двум оригинальным семантическими кругам – европейскому (в данном случае греческому, греко-латинскому) и русскому.
Здесь, правда, речь идет о Церкви и Вере, а нет только об обществе, культуре и философии, поэтому добавляется еще один дополнительный уровень – уровень трансцендентной Вселенской истины, Христовой Веры как она есть. И тем не менее, теперь мы можем приступить к первичному рассмотрению этой проблемы, так как аналогичная операция по деконструкции герменевтического эллипса археомодерна нами уже проделана и основополагающие параметры русского дазайна, а также той философской картины, которая на его основании может быть выстроена – философии хаоса, -- выяснены.
Бог как Слово
Провести полный анализ русской православной традиции, сопоставляя ее содержание с философией хаоса и с тем, что нам теперь известно о фундаментальной ориентации русского богословия, представляется непосильной задачей, поэтому мы ограничимся только некоторыми аспектами этой безграничной темы.
Начнем с того, что славянские учителя святые Кирилл и Мефодий при переводе корпуса Священного Писания и базовых литургических текстов использовали славянское слово «Бог». Зная об этимологических и семантических отличиях слов «Бог», «qeoV», «Deus», «Gott», мы можем сделать из самого факта такого использования далеко идущие выводы. Если бы славянские учителя хотели подчеркнуть значение, заложенное в qeoV/Gott (греко-германская концепция обращения к Тому, Кто находится по ту сторону жертвы/зова) или в Deus (римская, шире, индоевропейская, концепция света, дня, чистого неба, солнца), они бы так и поступили, тем более, чисто формально у них, наверное, были основания сослаться на дохристианский – «языческий» -- обычай использования этого слова древними славянами. Но святые Кирилл и Мефодий пошли иным путем, и оставили славянам слово «Бог».
Трудно переоценить значение этого филологического жеста. Сохранив славянам «Бога» как имя Бога, они учредили в центре христианского учения, в ядре славянского прочтения христианской веры фигуру Наделяющего, Того, Кто дает всем «капитал бытия» («исто»). «Наделяющий» как главное имя, как его нарицательное имя Бога стало основным содержанием религиозной и богословской топики. Тем самым, заведомо была закреплена славянская модель тео-антропо-логии: Бог есть Тот, Кто есть и Кто, пре-бывая во веки, конституирует (творит, приводит к бытию) мир и человека. Взгляд на человека и мир определяется с места, где пребывает Наделяющий. И такое понимание Бога передалось славянам не в богословских и догматических пояснениях, а в простом и понятном им имени («превыше всякого имени»), в слове как Слове. Так раз и навсегда была утверждена перспектива взгляда, русского взгляда – не с места человека на Бога, но с места Бога на человека и мир(5). Отсюда и изменение в цепочки важнейших религиозных установок: Вера не как Вера человека в Бога, но как Вера Бога в человека; Жертва не как жертва человека Богу, но как Жертва Бога человеку и т.д.
Такое переворачивание пропорций, по сути, уже представляет собой религиозную структуру, существенно отличную от греко-европейской – то есть той, где в центре (так или иначе) стоит человек, обращающий свой взор к QeoV, Gott, Deus. Эта греко-европейская структура представляет собой не просто специфическую онтологию или метафизику, но коренится в глубинах европейского Dasein'а, а следовательно, является не искусственной конструкцией, но выражает экзистенциальное основание европейского человека, спроецированное (в данном случае) на область религии.
Топика европейской теологии
Здесь, быть может, самое место предложить схему устройства европейской тео-антропо-логической модели в сочетании с характерной для Запада моделью Dasein'а. В этом случае контраст с русской структурой будет более наглядным.
|
|||||||
 |
|||||||
 |
|||||||
|
Схема 12. Стереоскопическая схема европейского Dasein'а в контексте топике западной теологии
В целом (сх.12) топика западноевропейской онтологии и метафизики такова. Полюсом ее является «эго», которое и распределяет пропорции и онтологические категории в отношении себя самого, внешнего мира (природы) и Логоса, Божественного Разума. Dasein в такой ситуации находится всегда на краю бездны – причем не важно, по какую сторону от этой границы мы располагаем бытие, а по какую -- небытие: начав с доверия к Seiende, «сущему» как «сущему в природе», человек может прийти к создании ее нигилистического дубликата через ничем не ограниченное тотальное производство (Gestell), и напротив, утвердив безусловное «бытие субъекта» (cogito ergo sum), легко прийти к тому, что в ядре субъекта находится ничто (Ницше). Главный интенциональный акт всегда направлен от человека (эго) к чему-то еще – будь-то наличествующий остенсивно мир или полагаемый императивно qeoV. Такая топика предопределяет и строй европейской философии, возникшей именно у греков, и европейское прочтение религии и, в нашем случае, христианства. Сохраняются и семантика имен qeoV, Gott, Deus и, самое главное, структура Dasein'а.
Переходя к славянскому прочтению христианства, мы попадаем в совершенно иную модель, описанную нами ранее (схема 11). И соответственно, все прочтение религиозного учения не только меняет нюансы, но фундаментально затрагивает сами основы религиозного учения.
Между греко-европейским и русско-славянским прочтениями христианства возникает глубинное расхождение. Если речь не о двух разных «богах», то, по меньшей мере, о двух радикально различных взглядах на одного и того же Бога, причем настолько радикально различных, что вопрос о редубляции этой центральной фигуры религии рано или поздно не может не встать (и мы увидим что вопрос о «двух Исусах» встанет в русском старообрядчестве в связи с никоновской книжной справой и переходом к написанию имени Исус с двумя «и» в новообрядческой традиции).
Русский дазайн и Церковь
Теперь можно сделать следующий шаг и рассмотреть – с чем можно соотнести в русско-православной традиции то, что мы называем «русским дазайном» или «русским народом», а иначе – «русским Началом» (arch). Следуя нашему схематическому и условному описанию «русского дазайна» как «содержания интенционального акта» Бога, следует найти в христианском богословии то, что могло бы соответствовать наиболее имманентной стороне Божественной Действительности.
В христианстве мы легко находим однозначный ответ в Третьем Лице Пресвятой Троицы – в Святом Духе. В молитве Святому Духу о Нем говорится – «иже везде сый и вся исполняяй», то есть «Тот, Который пребывает везде и наполняет Собой все и всех». Святой Дух есть Бог, Бог Истинный и Животворящий. Здесь важно также определение «Истинный», наличествовавшее в дораскольной редакции Символа Веры. Вспомним этимологию слова «исто» и его значение -- «капитал», «имущество». Бог как Наделяющий наделяет мир и человека бытием как «онтологическим» капиталом посредством Святаго Духа. Святой Дух, сходя на апостолов в день Пятидесятницы, оживляет Церковь Нового Завета. Он посылается как Утешитель, соединяющий осиротевшее после Вознесения Христа человечество с Богом-Троицей. И это Утешение есть бытие Церкви. Все таинства Церкви осуществляется действием Святаго Духа: Им творится Святая Евхаристия, Им передается апостольская благодать при посвящении в клирики, Им крещается во имя Христова новопросветленный, Им освящаются воды, Им отпускаются грехи и вершатся браки.
Православное учение о природе Церкви настаивает на том, что Церковь состоит не только из клириков (что провозглашает католицизм), но и из всех православных совокупно – из крещеных мирян и клира. Именно вся полнота православных и образует тело Церкви Земной. Русская Православная Церковь таким образом включает в себя всех русских православных людей – мирян и клириков. Церковь как место присутствия и осуществления домостроительства Святаго Духа и становится в христианскую эпоху на место «русского дазайна», в центре народного бытия. Сам же народ мыслится именно как Русская Православная Церковь, принадлежность к которой и делает русского русским, наделяет человека и мир бытием.
Второе Лицо Пресвятой Троицы – Бог-Слово, Исус Христос – русским народом в соответствии с его богословскими и философскими установками принимается легко, естественно и радостно. Парадоксы понимания Христа как Сына Божьего и Сына Человеческого, как обладающего двумя природами и одной ипостасью, как умершего и Воскресшего, как Вседержителя и Творца Вселенной, и страдающего на кресте не представляют для русского духа ни малейшей проблемы. По словам святого апостола Павла: это «иудеем соблазн, эллинам же безумие»(6). Для иудейского «вот-бытия» и религиозной философии строгого монотеизма и креационизма – соблазн(7). Для эллинского Dasein'а и основанной на нем онтологии – безумие. Для русско-славянской структуры мышления, – с ее фундаментальной неопределенностью относительно того, что и на какой стороне различающей границы мышления находится (мышления-хаоса; мышления-хоры), – напротив, нет ничего яснее, понятнее и логичнее, чем эти базовые утверждения христианской догматики. Они воспринимаются не как «абсурд», доказывающий по Тертуллиану, благородство и возвышенность акта Веры(8), но как очевидная и внятно аргументированная истина, соответствующая опытным данным русского мировосприятия, а не усилиям, стремящегося превзойти самого себя в подвиге веры воспаленного духа.
Для русских все парадоксы христианства, все его острые догматические моменты видятся как нечто самоочевидное и близкое, как нечто естественное. Раз в центре внимания стоит мышление Бога, а собственно человеческое начало остается на уровне гадательного предположения, то именно парадоксы и сверхразумные догматы служат точкой опоры, а структуры собственно человеческого мышления и сама стрела мышления, направленная от человека к чему-то иному (к Богу и миру), видятся размыто и приблизительно, как в тумане, и рассматриваются как нечто необязательное.
Человек свободен от императива мышления, так как за него думает Бог, и более того, он сам и есть мысль Бога, но не как человек и тем более не как индивидуум, а как русский народ, как Русская Церковь.
Само представление о «человеке» русские получают не из базового факта самообнаружения, а из Благой Вести о Вочеловечении Бога. Человек это то, кем стал воплотившийся Бог. Вспомним о том, что В.В.Колесов(9) писал об использовании в старославянском языке «человечь» как прилагательного, и лишь потом – возможно, как калька с греческого «anqropoV» – появился субстантив «человекъ».
Итак, человекъ мыслился как приблизительная область, сопряженная с топосом Воплощения, и причастность к «человеческому» есть, следовательно, одно из измерений, сопряженных с причастностью к Воплощению. Но это Воплощение живет и в Евхаристическом Таинстве в Святой Соборной и Апостольской Церкви, в Русской Православной Церкви, поэтому область человеческого неотделима от области Церковного, а та,
в свою очередь, от области русского.
Русское, Церковное и человеческое сливаются в общем домостроительстве Наделения, в ходе которого Наделяющий (Бог) снабжает Церковь, Русский народ и совпадающий с ним «человеческий род» искупительным и утешительным бытием. В этом отношении, совершенно по-особому начинает восприниматься русскими и «Ветхий Завет», повествующий о путях «избранного народа», ветхозаветных иудеев. В иудеях, богоизбранном народе, в народе-богоносце русские легко опознают самих себя.
Ветхозаветная Церковь в христианстве считается прообразом Новозаветной Церкви. Ветхозаветные иудеи точно так же воспринимаются русскими как прообраз русских православных христиан. В Киевский период и в эпоху монгольских завоеваний такое отождествление существует в виде догадки и упования, а в Московский период обретает статус всенародного и общепринятого эксплицитного мировоззрения, воплощенного в теории «Москвы-Третьего Рима», то есть становится Государственной Идеей.
Философия Пречистого Имени
В отношении статуса человеческого в русском Православии есть и еще один важнейший полюс – это образ Пресвятой Девы Марии Богородицы. Пречистая Дева представляет для православных русских людей цельную карту онтического и онтологического пространства, это всеобъемлющее описание православно понятого бытия – бытия человека и бытия мира. Пречистая Дева – это, по словам рождественского кондака, то, что приносит человеческий род в жертву Всевышнему Богу от себя, как самую святую и чистую, самую прекрасную и ценную свою часть(9).
Дева Мария – человек, но и нечто большее, чем человек; Она есть мир, Она есть Земля, она есть место для всех вещей мира – то есть православно понятая «хора». Не случайно «хора» называется у Платона в «Тимее» «tiqenh» – «кормилицей». Божья Матерь вскармливает Творца Мира, Всевышнего Бога, создавшего Вселенную. Значит, она больше Вселенной, вмещая в себе Невместимого и обнимая «яко младенца» -- Того, на кого не смеют взглянуть даже бесплотные ангелы. Вся догматика, связанная с Пресвятой Богородицей – Ее Непорочное Зачатие, ее Нетленное Девство, ее Успение (в котором Она не покинула мира), ее Введение во Храм и трехлетнее пребывание в Святая Святых, куда не допускались дети, а тем более лица женского пола под страхом смерти – для русского народа воспринимается как нечто чрезвычайно знакомое, родное и понятное. Это философия хоры, где человеческое и вселенское, внутреннее и внешнее легко меняются местами, где безграничное заключено в крохотном, где субъект и объект непрерывно кувыркаются вокруг разделяющей их границы, которая вместе с тем их соединяет. Человечество и Вселенная для русских православных людей имеет женский род и всеобъемлющее имя «Мария». В этом святом имени заключена вся русская философия в ее православном изложении.
Антропоцентризм западной теологии
Выделенные нами центры русского православного учения составляют третье смысловое множество – то, что можно назвать русским христианством. Его уникальность и его особенность станут очевидными, если мы сопоставим это множество с толкованием православного учения с позиций греко-европейского Dasein'а. Гипотетическую схему этого соотношения мы дали несколько выше.
Для эллинов христианство выглядит совершенно иначе, нежели для русских и славян. В центре стоит именно человек, anqropoV, и его философская и экзистенциальная проблематика. Для греков стоило большого труда осмыслить и принять иудейское видение предыстории христианства – грехопадение, события, связанные с судьбой ветхозаветных иудеев, одноразовое творение и трансцендентность личного Бога монотеизма. Все это было для них чуждо, и философы-неоплатоники держались в греко-римском мире дольше всех, защищая имманентистское и универсалистское видение, продолжающее традиции дохристианского эллинизма – пока при Юстиниане Академия в Афинах не была закрыта окончательно. В догмате Воплощения для греков проблематичной была не божественность Человека Исуса Христа -- это они могли принять без труда. Гораздо сложнее было понять единственность Бога и творение мира из ничто (ex nihilo, а не ex Deo, а не «из самого Бога»)(11).
QeoV, находящийся по ту сторону дыма жертвенного костра, был слишком тонким и летучим, слишком гипотетическим, чтобы справиться с проблемой ничто и единолично взять на себя бремя творения. Такое изменении в понимании самой сущности и природы Бога требовало от них гигантских усилий. Вера в Бога-Творца должна была быть намного более жесткой, фундаментальной и фанатичной, нежели в тонкотелых и легких, хотя и бессмертных, богов Олимпа, не говоря уже о близким древним людям духам садов, полей, очагов, рощ и ручьев. Чтобы трансцендентный Бог христианской теологии стал центром греко-европейского, греко-романского мировоззрения, человек должен был раскалить свою волю до железного состояния и обосновать в тонкой небесной лазури непоколебимую каменную твердь – как подножие престола Божия.
Интенциональный акт, направленный на утверждение бытия Бога в акте чистой веры, требовал от человека высшего напряжения всех усилий души. Эти усилия были столь значительны, что заставили сосредоточиться европейскую религиозную культуру только и исключительно на метафизике, отвлекаясь и от внешнего мира и от собственного Dasein'а, расположенного на границе между «эго» и «природой». Хайдеггер считает, что это и привело к постепенному забвению бытия, к его замене на поиск соответствия между рассматриваемой вещью и ее местом в иерархии творения. Твердость Бога-Творца в греко-европейской религии основывалась исключительно на твердости греко-европейской человеческой воли. В каком-то смысле, ариане и, позднее, несториане, поступали по-европейски честно, когда перетолковывали Исуса Христа как «пророка» и «героя», чья Божественность была не догматическим фактом, но результатом волевой аскезы и плодом героического акта. Показательно, что арианство было особенно подхвачено воинственными готами, у которых имя Бога – «Gott» -- означало, как мы видели, «Тот, к Кому взывают». Христос мыслился ими как человек, герой и праведник, взывающий к Богу и показывающий арианам, как это надо делать всем остальным. Отзвуки арианской ереси мы легко распознаем в протестантской Реформе, с ее возвеличиванием человеческого рассудка и фактическим сведением роли Христа к функции «морального героя».
Конечно, основное направление христианства – и в православии, и в католичестве – следовало другой версии и не ставило под сомнение Божественность Христа, то, что Он есть Лицо Пресвятой Троицы и Совершенный Бог, Бог-Слово. Но структура западного богословия все равно оставалась антропоцентрической, рассматривающей Бога и Богочеловеческое единение в Воплощении с человеческой стороны. В человеческой стороне и ее статусе в европейском Dasein'е не было не малейшего сомнения, и следовательно, само богословие было богословием, построенным на человеке и его разуме, точнее, на его Вере, руководящей разумом.
Фундаментальный зазор между значением греко-римского и славянского религиозного текста
Сопоставив это с русским пониманием христианства, мы мгновенно обнаруживаем бездонное различие: русское богословие теоцентрично, оно уверено в Боге и напрягает свою волю, чтобы обосновать человеческое начало; для него Бог близок, понятен и очевиден, а человек – гипотетичен, проблематичен и связан с абстрактным долженствованием (причем не очень ясно обоснованным). Одно дело -- верить в Пречистую Деву Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего; а через Нее верить и в человечество, а заодно и во Вселенную, которые Она, Честнейшая херувим, Собой представляет. Другое дело – верить в отдельного человека, в эго, в личность, в индивидуума, чье существование недоказуемо, интуитивно ничтожно, а главное, даже если оно и наличествует, то ко всему важному и значительному в бытии отношения никак не имеет. Русское Православие забывает о человеческом, хотя помнит хотя помнит о Вочеловечивании и о русском, как о церковном.
Греко-европейское христианство устроено прямо противоположным образом – оно начинает с человека и силится его превзойти на путях к трансцендентному Богу-Творцу. Вочеловечивание видится здесь как обещание самой такой возможности, то есть рассматривается с человеческой стороны.
Очевидно, что и толкование догмата Троичности, и понимание двух природ Исуса Христа, и соотношение человека и мира в их онтологическом статусе в греко-латинской версии будет разительно отличаться от русско-славянского взгляда на то же самое. Карта христианской керигмы, сущность Евангелия и вся структура Священного Писания и его толкований в славянском мире налагаются на топику, радикально отличную от европейской. Инаковость языкового контекста – греко-римского в одном случае и славянского в другом – позволяет, однако, не только выразить это различие, но и скрыть его.
Здесь мы сталкиваемся с глубинным различием в самих структурах Dasein'а и дазайна, что выражается в следующем: западная философия (как философия логоса и порядка) является эксплицитной, а славянская философия (философия хаоса/хоры) – имплицитной. Размещение христианской керигмы на двух этих топиках и в двух языковых контекстах (включая этимологию и семантику основных, составляющих суть догматики, имен и отношений) не приводит к прямому и лобовому «конфликту интерпретаций»(12), но позволяет славянской герменевтике свободно и последовательно перетолковывать греко-латинский дискурс христианства в русле имплицитной философии хаоса. Так как русский дазайн и, соответственно, русская философия хоры и русское богословие фундаментально отличны от Dasein'а европейского, то структура происходящего перетолковывания не видна наглядно ни на одном из интерпретационных множеств.
Вселенский смысл христианства. Керигма
Опишем основные моменты тех четырех множеств, которые мы выделил ранее, разбирая структуру возможных христианских смыслов в их связи с текстом.
На уровне собственного и вселенского значения Евангелия – гипотетически в отрыве от языка и «вот-бытия» -- пребывает христианская керигма, не совпадающая ни с одной языковой интерпретацией, ни с одной философией, ни с одной из возможных проекций «вот-бытия». Она порождает смысловое множество, напрямую не поддающееся никакому восприятию – ни разумному, ни эстетическому, ни образному, так как любые знаковые системы, включая визуальные или символические, заведомо аффектированы контекстом конкретных «языковых игр» и циркулирующих в них смыслов, значений, понятий и отношений.
Греко-латинское толкование христианства
Греко-латинское изложение Евангелия – с отсылкой к еще более раннему пласту ивритской и арамейской языковой структуры, сопряженной с контекстом Ветхого Завета и ветхозаветного периода – есть лишь одна из возможных версий лингвистической, философской, филологической и экзистенциальной (на уровне Dasein'а) интерпретации этой керигмы. Но при этом историко-культурные обстоятельства распространения христианства и важнейший момент его становления господствующей религией Римской Империи подвигли первые поколения христиан к отождествлению, до определенной степени, самой керигмы с ее лингвистическим и философским выражением. В католичестве это отождествление приобрело значение непоколебимого догмата, что выразилось в латинской мессе и в признании лишь трех языков – еврейского, греческого и латинского – священным. В православном мире, напротив, получил распространение многоязычный подход, основанный на прецеденте глоссолалии в Пятидесятницу, что отразилось на многочисленных переводах Священного Писания на разные языки и литургическое употребление этих переводов в поместных церквях. Тем самым Православие утвердило догматически и эксплицитно зазор между собственно евангельской керигмой и ее языковым выражением. Однако византийские греки по факту имели дело с греко-римскими (частично, еврейскими) текстами и, естественно, трактовали их в духе своей собственной философской и культурной традиции. Так как эта традиция была развитой и обширно документированной, то греческая интерпретация по факту становилась преобладающей в православном мире. Это создало определенный и тонкий зазор между номинальным полилингвистическим подходом к языку поместных церквей и практикой нормативного монолингвистического (европейского, греко-европейского) толкования священных текстов. Этот зазор не становился в центре внимания ни греков, ни других православных народов по одной причине: контраст между эксплицитным характером греческой философии и имплицитным характером других этнических философий схватывался с трудом, тем более, что самобытная философия многих из этих народов стала внешне проявляться как раз в процессе христианизации и – соответственно – под прямым влиянием греческой культуры. Так, например, возникла и славянская письменность – на основе именно христианского и одновременно греческого культурного образца.
В случае католичества знак равенства между содержанием керигмы и ее языковым выражением был поставлен однозначно. В случае православия последовательное применение принципа глоссолалии оставляло открытой возможность уравнивания между собой значения языковых контекстов, но на практике эта возможность реализовывалась в философско-семантическом смысле довольно редко и фрагментарно. Хотя примером этого может служить сирийская и эфиопская ветвь Православия, где четко различаются влияния, соответственно, семитского и хамитского «вот-бытия» и локальные этнокультурные и этнолингвистические особенности.
В области гетеродоксальных течений то же самое можно сказать о коптском монофизитстве, иудейском эбионитстве и докетической ереси, а также о гностических учениях раннего христианства, имеющих явный персидский дуалистический характер. Но в любом случае, -- и там, где это приобрело статус догмата (католицизм), и там, где декларировался принцип глоссолалии (Православие), -- мы почти всегда имеем дело с замещением собственно христианской керигмы ее лингво-культурным и философским выражением, воплощенным в языковых и текстовых конструкциях, и приданием этим конструкциям статуса эксплицитного или имплицитного норматива.
По мере нарастания противоречия между Восточным христианством и Западным, эта закономерность стала еще более очевидной, так как внутри уже западноевропейского христианского контекста обособились два множества: латинское христианство (приоритетно сопряженное с латынью) и греческое христианство (являвшееся нормативом для всего православного мира – к которому, однако, принадлежали отнюдь не только греки). Уже одно только это обстоятельство должно было привести к постановке вопроса о соотношении керигмы с ее культурно-лингвистическим и философским выражением, что и произошло, но только довольно поздно – в эпоху Реформации, и отчетливо было описано в протестантской теологии еще позднее, в ХХ веке в работах протестантского теолога и философа Бультмана(13), который и ввел понятие «керигмы» в собственно философском его понимании.
В интересующем нас случае, мы можем теперь строго описать особую зону – греческий герменевтический круг толкования христианской керигмы. Номинально он не претендовал на эксклюзивность. Фактически он этой эксклюзивностью обладал.
Русско-славянское толкование христианства
Русско-славянское поле восприятия христианской керигмы представляет собой структуру двойного отношения. Появление славянской Библии представляло собой одновременно и презентацию славянам христианской керигмы в ее чистом виде, и ее греко-европейскую (в корнях греко-латинскую) интерпретацию. Поэтому славянской философии хаоса предстояла труднейшая задача:
· пробиться к содержанию самой керигмы,
· как-то осознать греческую интерпретационную модель,
· соотнести керигму с самой собой (пребывающей в имплицитном состоянии не только в силу исторических причин, но и в силу своей особой природы).
Не удивительно, что этот процесс занял у русских, по меньшей мере, 1000 лет: ведь решение и более частных проблем подчас растягивается на столетия.
Схема смысловых множеств
Можно представить предыдущие соображения на схеме.

Христианская керигма – Благая Весть в ее чистом виде (сверхязыковая) множество 1
![]()
![]()

 а b
а b
 c d
c d
![]() православное греко-европейское понимание христианской керигмы на основе греческой философии, культуры и языка (эксплицитное) множество 2
православное греко-европейское понимание христианской керигмы на основе греческой философии, культуры и языка (эксплицитное) множество 2
|
![]()
 h
h
e f
![]() i
i
русское Православие множество 3
![]()
g
![]()
Схема 13. Модель интерпретации русскими христианской керигмы
Четвертое множество изобразить невозможно. Следует лишь заметить, что оно представляет собой проекцию всей этой сложной и объемной модели на плоскость, где все три множества смешиваются между собой до неузнаваемости.
Рассмотрим связи этой схемы. Стрелка a намечает траекторию проявления Благой Вести в ее историко-культурном и лингвистическом выражении. Оригиналы Евангелия не случайно дошли до нас на греческом языке. Включив в выражения Благой Вести конкретный греческий язык, христианство в значительной степени канонизировало семантические структуры этого языка в качестве образца. Движение по стрелке a вниз принято называть «богодухновенным процессом», и к этому моменту возводилось обоснование авторитета не только Священного Писания, но и его толкования в рамках христианского предания – в том числе в ходе семи Вселенских соборов и, шире, в святоотеческой литературе.
И все же, определенный зазор между самой керигмой и ее греческим воплощением может быть намечен. Поэтому стрелка b представляет собой процедуру металингвистической экзегетики -- особой операции, в ходе которой христианин в мистическом опыте переходит от буквы к духу. Эта буква – нормативно – есть буква греческая. И вопрос в том, насколько греческим и до какой степени греческим будет сам переход? До какой степени греческим является дух, поднимающийся над буквой?
Стрелки e и d отображают перевод Святого Писания на славянский язык. Эти две стрелки показывают нам два отношения перевода к тому, с чего он сделан. С одной стороны, это перевод с греческого, а значит, он так или иначе стремится передать смысловое поле греческих значений, понятий, денотатов и смыслов. С другой стороны, этот перевод считается «богодухновенным» и выполнен святыми, то есть людьми, стяжавшими благодать Святаго Духа. Стрелка d отмечает богодухновенность, стрелка e – филологическую и философскую операцию, связанную с «греческим множеством», с «греческим» выражением христианской керигмы.
Соответственно, стрелки c и f будут представлять собой экзегетику собственно русско-славянских христиан, которые стоят перед двойной задачей: понять керигму, то есть взойти от – на сей раз – русско-славянской! – буквы к самой Благой Вести (стрелка с), и понять греческое толкование этой керигмы(стрелка f), чтобы через это толкование -- и сквозь него -- снова понять изначальную керигму.
Если вынести за скобки существование философии хаоса, то этим все и исчерпывается. Но в таком случае, надо признать, что русско-славянский язык сам по себе есть «ничто», и представляет собой только механический конструкт, подобно искусственному языку математических или логических символов или компьютерной операционной системы, созданный в чисто прагматических целях. Если же принять философию хаоса, то мы сможем наметить поле смыслов, обширную зону экзегетики, целый русский горизонт толкования, которые представляют собой встречу чистой керигмы с имплицитной русской философией, воплощенной в языке – имеющем автономное (от греческого) существование и коренящемся в общей матрице индоевропейской и, далее, ностратической и борейской словесности – и в особом русском дазайне.
Поэтому круг русских смыслов Евангелия может быть обнаружен, описан и обоснован через приоритетное рассмотрение стрелок g (с чего надо начинать), c и d.
Но это невозможно сделать без того, чтобы тщательно исследовать динамику процессов по стрелкам e и f , которая, в свою очередь, не может быть корректно ни описана, ни понята, без выяснения денотативных и экзегетических отношений по вдоль стрелок a и b. Поэтому подход к выявлению философии хаоса в ее отношении к русскому Православию требует фундаментального внимания к греко-европейскому прочтению христианской керигмы, а значит, к греческой философии и европейскому Dasein'у.
Стрелка h показывает то влияние, которое оказывает на греко-православное сознание внеправославные (западнические формы – в первую очередь, католицизм, а также секуляризм, модернизм и т.д.), а стрелка i -- тот же спектр воздействий на русское Православие.
Смешение трех множеств
Последнее четвертое множество понимания христианства и его содержания образуется в том случае, если мы не станем проводить все три вышеупомянутых этапа и отнесемся к русско-славянским священным текстам без каких бы то ни было рассуждений о методе или стратегий деконструкции (соотнесений с исходными контекстами и уровнями этих контекстов). В этом случае мы получим нечто аналогичное «археомодерну», его начальному изданию (правда, пока еще без «модерна»), которое, вместе с тем, вполне и без оговорок может быть названо «герменевтическим эллипсом».
Задача русского православного человека – прорваться к значению и полю значений христианской Благой Вести. Но в этом прорыве он с необходимостью сталкивается с языком и заложенной в языке философией, отражающей экзистенциальные структуры «вот-бытия». Прорыв осуществляется и сквозь эти структуры и с помощью этих структур, которые открывают и одновременно закрывают керигму. Если бы русский православный человек имел дело с герменевтическим кругом, то он был бы греком или, в худшем случае, латинянином, так как ему предстояло бы решить однотактовую логическую задачу: выяснить поле значений (денотатов) для высказываний, сделанных в знаковой системе (в пространстве языковой игры), гомологичной его экзистенции – Dasein'у.
Если представить себе русского православного человека, не являющегося ни греком, ни латинянином, но также имеющего дело именно с герменевтическим кругом (а не эллипсом), то знаковой системой, гомологичной его экзистенции (его дазайну) должна была бы выступать философия русского языка, то есть философия хаоса, отталкиваясь от которой русский взглянул бы на небо керигматических значений Благой Вести.
Второе решение – естественное, но для его подготовки, не говоря уже о его исполнении, надо было потратить тысячу лет русской истории. Если русский православный человек не становится греком и не открывает структуру своей собственной русской экзистенциальной философии, полноценное отношение к значению Благой Вести для него будет блокировано, а преодоление этой блокады будет возможно только в исключительных случаях, имеющих уже не философскую и не языковую природу, но относящихся к феноменам русской святости. Но для того, чтобы эта святость была в полном смысле слова русской, она все равно должна была бы заключать в себе – пусть в свернутом и непроявленном состоянии! – указание на русский дазайн и его философски-языковое воплощение. Если же это не так, то мы будем иметь дело с греко-русской святостью, которая также вполне возможна (по траектории стрелок f и b нашей схеме) при содействии благодати, исходящей от Бога и посредством Святаго Духа.
В любом случае в самом наличии герменевтического эллипса в структуре русского Православия не содержится ничего, кроме сбивающей с толку путаницы и болезненного и негармонизированного наложения друг на друга двух языковых и экзистенциальных контекстов. Размыкание этого эллипса и приведение его к двум герменевтическим кругам будет равнозначно выздоровлению и решительной победе.
И самое главное: четкое выявление русского православного множества смыслов в форме органичного герменевтического круга позволит придать православному догмату о глоссолалии и вселенской природе Православной Церкви новое и более глубокое значение. Если, наряду с греческим множеством, мы выстроим корректно описанные иные множества – начиная с русско-славянского, но не только, ведь этот ряд можно продолжить и далее – включая арабских, грузинских, румынских православных и так вплоть до всех поместных православных церквей, имеющих переводы Святого Писания и литургических книг – мы сможем методом их сопоставления приблизиться к сверхязыковой сфере христианской керигмы, которая выявится как то общее, что окажется таковым к ходе широкого сопоставления.
Методология деконструкции семантических множеств
На данном этапе мы получили первичный набор представлений, который может служить методологической основой для последующего анализа всех четырех множеств, сопряженных с семантикой Православного христианства на Руси и в русской истории.
Третье множество – русское понимание Православия с опорой на философию хоры -- мы постарались приблизительно описать, дав примерные версии русского истолкования некоторых догматических моментов. Если принять предлагаемый нами метод, то это можно продолжить на бесчисленных примерах, соотнося любые – главные или второстепенные темы, сюжеты, понятия и ситуации, наличествующие в Русском Православии – с базовой структурой имплицитных русской философии и русского богословия, развертывая поле полноценной и обоснованной русской религиозной философии – такой, какой она могла бы и должна была бы быть (стать). Если параллельно этому корректно выделять соответствующие герменевтические процедуры из сферы греческой экзегетики и проводить сравнения, то можно не только основательно очистить само русское Православие от внешних греко-европейских интерференций, но и приблизиться к подлинно вселенскому содержанию Благой Вести в ее чистом метаязыковом послании, к «языку ангелов».
Вся это философская и богословская работа как побочный эффект позволит постепенно упорядочивать четвертое множество (православного «археомодерна» или богословского герменевтического эллипса), элементы которого будут помещаться в адекватный контекст и на адекватный уровень, в результате чего само это множество в пределе должно исчезнуть, что и будут означать момент полного и необратимого излечения.
Однако ликвидация герменевтического эллипса в православном богословии не будет означать, как это может показаться на первый взгляд, полного упразднения греко-русского Православия. Оно вполне может сохраниться в качестве корректной герменевтической процедуры, напротив, чрезвычайно полезной на своем месте и в своих пределах для того, чтобы отделять от собственно русского богословского православного контекста структуры, созданные в качестве технических искусственных средств, чтобы служить механическим и апроксимативным субститутом греческого начала. Такой субститут, представляя сам по себе схематичную и плоскую редукцию богатой и обильной греческой философской и богословской мысли, а кроме того, выступая как суррогат греко-европейского Dasein'а, при корректном соотнесении с живой стихией греческой культуры будет возвращен в изначальный контекст, оживлен и воссоздан в своем изначальном состоянии, что может породить безвредное (поскольку не порождающее новые химеры) и самоценное музейное православное западничество, в центре которого будет размещаться очищенный от всяких славянских наносов и подкопов консистентный, цельный и прозрачный византизм. Такой византизм не только не омрачит и не релятивизирует корпус собственно русского православного учения, но эффектным контрастом оттенит его самобытность, его основательность и значимость.
Открытая экклесиология
Еще до осуществления этих фундаментальных философско-богословских задач, можно предложить на основании такой методики прочтения русской церковной истории, которая может быть описана на всех четырех, выделенных нами множеств. Каждое множество имеет свою траекторию, в определенные периоды выходит на поверхность, соседствует с другими, иногда доминирует, потом снова опускается на тот же уровень или уходит в глубь. Вместо одной истории русской церкви, мы получаем четыре истории.
Рассмотрим конвенциональную модель истории Русской Православной Церкви и попытаемся выделить в ней те элементы, которые относятся к нашим семантическим множествам. Сама эта конвенциональная модель (14) и представляет собой археомодернистское смешение. Не отделяя внятно славянское от греческого, русского от европейского, локального от вселенского, народного от ученого, формального от мистического, рационального от иррационального, бытового от догматического, конвенциональная история Русской Церкви представляет собой типичное отражение этого четвертого множества, где разноуровневые семантические миры проецируются на одну и ту же плоскость без каких-либо особых пояснений и технических знаков, которые свидетельствовали об их разноплановости и служили бы ключом к корректному прочтению чертежа. Это – историческая шарада, разгадку которой забыли сами составители. Это не введение в заблуждение других, это обман самих себя и попытка выдать нерешенную задачу за решенную – причем с блеском.
Наиболее проницательные русские богословы, например, В. Н. Лосский(15), ясно понимали, что именно эта сфера церковной экклесиологии остается наиболее актуальной для современной православной мысли и, соответственно, предполагает большее количество нерешенных или неверно решенных проблем по сравнению со всеми остальными догматическими или экзегетическими сторонами православного вероучения.
В сфере догматики и основных направлений экзегетики нам остается только понимать то, что сделали преподобные и богоносные отцы Церкви. В области церковной истории экклесиологии мы не только с необходимостью являемся свидетелями и созерцателями, но и прямыми участниками – ведь эта история не завершилась, Церковь есть, она продолжает идти по своим земным путям, и мы являемся частью этого движения.
Официальная версия истории Русской Православной Церкви представляет собой набольшее по количественному содержанию повествование, в котором содержатся элементы всех остальных множеств. Но при этом оно является неполным, так как определенные моменты из него выпадают.
Русское Начало в ранней церковной истории (до XVI века)
В общих чертах история Русской Православной Церкви – в ее конвенциональном изложении -- такова.
Русский народ взял религию от греков через южнославянский перевод Священного Писания славянскими первоучителями – святыми Кириллом и Мефодием и кругом их болгарских (возможно, моравских) учеников и через историческое властное решение киевского великого князя равноапостольного Владимира. Крестившись, русские стали епархией Византийского патриархата, который ставил русских митрополитов – вплоть до Флорентийской унии и последовавшим вскоре за ней падением Константинополя от руки турок (Мехмета II). В этой практике поставления греческих митрополитов на Киевский престол были и исключения. Первым этнически русским митрополитом Киевским был Илларион, поставленный Ярославом Мудрым. Это был первый знак воли Руси к церковной автокефалии. Показательны текст, дошедшие до нас от Иллариона – в частности, его «Слово о законе и благодати», где глубочайшее понимание церковной богословской догматики соседствует с пророческими предсказаниями особой миссии русских в истории. Эта последняя черта свидетельствует о том, что уже в XI веке имелись первые признаки самостоятельного церковного русско-славянского мышления. Поэтому митрополита Иллариона следует отнести к началу третьего множества – множества собственно русского Православия. Вторым русским митрополитом был Климент, поставленный в 1147 г. независимо от греков собором шести русских епископов по желанию великого князя Изяслава Мстиславовича. Третьим по счету этническим русским был в XIII веке – уже в эпоху монгольских завоеваний -- Кирилл III, избравшим местом своего пребывания не Киев, а Владимир и учредивший две новые епархии: Ростовскую и Сарскую (в Сарае). Митрополит Петр, начало XIV века, причисленный к лику святых, перенес свою резиденцию в Москву, где после кончины и был погребен в стене Успенского собора. Был еще митрополит Алексий (в период 1353—1378 гг.), также канонизированный, из иноков московского Богоявленского монастыря, сын знатного черниговского боярина. И наконец в XV веке митрополит Иона, первый предстоятель русской Церкви, после ее фактической автономии, избранный в 1448 году в митрополиты собором русских епископов и великим князем без согласия Константинопольского Патриарха (так как сама Византия уклонилась в унию).
Далее митрополиты, позже патриархи Русской Православной Церкви были русскими и избирались собором русских епископов.
Что касается периода до избрания митрополита Ионы, то от русских предстоятелей почти не осталось каких-либо внушительных памятников, которые позволили бы судить о том, что их русскость как-то особенно проявилась в их богословских трактовках. При этом бросается в глаза, что политически они неизменно настаивали на укреплении суверенитета русской государственности и, активно поддерживали централизаторские стремления русских князей. Особенно заметна связь их с Владимирским княжеством и Москвой, колыбелью будущей могучей Московской империи, где идея Русского Православия с конца XV века обретает яркие и доктринально строго оформленные черты. Поэтому и их, вместе с Илларионом Киевским, мы с полным основанием можем отнести к третьему множеству -- чисто русского Православия.
Третий Рим
Далее в русской церковной истории следует московский период – от митрополита Ионы до патриарха Никона. Начало этого периода ознаменовано спором нестяжателей и иосифлян и формулировкой доктрины «Москва --Третий Рим». В кругах, близких к святому Иосифу Волоцкому и новгородскому митрополиту Геннадию («партия осифлян»), постепенно складывается формальное выражение того, что можно уже с полным основанием назвать собственно русским началом в богословии. На следующем этапе эти идеи получают чеканное выражение в формулировках псковского инока Филофея, придавшего теории «Москвы-Третьего Рима» окончательный вид(16).
Учение о «Москве --Третьем Риме» было одновременно и ответом на исторические обстоятельства (Флорентийскую унию, отвергнутую Москвой, падение Царьграда, конец «золотой орды» и установление полной независимости Руси от татар и т.д.) и первым систематизированным, хотя предварительно и фрагментарно, выражением глубинных констант, базовых структур русского миросозерцания, русской философии и русского богословия, которые до этого пребывали в имплицитном состоянии. Освобождение и возвышение Руси, ее вступление в новую роль – оплота мирового Православия – открыли возможность русским заявить о том, что они на самом деле думают о себе, о мире, о Церкви, о христианстве, о судьбах народов. Смысл этой теории состоял в том, что:
· судьбы человечества связаны с исполнением религиозной миссии избранным народом,
· судьбы мира связаны с империей (учение о четырех царствах),
· в латинской империи (первый Рим) происходит встреча церкви и империи, миссии и державы, что порождает Второй Рим (Константинополь), являющийся отныне центром Вселенной и церковно и политически;
· отпадение Первого Рима от Второго отсекает еретиков-латинян (папежников) от территории Православной истины (мы теряем Первый Рим, остается только Второй);
· падение Второго Рима (вначале духовное – уния, затем физическое – завоевания турками) есть падение всего человечества одновременно в его религиозном и социально-политическом горизонте;
· верность Москвы Православию и отказ от унии связаны с ее освобождением от орды (тогда как, напротив, принятие унии повлекло за собой утрату Византией независимости и ее покорение);
· отныне Русь и ее столица Москва становится единственным носителем и религиозной миссии, идущей от ветхозаветных иудеев к новозаветной церкви и к ее до последнего времени чистой форме в лице греческого Православия, и независимой политически великой державой, что и означает принятие на себя функций Третьего Рима;
· Русь становится Третьим Римом перед финальным аккордом мировой истории в непосредственной близости к ее концу; поэтому радость и торжество русских, стяжавших избранничество, должна быть окрашена в тона тревожных апокалипсических предчувствий («Третий Рим пока стоит, но Четвертому не быть);
· история мира и его спасения, начавшись на древних евреях, заканчивается на русских.
Эти пункты учения о «Москве--Третьем Риме» сопрягают основные мотивы русского мировоззрения как такового с воспринятой и глубоко осмысленной и прочувствованной собственно русской философией и русским богословием. Эта теория становится основным официальным мировоззрением Московского периода, а в годы правления Иоанна Васильевича Грозного, подтверждается политической практикой (возведение великого князя московского в Цари) и закреплением многих положений в материалах Стоглавого собора, среди прочего утверждающего спасительность двуперстия как изначального перстосложения (основанием для этого является наличие этой практики в Московской Руси – любые ссылки на греческие обряды отныне большого веса не имеют). Кульминацией этого процесса является учреждение Русского Патриаршества с подачи Бориса Годунова и при поддержке царя Федора Иоанновича. Первым Патриархом становится Патриарх Иов.
Ранее западничество (грекофилия)
Показательно, что, начиная с нестяжателей и сторонников Нила Сорского через Максима Грека и участников кружка Избранной Рады, а также через множество иных центров влияния, становлению мощной тенденции собственно Русского Православия оказывается систематическое сопротивление(17). В религиозном смысле мы имеем дело с противодействиями двух семантических множеств: Русского Православия (Москва-Третий Рим) и Греко-Русского Православия, которое (несмотря ни на что) продолжает рассматривать Русь только как часть православной эйкумены, окормляемой Константинопольским патриархом, несмотря на его зависимое положение в Османской империи. Кроме того, к этому греческому (фанариотскому) западничеству примешивается влияние, идущее непосредственно из Западной Европы – от католиков (особенно через иезуитов) и протестантов. Представляя разные и враждующие тенденции в христианстве XV-XVII веков, и православные греки, и католики, и протестанты категорически не хотят признавать особых мессианских свойств за Православной Русью и православным русским народом. Каждое из этих направлений придерживается своей экклесиологической и богословской версии, так или иначе коренящейся в структурах именно европейского, греко-римо-германского Dasein'а. «Москва-Третий Рим» идет вразрез всем философиям истории и экклесиологиям той эпохи, поэтому эти тенденции объединяется в отношении противостояния и противодействия именно русскому Православию и Московской Идее.
Так, постепенно формируется «обобщенное западничество» в христианской оболочке, варьирующееся от греко-православия до католицизма и протестантизма, но единое в своем антирусском, антимосковском векторе.
Семантика раскола
Преодолев Смутное время, Московский период продлевается до эпохи патриаршества Никона, после чего следует церковный раскол и формальный конец Третьего Рима (столица России переносится Петром I в Санкт-Петербург)(18).
Раскол связан со следующим тонким моментом. Никон, как и вождь старообрядцев Аввакум, принадлежал к Боголюбческому кружку, члены которого были единодушны в том, чтобы укрепить русское благочестие, исправить церковное нестроение и утвердить величие Московской Руси во Вселенском масштабе. Все они были убежденными сторонниками идеи «Москвы -- Третьего Рима». Только понимали они это по-разному.
Никон считал, что Третий Рим должен стать центром новой мировой империи, которая начнется с отвоевания у Польско-Литовского королевства всех исконно русских земель, а затем перекинется на православные народы Греции и Балкан, пока не закончится освобождением Константинополя от турок. Далее все народы припадут к ногам русского белого Царя и православного русского патриарха, которые станут центром мира. За этим последует конец истории и нисхождение Небесного Иерусалима. Мировая история, описав свой полный круг, выльется во Второе Пришествие, пространством для которого станет Русская Земля. Обо всем этом Никон не просто мечтал, но начал осуществлять этот план на практике, подталкивая Царя Алексея Михайловича к отвоеванию Беларуси и Малороссии и к битвам против европейских держав. Вся эта идея была обоснована исключительно верой во вселенскую миссию русского народа.
В этом смысле мы видим в Никоне ярчайшего представителя именно русского Начала (несмотря на то, что этнически он был мордвином).
Однако Никон был готов принести в жертву для достижения этой цели все, что угодно – в том числе и отдельные элементы древнерусского обряда, некоторые древние традиции и уклады. Для него важнее всего была геополитическая экспансия. Чтобы сделать московское православие более привлекательным для западных православных народов (белорусов, малороссов и греков), Никон пошел на попытку унификации обряда по западно-русским образцам, затеял книжную справу на основе Киевско-могилянского извода русской Библии, отменил традиционное двуперстие, сократил службы, упразднил метания на Мариино стояние, самовольно поменял многие другие обрядовые моменты.
Это вызвало жесткий протест у староверов, которые не могли понять, как во имя русской святости и ее торжества можно отказаться от ряда характерных признаков этой святости – например, от канонизированного Стоглавым Собором двуперстия и т.д. Для консервативных носителей идеи Третьего Рима это было абсурдом, искушением и наводило на мысль о наступлении последних времен, апостасии и тайном заговоре «западнической» (европейско-еретической) партии.
Две ветви сторонников Третьего Рима сошлись не на жизнь, а на смерть, никто не хотел уступать и считаться с аргументами противоположной стороны. Властный и волевой Никон настаивал на своем. Старообрядцы проявляли не меньше волевых качеств, мужества и героизма. Когда Царь и государство приняли сторону Никона, старообрядцы, вопреки традиционному для русского народа послушанию власти, не подчинились ни Царю, ни силе, ни большинству. Постепенно Никон портит отношения с самим Царем, утратив на него влияние, и оказывается в ссылке.
Собор 1666-1667 годов, низложивший Никона, подтверждает клятвы на старообрядцев, а заодно анафематствует и Стоглавый собор, формально закрывая страницу «Москвы -- Третьего Рима» или историю Святой Руси.
Показательно, что на соборе 1666-1667 годов главенствуют приглашенные Царем греки. Это четко фиксированный момент поражения Русского Православия: оба направления сторонников Третьего Рима (и Никон, и староверы Аввакума) низвергнуты. Отныне новообрядческая церковь ориентируется на греко-русский курс.
В скором времени Петр упраздняет и само патриаршество, вводя вместо него Синод, подчиненный светскому лицу – обер-прокурору. Последним Патриархом становится Адриан, далее патриаршество прерывается на двести лет.
Невнятность оценки Московского периода в официальной истории РПЦ
Совершенно очевидно, что весь московский период в своих главных и доминирующих тенденциях мы должны отнести к третьему множеству – к русскому Православию. Если мы проделаем это, то в четвертом множестве останется только подспудные греко-русские течения, которые мы можем способно поместить в множество два, и тем самым окончательно упорядочить то четвертое множество, которым мы сейчас занимаемся.
Но официальная история русской церкви поступает совершенно иначе. В ней не дается никаких оценок ни Московскому периоду, ни доминирующей в нем теории «Москвы -- Третьего Рима», ни грекофильской тенденции, ни даже филокатолическим и филопротестантским течениям Петровского периода и XVIII века. Не признавая правды за старообрядцами, официальная история Церкви не высказывает ясного отношения и к деяниям собора 1666-1667, а явные симпатии к Никону не выходят за рамки признания легитимности и тех, кто его ниспроверг. Именно поэтому мы имеем дело с четвертым множеством: в нем перемешаны и русские и греко-русские и даже частично филопротестантские и филокатолические черты; и даже не высказывается осуждения в отношении явно умаляющему Церковь в правах синодальному периоду.
Помещая на одну плоскость столь различные по смыслу, ориентации, значению, выводам и ролям явления официальная церковная история десемантизирует их все, не позволяя сориентироваться и занять внятную позицию. Поэтому явные барьеры, разрывы, сдвиги и разломы преподаются в рамках этого четвертого множества как гладкое, прямое, непрерывное и беспрепятственное развертывание того же самого. Это типичный герменевтический эллипс, все ближе подходящий к собственно археомодерну. И вместе с тем, можно легко опознать в этом и действие русского Начала – философию хаоса. Именно она, играя, путает одно с другим, «это» с «тем», чтобы привлечь внимание к своему чистому наличию в тех ситуациях, когда сделать это более прямо не представляется возможным.
Западничество и славянофильство XIX века
Начиная с Петра и до 1917 года основные моменты русской церковной истории и ее силовые линии вообще не имеют аналогов в первых трех множествах. Здесь очень мало даже греческого и русско-греческого начала, так как преобладают влияния западного христианства, включаемые в православный контекст лишь номинально. Это католическое и протестантское «богословствование» под православным прикрытием. Для интересующих нас выводов о структуре русского и греко-православного систематического мышления и о самой чисто христианской керигме это вообще не имеет никакого значения, и может быть отнесено с полным основанием и без всяких натяжек к радикальному западничеству и чистому археомодерну. Интерпретация такого «археомодерна» входит в компетенцию философских методов (об этом говорилось раньше).
Собственно русское дает о себе знать, начиная с XIX века, постепенно возвращаясь в церковную сферу (появление вновь восьмиконечных крестов, бород у мужчин даже высшего сословия – нечто немыслимое в XVII веке, интерес к народному благочестию и т.д.). Но особенно оно проявляется в философских работах славянофилов, в становлении этнографии и фольклористики, в народничестве и интересе к русским сектам. Кульминацией этого возврата становятся тексты русских религиозных философов, которых мы под новым углом зрения рассмотрим в следующей главе.
Богословие в советский период
Поворотом становится большевистская революция, формальное отделение Церкви от Государства, начало прямых гонений на Православие, обряд, веру, культ. В советский период Русская Церковь разделяется на эмигрантскую (РПЦЗ) и остающуюся в Советской России (МП РПЦ).
В эмигрантской Церкви можно выделить два направления – софиологию о.Сергия Булгакова(19), относящуюся к попыткам соединить русскую интуицию и православную догматику (большого распространения это направление не получило и было отвергнуто официальными церковными властями), и греко-русскую линию, воплощенную в трудах позднего Г.Флоровского(20) (ранее принадлежавшего к русофилам-евразийцам), и особенно протоирея Александра Шмемана(21), о. Иоанна Мейендорфа (22) и т.д. В целом в ту же – греко-русскую -- линию вписываются и В.Н.Лосский(23) и о. Киприан (Керн)(24). Надо, однако, учитывать, что после долгих веков радикального (католико-протестансткого) западничества и на фоне западничества атеистического, коммунистического и материалистического, греко-русская линия этих богословов может показаться вполне патриотичной, консервативной и даже «славянофильской», если не вникать в детали.
В Советском Союзе для богословских размышлений ситуация складывается не самым подходящим образом, и МП РПЦ озабочена только одним – сохранением себя в ситуации жестких гонений коммунистической агрессивно атеистической тоталитарной власти. На какие уступки коммунистам приходится идти духовенству сегодня сказать трудно, но совершенно очевидно, что никаких внятных оценок историческим этапам в этот период ожидать не приходилось.
Правда, есть несколько исключений
В первую очередь, трудно переоценить факт восстановления патриаршества на Руси и избрания первым Патриархом после синодального периода патриарха Тихона. При других обстоятельствах это означало бы коренной перелом в истории Русской Церкви и само по себе требовало серьезных экклесиологических интерпретаций. Но перед лицом полной апостасии и начала красного атеистического террора это событие несколько потерялось.
В 1920-е годы определенными кругами делаются попытки объединить староверов и новообрядцев в рамках Единоверия (особенно показательны усилия епископа Андрея (Ухтомского)(25)), а также обретение беглопоповцами полноты иерархии – через переход к ним в сущем сане епископа Николы (Позднева) из Церкви господствующей (нынешняя Новозыбковская иерархия). В 1928 году местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) выпускает постановление «Деяние архипастырей»(26), в котором, почти между прочим, снимает клятвы со старообрядцев и отменяет постановления Собора 1666-1667 годов, вменяя их «яко не бывшие». Правда, в той ситуации на это мало кто обращает внимание. В 1971 году уже на новом этапе, но также при доминации атеистической власти, поместный Собор МП РПЦ по инициативе митрополита Никодима (Ротова) вновь обращается к этой теме и своим решением еще раз подтверждает снятие клятв со староверов и отмену деяний собора 1666-1667 годов. Однако ни тогда, ни теперь серьезных выводов из этого важнейшего решения, видимо, никто так и не сделал, и этот новый вектор в осмыслении истории русской церкви остался без должного внимания.
Объединение РПЦЗ и МП РПЦ и предшествующая ей канонизация новомучеников, включая последнего Русского Царя и его семью, была логическим шагом, спряженным с распадом СССР и концом коммунистической диктатуры, но значение и этого события должным образом пока не осознано.
Структура русской церковной истории
Подводя итог беглому обзору официальной версии истории русской церкви в рамках четвертого множества (герменевтического эллипса), мы можем заключить, что в нем содержатся целые пласты, которые могут быть довольно легко перемещены в третье множество (моменты проявления и отчетливого формулирования основ Русского православия – например, почти весь Московский период, Москва-Третий Рим и т.д.) и ряд моментов, которым место во втором (например, нестяжатели, Максим Грек, деятели книжной справы и преобладающие силы «греческого» собора 1666-1667 годов, мажоритарные тенденции эмигрантского богословия ХХ века и т.д.). Кроме того, наметился ряд тенденций – таких, как проникновение католических и протестантских влияний. Сюда же можно отнести «модернизаторские» тенденции – такие как «обновленчество», «живая Церковь» или попытки сопрячь Православие с материалистической и позитивистской наукой. Эти явления вообще не укладываются в рамки Православия и имеют место в каком-то пятом множестве, которое можно выделить для того, чтобы разместить в нем разнообразные «ереси», которые, в свою очередь, можно разделить на два класса – народные (они могут нам понадобиться при более внимательном исследовании философии хаоса) и импортные, чаще всего западные (как имеющие христианские черты – католицизм, протестантизм, так и чисто позитивистские и материалистические).
Благодаря даже самому общему и приблизительному рассмотрению русской церковной истории сам метод корректной классификации по множествам становится ясен и отныне представляет собой дело техники.
Русская святость
Единственно, что осталось нами совершенно не затронутым, это – первое множество, то есть чистая евангельская керигма.
Ее следует рассмотреть на основе русской святости как самостоятельного феномена. В русской святости есть фигуры преподобных святых подвижников, монахов и святителей -- таких, как Антоний и Феодосий Печерские, преподобный Сергий Радонежский. Их свидетельства – чудеса веры, аскетики, деяния, высказывания, наставления. Это опыт живого соприкосновения с тем, о чем говорит нам сама Благая Весть через все формы языкового откровения и все стороны церковного предания. Это – высший горизонт русской святости, который имеет некоторое безусловное русло, очевидность и каноничность которого никем и ни при каких обстоятельствах не может ставиться под сомнение.
Вторая категория святых – это ставшие святыми православные князья и княгини – начиная со святой княгини Ольги, святого князя Владимира Красно Солнышко святых благоверных князей Бориса и Глеба до святого благоверного князя Андрея Боголюбского, святого добропобедного Александра Невского, святой Анны Кашинской и благоверного великого князя Димитрия Донского. У них святость сопряжена не только с православным благочестием, но и с великим делами, совершенными на благо Православия и Православной Руси, а также со страданиями, которыми им довелось вынести на этом поприще.
Третья категория -- святители, то есть высшие чины церкви, такие как Феодор Суздальский, Леонтий Ростовский, Никита епископ Новгородский, Киприан Московский, Филипп Московский, Иов, патриарх Московский и иже с ними. В их святости сказались труды на устроение Русской Церкви.
Еще есть мученики, священномученики и юродивые Христа ради. Здесь в основе лежит жертва во имя Христовой веры и трудный подвиг юродства.
Все вместе они составляют сонм русских святых, которые совокупно представляют собой Русскую Церковь на небесах, в которой запечатлено неложное свидетельство истины Веры Христовой и его Благой Вести.
В святости русские выходили за границы текста, богословия и философии и воплощали в своей плоти и крови высшее значение, содержащееся в Новом Завете.
Сама святость и составляет первое множество сверхязыковой истины Православия, и русские святые идут к этой истине кратчайшим путем – через собственный подвиг, знаменуя всей свой жизнью неложность Божиих обещаний. Однако повествования о подвигах и житиях святых становятся, в свою очередь, текстами, которые подлежит правильному прочтению и верной интерпретации. И в этом смысле составленные русскими и на русском языке жития святых и повествования об их деяниях имеют колоссальное значение для конституирования собственно русского богословия и его философской основы.
Сопоставляя между собой множество русской святости и множество собственно русского Православия, мы можем понять многие моменты, которые связывают Русскую Церковь с Вселенской Небесной Церковью Христа.
Вместе с тем, и сонм других – нерусских – святых, преподобных, святителей, мучеников, благоверных князей и императоров – также относятся именно к этой Небесной Церкви. Поэтому знакомство со всей полнотой святоотеческой традиции, с деяниями первых христиан, а также с историей православной святости – среди каких бы языков она ни обнаруживалась – может стать важнейшим содержанием для того, чтобы составить представление о том, в чем состоит суть Православия в его сверхъязыковом измерении. Если на уровне экзистенции, философии и богословия между русской церковной культурой и греческой, латинской или какой-то еще, действительно, существуют фундаментальные контекстуальные различия, которые необходимо выявить, корректно описать и поместить по надлежащим секторам, то в области святости все эти ограничения упраздняются, и «все и во всех Христос».
Глава 14. Русское Начало и темы русских философов (пересмотр отношения)
Многоцветный поддонный ум может быть судим только всенебесным собором
Н.Клюев
Врачи и пациенты
В ходе нашего исследования мы выявили ряд моментов, которые позволяют нам по-новому взглянуть на русских мыслителей, пытавшихся с начала XIX-го века включиться в собственно философский процесс, и совокупность трудов которых, как мы показали, нельзя называть «русской философией». Вначале мы констатировали лишь то, что эти труды находятся под решающим воздействием парадигмы археомодерна и, следовательно, не могут иметь однозначной и корректной интерпретации, сами будучи не методами излечения заболевания, но симптомами болезни, не «врачами», но пациентами, нуждающимися в уходе, надзоре и лечении. Так обстоит дело с русскими философами, если принять их творчество, как оно есть, в согласии с общим парадигмальным археомодернистическим контекстом. Так как сам археомодерн и есть болезнь, то любые попытки построить философию внутри него, не выходя за его рамки и не предлагая форм излечения, может рассматриваться только как история болезни.
Но сама история болезни может быть прочитана в двух принципиально различных контекстах: ее могут читать как другие пациенты, так и доктора. Правда, в русском обществе, как в фильме Шванкмайера «Безумие», нельзя исключить, что роли врачей и пациентов давно и многократно перевернулись, и сейчас точно определить «кто есть кто» представляется серьезной проблемой. В любом случае читателем-пациентом является тот, кто не способен воспринять (пусть интуитивно) археомодерн как болезнь и не ищет (отчаянно) способов из него вырваться. В таком случае, чем бессмысленнее и патологичнее будет «философский» текст, тем больше у него шансов быть воспринятым как нечто само собой разумеющееся: помешательство отлично сочетается с другим помешательством, умножая и расширяя границы общего безумия.
Эту патологическую сторону русских философов мы и пытались акцентировать в начале нашего исследования, чтобы расчистить путь к фундаментальной деконструкции («онтологической деструкции», по Хайдеггеру), то есть к излечению археомодерна. Пытаться понять, что имели сказать «русские философы», строго следуя за тем, что они сказали, и делать это в контексте новых изданий археомодерна, включивших в себя за сто с лишним лет пласты советского бреда и бреда либерального конца ХХ-го --начала XXI-го веков, совершенно бессмысленно и никуда никого не приведет.
Это утверждение сохраняет свое значение и в настоящий момент. Вместе с тем, кое-что изменилось в самой возможности отнестись к русским философам как-то иначе. Учет хайдеггеровской истории философии (и несколько шире, феноменологического подхода), позволившего отслоить от нашего археомодерна собственно западноевропейский герменевтический круг; внимательное изучение русского дазайна и его структуры; описание его экзистенциалов; наброски философии хаоса/хоры, и выявление особенностей русского отношения к Четверице (особенно к оси Бог-человек) дало нам в руки мощный инструментарий для того, чтобы подойти к некоторым продуктам археомодерна с иной стороны, с позиции врачей -- прочитать историю болезни глазами внимательных и заботливых докторов, призванных облегчить страдание своих пациентов, а если возможно, то и вернуть их к нормальный жизни, к их жизненному миру.
Сквозь текст к русскому Началу
Теперь у нас есть первичное структурное знание о русском Начале и русском дазайне, а значит, мы выяснили – пусть пока еще приблизительно – природу того, что именно является носителем заболевания (археомодерн) и, соответственно, что следует лечить. Зная о русском дазайне то, что мы уже знаем, мы теоретически способны отделить самого больного от его болезни, отстраниться от его показаний, подобрать к дешифровке несвязного бреда точные и соответствующие операции по его интерпретации, толкованию и декодированию. Теперь мы получили возможность приблизиться к тому, что пытались сказать русские философы и чего они, говоря все то, что они сказали, не сказали. С опорой на русский дазайн мы сможем пройти сквозь их тексты к истоку этой попытки, и тогда сам этот путь на каждом его этапе начнет сообщать нам о новых и новых фрагментах, которые отныне могут быть расположены не как получится, а в более или менее определенной системе, пусть хаотических, но координат. Проделав это, мы начнем формировать более конкретную топику возможной русской философии и постараемся спасти русских философов и их дело из-под завалов археомодерна, вернуть им их достоинство, их ценность, их мысль, превращенную в нечленораздельный раздражающий гул пациентами следующих поколений или их коллегами по палате.
Второй раз мы подходим к трудам русских философов, но теперь с новым инструментарием и новыми намерениями. Вначале нам надо было отмахнуться от их претензий на русскую философию и показать нелепость таких попыток. Сейчас, напротив, мы постараемся выделить в их трудах моменты, которые так или иначе соотносятся с русским дазайном, и следовательно, являются не просто симптомами археомодерна, но могут служить структурными элементами того, что только еще предстоит создать – искомой русской философии.
Вновь к Соловьеву
Вновь обратимся к Владимиру Соловьеву и к главным мотивам его философских работ: к образу Софии и идее всеединства, откуда он выводил все остальное.
В настоящий момент мы будем исходить из гипотезы, что Владимир Соловьев был не просто дезориентированным образованным чудаком, у которого обрывки западноевропейской метафизики и онтологии, перемешанные с мистицизмом, католической и протестантской теологией, накладывались на невнятное и только еще все оглупляющее непроявленное «русское начало», но носителем русского дазайна, то есть полноценным русским человеком (из добротной крестьянско-священнической семьи), через которого русский дазайн хотел нам о чем-то сообщить. В этом случае дискурс Владимира Соловьева приобретет новый смысл, новую цель и новое содержание.
София: поиск денотата
Главным денотатом его повествования можно считать Софию. Говоря о Софии, Соловьев (как мыслитель, выражающий русский дазайн) что-то имел в виду. Этим называнием, этим именем он на что-то указывал. Центральность Софии, ее образа в его творчестве, указывает на то, что для него это было главным и значимым, к чему он стремился привлечь внимание и от чего не мог всю жизнь оторваться. Если бы мы рассматривали Соловьева как индивидуума, то могли бы просто отмахнуться от его обсессий, если он не смог описать их ясным и внятным языком и четко заведомо определить, о чем он говорит. Но коль скоро мы пытаемся смотреть сквозь Соловьева, и допускаем там -- в этом «сквозь-Соловьеве» -- наличие русского дазайна, то все меняется, и София как главное для Соловьева начинает приобретать смысл и значение и для нас.
Святая София (Santa Sophia) или Вечная София (Sophia Perennis) представляет собой образ, который объединяет в себе два философских понятия -- Божественный Разум и Женское Начало --которые, начиная уже с Платона, так или иначе конфликтовали друг с другом:
Божественный Разум мыслился как Отец, носитель власти, организатор Вселенной, парадигма Бытия. В христианской традиции все лица Пресвятой Торицы также мыслились в образах мужчин и Божественный Разум считался высшей организующей силой, наложенной на имманентные вещи мира волей трансцендентного Начала.
Женственность же ассоциировалась с имманентными, близкими, естественными, природными вещами, которые по отношению к мужской организующей, разумной и волевой инстанции Бога находились в пассивном положении. Строго говоря, с философской точки зрения вопрос ставился так: либо Божественный Разум, либо Женское Начало. Конечно, в греческой мифологии и в мифах других европейских народов были женские божества, и некоторые из них – такие, как Афина Паллада, Минерва и т.д. – связывались с мудростью и разумом и при этом приобретали многие мужские черты (воинственность, агрессивность, жестокость и т.д.), а в общем контексте мифологических персонажей выступали как проводники высшей воли мужского Зевса/Юпитера. В их описании мы видим скорее идею того, что, приближаясь к мужской мудрости, даже женщина начинает обладать мужскими чертами -- безусловно, за счет частичной утраты собственно женских свойств. (Вспомним миф о Парисе, выбиравшем из трех богинь -- Афродиты, Артемиды и Афины – самую красивую и женственную; таковой оказалась Афродита, а у Афины не было никаких шансов).
В рамках философии у фигуры Софии места не находилось, а христианская теология, боровшаяся и с мифом и с язычеством, вообще сделала эту тему маргинальной. Чаще всего под «Софией –Премудростью Божьей» понимался Бог-Слово. София как мудрость и Логос как Слово и Разум означали близкие, а то и тождественные понятия(27).
Конечно, в христианской мистике были случаи обращения к образу Софии, сходные с интенцией Соловьева – как в случае Генриха де Сузы, основавшего «братство Премудрости» и описывавшего свои видения «прекрасной дамы на облаках, полной любви и целомудрия». Но даже для католической традиции это имело чисто маргинальное значение, не говоря уже о философии. В протестантизме тему Софии поднимает Якоб Бёме, и от него она переходит к Гёте и романтикам, но в этом случае мы еще дальше удаляемся от собственно философии и классической теологии. Православная же традиция от такого рода идей, отождествлений и образов далека чрезвычайно(28).
Разумеется, если не сам образ Софии, то идея священного Начала, которое находилось бы между трансцендентным Богом и имманентным земным человеческим миром, всегда являлась мотивом, чрезвычайно распространенным в мистике как таковой. Чаще всего образом, в котором заключено представление об имманентной трансцендентности, выступает «ангел» или «архангел», посредник между Тем и этим. Упорядоченность философского и теологического миров требует, в первую очередь, разделения между Божественным и мирским: это основа порядка во всех его проявлениях. Но если нормой является разделение, то должны быть и исключения, состоящие в том, что в определенных – священных – моментах дистанция между Тем и этим снимается, преодолевается и открывается парадоксальная возможность ее переступить(29). В иудаизме, и особенно в каббале, это воплощено в фигуре «шекины», «женского (имманентного) начала в Боге».
София в неоплатонизме
Стоит особо оговорить такое явление как неоплатонизм. Неоплатонический подход так или иначе лежит в основе всех мистических направлений в монотеистических традициях, так как он исходит из того, что феноменальный мир есть прямое проявление (манифестация) мира идеального (Божественного), а следовательно, переход от первого ко второму и их взаимодействие не просто возможны, но являются главной задачей человека (философа). Местом встречи феноменального (реального) и идеального (Божественного) является София, называемая иногда «Sophia Perennis» (Вечная София-Мудрость). Это полностью укладывается в общую топику платонизма, рассматривавшего философа как созерцателя божественных идей и как существа, обращенного от мира вещей к миру идей, -- в этом и проявляется его «любовь к Софии», то есть смысл фило-Софии как таковой.
В христианской форме – в частности, через труды Климента Александрийского, отцов Каппадокийцев и Ареопагитик, не говоря уже об Оригене – он в значительной мере повлиял на становление ортодоксального богословия в целом. В Средневековье этот подход вдохновлял герметическую традицию в Европе и исламском мире, а в Возрождении – через труды Николая Кузанского, создание Платоновской Академии во Флоренции (Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола и т.д.) и активную деятельность таких философов, как Томмазо Кампанелла, Томас Мор, Иоганн Рейхлин, Агриппа Неттесгеймский, Парацельс, Джордано Бруно, Джон Ди, Роберт Фладд и т.д. – стал претендовать на роль самостоятельной философии, стремившейся заменить собой доминировавший ранее схоластический аристотелизм(30). В протестантизме платоническую традицию подхватил Яков Бёме и его последователи (в частности, Иоганн Гихтель).
Все это в значительной мере повлияло на становление мировоззрения Нового времени, но лишь в своей отрицательной части, направленной на ниспровержение схоластического аристотелизма, Птолемеевской географии и геоцентризма, неоспоримого авторитета Церкви. При этом в позитивной программе Нового времени возобладал отличный от платонического подход в духе номинализма, воплотившийся в эмпиризме, рационализме, механицизме и, впоследствии, в материализме. В основу него легли идею Френсиса Бэкона с его критикой «идолов», «предрассудков» (под ними он имел в виду в том числе и платоновские идеи) и призывом к покорению природы, а не к ее созерцанию и спасению (как у платоников и герметиков). Таким образом, на заре Нового времени неоплатонизм в Европе маргинализируется, сдвигается на периферию, а доминирующей линией с XVII века прочно становится эмпиризм и рационализм.
София и русское Начало
Именно этот набор значений и интуиций в духе неоплатонического мистицизма Соловьев вкладывает в образ Софии, расшифровывая с его помощью свою базовую галлюцинацию, с которой начинается его творчество.
Мистическое содержание и определенную неслучайность самой структуры такого опыта нельзя ставить под сомнение. Это, действительно, имеет определенную историю и близкие аналоги в разных религиозных и мистических учениях. Другое дело, что ни к философии, ни к строгому православному богословию это напрямую не относится.
Если же мы сопоставим «интуицию Софии» с тем, что нам известно о структуре русского дазайна, и особенно о специфическом измерении русского дазайна по оси Бог-человек, то нам станет кристально ясно, что хотел сказать Владимир Соловьев, настаивая на этом образе. На самом деле, он стремился выразить одновременно две — причем главные! – стороны русского Начала:
· принадлежность русского дазайна к интенциональной мысли Бога (имманентность русского дазайна Богу, понятому по-русски) и
· материнскую (женскую) философию хоры (cora), отвечающую за то, что по обе стороны от ее фундаментального движения разделения (corizo) наличествует не одно и другое, но одно и то же, то же самое, Это и Это.
Тут мы пришли к интересному моменту: мы начали с того, что археомодернистическая путаница Соловьева и софиологов никак не может быть признана «русской философией», поскольку на нее катастрофически влияет западноевропейский герменевтический круг, с помощью которого Соловьев пытался выразить свои интуиции и который фатально превращал их в нелепицу (такую, например, как глупейшая идея объединения западной и восточной церквей). Но сейчас мы видим, что под завалами фрагментарности, сбоев и некорректных искажений герменевтического эллипса у того же Соловьева таилась самая настоящая «русская философия», пытаясь пробиться и заявить о себе во всеуслышание, как только жестокая хватка западнических элит стала хоть немного ослабевать. Заявляя о Софии, Соловьев заявлял на самом деле о русской философии и ее структуре, доказывал ее возможность, предвосхищал ее содержание.
Иными словами, мы пришли к удивительному выводу: русская философия есть, но, чтобы опознать ее, обнаружить ее, следует предпринять чрезвычайные усилия – наверное, сопоставимые с теми, которые потребовались бы для того, чтобы создать ее заново.
Русская София как другая София
Однако здесь следует быть весьма осторожными. Дело в том, что сам Соловьев, так или иначе оперируя с платонизмом, и в этом остается под влиянием Запада. Поэтому-то он ставит Софию на границе между миром Божественным (миром идей) и миром феноменальным. Это светлая четко структурированная мистика, в значительной степени выстроенная вокруг оси Логоса. В европейской философской топике в этом нет ничего собственно женского, это скорее Афина-воительница, которая находится на границе между страдательным космосом и деятельными миром идей, но со стороны идей. Женственность (космичность, феноменальность) Афины жестко подчинена мужественности ее идеальных функций. Она даже рождается без матери, напрямую из головы Зевса. Афина – женщина без женских свойств, женщина-маскулиноид. Такова в значительной мере София героической и мужественной европейской мистики. София поэтому девственна, она никого не рождает, не создает. Она воюет и властвует, давая пример того, как следует поступать всем европейцам, ищущим истины и рвущимся к миру идей. Да, Афина ближе к космосу, чем чистые идеи, но эта парадоксальная близость только добавляет образу воинственной ярости: идеальное негодует, сталкиваясь со своим искажением в феноменальном, стремится все исправить, нещадно насилует копию, чтобы сделать ее максимально похожей на оригинал (парадигму). Афина – богиня аскетов и воинов, героических, упорядоченных, преданных Логосу мужчин. Афина – скандинавская Брунгильда, недоступная валькирия, превращающая мужчин в женщин – так сильно в ней мужское начало.
Такова ли София Соловьева, София русских религиозных философов и русских поэтов? Совершенно очевидно, что нет. Эта русская София – женщина с женскими свойствами, женщина по преимуществу, женщина в апогее женственности, с ее душной красотой, ускользающей двусмысленностью, вечной игрой, упругой неопределенностью, томной нежностью, заботливым материнством, темным страданием, неспровоцированным порывом, глубинной, не известной мужчинам тоской. Ее совершенство – в несовершенстве, ее окончательность – в открытости; ее предел – в бездне; ее свет – темен; ее мысль – льнет к земле и норовит заползти в первую встречную нору; ее дух – прощает; она всегда рождает и красивое, и уродливое, и удавшееся, и бракованное, и все это она с равной силой любит и обо всем заботиться. Русская София – Кормилица, она – Восприемница, она – Мать. Она – материя сновидений, о которой говорил Шекспир. Если она и София, то другая. Она вообще есть Другое, чем все то, что можно себе представить – и в феноменальном, и в идеальном. Но такое Другое, которое делает все – Этим, включая саму себя.
Владимир Соловьев в образе Софии увидел невидимую хору – третье начало Платона; но опознать ее ему помешал его европоцентризм (все тот же археомодерн).
Конечно, специалисты в этом тонком вопросе могут возразить: есть учение о двух Софиях (в каббале -- о двух «шекинах», у Платона в «Пире» Павсаний говорит о «двух Афродитах» и т.д.); одна из них Небесная, другая – земная. Одна – вечно у Бога, другая – в изгнании, на земле, вместе с людьми, с их горестями и радостями. (В каббале это описывается в образах Рахили и Лии и в двух буквах «хе» непроизносимого имени Бога – «Тетраграмматона»). И задача мистика состоит в том, чтобы понять их недвойственность. Все верно, но и в этом случае – на сей раз на мистическом уровне – мы сталкиваемся с имплицитным подразумеванием полного превосходства Порядка (Неба) над хаосом, то есть с знакомым нам европейским Dasein'ом.
Но с точки зрения хоры, все представляется иным. Есть только одна инстанция – это земная София, только она недвойственна и по-настоящему бесконечна. Внутри нее – а не вне ее – есть всё, в том числе и превосходящий ее саму Порядок, Небо. Небо, будучи другим, нежели она, есть одновременно она же сама. Поэтому в Небе есть след хоры. Он-то и называется «небесной Софией», как след Софии земной, главной и единственной, несущей в себе всё.
София и хаос (Тютчев и Блок)
Русская философия – это философия земной Софии. Наверное, тоньше всех это прочувствовали русские поэты – Тютчев и Блок.
Тютчев пронзительно схватил тему хаоса в своем знаменитом стихотворении(31):
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!.. ..
О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..
Вот это настоящий философский дискурс. Голос «родимого» хаоса – ночной ветер. Обратите внимание, как поэт описывает речь ветра. Она «роет» (сердце). Она «твердит» (твердость Земли). Она «взрывает» (сознание). Она повествует о «муке». И далее: «как жадно мир души ночной внимает повести любимой!» Это – о русской душе, для которой повесть о хаосе, о хоре, то есть о земной Софии – повесть любимая, самая любимая изо всех повестей. И что же хочет этот «мир души ночной»? Он «рвется из груди» и «с беспредельным хочет слиться». Это и есть философия, интеграция индивидуума с русским дазайном, растворение эго в безграничности великой первоосновы. Это реализация хаоса.
Родимый хаос – подлинное имя русской Софии.
Тему соотношения родимого хаоса и Порядка точно уловил и Блок, сделавший наряду с поэтами Андреем Белым и Вячеславом Ивановым Софию центральной темой поэтического творчества. В статье о Пушкине «О назначении поэта»(32) Блок пишет такие строки:
Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок - космос, в противоположность беспорядку - хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос - родной хаосу, как упругие волны моря - родные грудам океанских валов. Сын может быть не похож на отца ни в чем, кроме одной тайной черты; но она-то и делает похожими отца и сына.
Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос - устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония.
Мировая жизнь состоит в непрестанном созидании новых видов, новых пород. Их баюкает безначальный хаос; их взращивает, между ними производит отбор культура; гармония дает им образы и формы, которые вновь расплываются в безначальный туман. Смысл этого нам непонятен; сущность темна; мы утешаемся мыслью, что новая порода лучше старой; но ветер гасит эту маленькую свечку, которой мы стараемся осветить мировую ночь. Порядок мира тревожен, он - родное дитя беспорядка и может не совпадать с нашими мыслями о том, что хорошо и что плохо.
Здесь следует обратить внимание на слова «Космос – родной хаосу»; это явная реминисценция тютчевских строк. Это родство нелегко схватить, так как оно выражается подчас лишь в «одной тайной черте». Эта «тайная черта» есть присутствие земной Софии. И это присутствие, точно как у Тютчева, внушает тревогу. Отсюда гениальное и абсолютно русское прозрение – «Порядок мира тревожен». Вдумаемся в то, что это значит. Порядок есть противоположность тревоге, он-то и дает уверенность и чувство надежности. Конечно, всегда есть нечто, что тревожит Порядок, стремится его поколебать. Но это мыслится приходящим извне. Тревога – внешняя по отношению к Порядку. Так обстоит дело на Западе. А в России тревожен сам Порядок. Хаос присутствует не вне его, а в нем самом, как та самая «тайная черта». Сам Порядок есть скрытый хаос; разум -- частный случай безумия; свет – ослепляющая нас тьма.
И развивая эту мысль, Блок проникает в онтологию изменений. Говоря об «отборе культур» как о сущности исторического процесса, Блок прозревает за этим не приход «нового», но игру древнейшего, вечного, безначального. «Новое», сменяющее «старое», опрокидывающее ветхий Порядок, чтобы заменить его чем-то не бывшим ранее, несет на себе отпечаток чего-то гораздо более древнего, коренного, архаического. Новый Порядок – в культуре и политике -- всегда древнее того, который он собой замещает. История и «мировая жизнь» таким образом представляют собой фонтаны древнего хаоса, извергающего из себя лаву бытия. Эта лава застывает, и тогда снова растворяется в «безначальном тумане», а великая хора исторгает из себе новые темные струи, воспринимающиеся наивным человечеством как «прогресс». И Блок честно признается – «смысл этого нам непонятен». Верно. Смысл хаоса и его работы нам непонятен, так как он есть само понимание, он действует сквозь нас и он есть та инстанция, которой вручено понимание. Мы никогда не можем оказаться с хаосом лицом к лицу, так как он не находится никогда только на одной стороне. У него есть лицо – это наше, русское лицо. Но в зеркале оно не отражается. Это лицо нашей души. Это лицо -- Софии.
Коррекция социологии и русская философия
Отождествление Софии с хорой выводит эту тему за пределы классического платонизма и неоплатонизма, которые – и в этом Хайдеггер абсолютно прав – предопределили судьбу западноевропейской философии. Более того, мы видели, что эта судьба коренится в самой структуре европейского Dasein'а. Платоническая Софии – образ, сопряженный с духовной судьбой Запада. Русская София имеет иную природу и обнаруживается в том, чему сам Платон и все его последователи большого значения не придавали. С позиции Софии/хоры вся структура платонизма будет перевернута. Логос, Порядок, свет, дистинкции, душа, дух – все приобретет иную структуру, окажется друг с другом и со своими противоположностями в радикально новых отношениях. Что-то из этих новых отношений угадывается в философии Владимира Соловьева; что-то прячется под наносом археомодерна. Чтобы окончательно вывести Соловьева к чистоте русской философии (для ее предвосхищения он, как оказывается, сделал чрезвычайно много, несмотря на все оговорки) необходимо проделать основательную и систематическую ревизию его творчества, особое внимания уделяя как раз наиболее «бредовым» и «нелепым» его сторонам. Соловьева следует исследовать как юродивого, сновидца, одержимого, «possede», «obsessed», выявляя в бреду и развинченной эхолалии структуры трудно постижимого послания. Неслучайно, лучше всего Соловьева поняли именно русские поэты, настроенные на волну интуитивного эстетического восприятия и чуткие к зову иррациональных глубин. Поэтому в творчестве поэтов Серебряного века (33) лежит ключ к тому, что хотел сказать Соловьев в своей философии. А значит, эта поэзия является важнейшим инструментом в деле обнаружения полноценной русской философии.
Результаты ревизии, о которой идет речь, на полном основании смогут считаться самой настоящей русской философией.
Экзистенциальное толкование Всеединства
Другая центральная идея в творчестве Владимира Соловьева, тесно связанная, впрочем, с темой Софии – идея всеединства, также должна быть рассмотрена в топике русского дазайна.
Всеединство – это глубинная интуиция связи всего со всем в условиях, когда все, напротив, кажется различным и несвязанным. Совершенно очевидно, что всеединство претендует сказать нам нечто иное, нежели классическую догму монотеизме о Единстве и Единственности Бога. В богословии Единство и Единственность Бога мыслятся как нечто трансцендентное. Тварный же мир, напротив, жестко отделен от Бога (создан из ничто) и состоит из различий. Единство мира – чисто отрицательно; все тварные вещи объединены только одним – все они в равной степени не есть Бог. Все, поэтому, различно и раздельно, а Един только Бог.
Явно Соловьев хочет сказать нам что-то другое, а не общее место классической монотеистической догматики. Он хочет сказать нам именно о единстве всего (феноменального, имманентного), которое существует вопреки его разделенности и с Богом (ничтожность твари) и друг с другом.
Всеединство – это факт причастности всех вещей к родимому хаосу, наличие во всех них общей «тайной черты», которую проницательно заметил Блок. Всеединство возможно только с позиции философии хоры, когда дифференцирующий Порядок мыслится одновременно в двух взаимоисключающих формах: как дифференцирующий и как не дифференцирующий. Всеединство возможно только тогда, когда наличие хаоса угадывается в центре самого Порядка, запечатлено на его челе тайным знаком. Напомним, как мы описывали русскую топику хору: по обе стороны от различающего мышления будет не разное, а то же самое – «все единое».
Поэтому всеединство следует мыслить как нечто исключительно русское, вытекающее из самой структуры русского дазайна.
Конечно, сам Соловьев всячески протестовал против такого толкования, искренне полагая, что пишет о чем-то «универсальном» и «общечеловеческом», что должны быть внятно и дифференцированной западной культуре и «деспотическим» культурам Востока (о которых у Соловьева, как и большинства русского общества того времени имелись самые карикатурные представления). Пребывая в археомодерне, он не мог различить в собственном дискурсе европейский и русский герменевтические круги, а в сравнении с официозным и довольно казенным «русским национализмом» того времени он искренне полагал, что учит о чем-то совершенно ином. Это же помешало увидеть ему и глубинные прозрения Достоевского в сущность русской судьбы, которые он истолковал превратно и поверхностно. Но вне пределов русского дазайна всеединство полностью утратит всю свою остроту. В рамках западной философии Нового времени, это смотрится как дичайший анахронизм и вздор. Для европейских мистиков и платоников – как пантеистическая и имманентистская банальность «эманационистского» взгляда на мир. Для русских либералов и прогрессистов это представлялось «средневековым» мракобесием. Для казенных «националистов» -- странной разновидностью космополитизма, западничества и филокатоличества. Таким каким понимал «всеединство» сам Соловьев, оно никому было не нужно тогда, как не нужно и теперь. Но вот его прочтение в духе философии хоры, в свете особой структуры русского дазайна, не различающего Это и То, становится по-настоящему ценным и монументальным.
О. Сергий Булгаков: проблематика Творения
Теперь совершенно иными глазами мы можем посмотреть и на софиологов, развивавших идеи В.Соловьева – в первую очередь, на творчество о. Сергия Булгакова. В наших руках – инструментарий для его корректной дешифровки в духе философии хаоса.
О. Сергий Булгаков в «Свете Невечернем» (34) дает обзор той традиции мысли, к которой он явно относит и софиологию, начиная от Платона через неоплатоников эпохи эллинизма, Средневековья (особенно подчеркивая линию православного платонизма), Возрождения и иудейской каббалы вплоть до нашего времени. В центре его внимания находится попытка выяснить, как Божество (в платоническом понимании) соотносится с миром (тварным миром, миром становления, объективным миром, чувственно воспринимаемым миром), и где в этом отношении находится место человека(35). Булгаков стремится найти во всех философских и богословских учениях ту осевую мысль, которая описывала бы возможность прямого опыта Божества у той части мира, которой является человек. Божество (демиург у Платона), творя мир по своему образу и подобию, остается вне его. И сам мир обоснован именно своим нетождеством Божеству. Подобие дает миру форму Божества, а трансцендентность Божества обрекает мир на то, чтобы его субстанция была радикально иной, нежели само бытие Божие.
Для о. Сергия Булгакова это главное. Двойственный статус мира – по форме он похож на Бога, по природе (субстанции материи) радикально отличен от Него – спокойно и беспроблемно принимается всем миром, кроме человека, душа которого, полная любви и ностальгии, ищет всеми силами Бога – не далекого, но близкого, не там, а здесь, и не может смириться с разделением. Это начало всякого мистического опыта.
Философия и богословие устанавливают дистанции, расстояния, образуя «пространство расставания». Мистика стремится эти дистанции и расстояния преодолеть, а «пространство расставания» отменить, превозмочь или заменить на что-то другое. На что?
У о. Сергия Булгакова есть ответ: это София. София мыслится как та уникальная зона бытия, где в качестве исключения, в статусе чуда, различие природ Бога и мира при определенных условиях преодолевается. Не отменяется, не отрицается и не отвергается, но именно преодолевается.
Отсюда закономерный интерес Булгакова (равно как и П.Флоренского, другого софиолога) к исихазму. Святой Григорий Палама(36) говорил об этом в своих спорах с Варлаамом приблизительно так: «Бог превыше всего. Он превыше разума. Он настолько превыше разума, что непознаваем. Но Он настолько превыше разума, что сказать, что Он непознаваем, означало бы, что разум все-таки сумел Его познать – то есть точно установить Его непознаваемость, а это уже форма – познания. Значит Бог не только непознаваем, но и не непознаваем». Из этого следовала апология и обоснование исихастской практики и, в частности, признание нетварности Фаворского Света и возможности его созерцания в сердце человека.
Монотеистический неоплатонизм и проблема «третьей природы»
В исихазме, развивающем основные установки Ареопагитик, мы имеем дело с апофеозом православной мистики, вобравшей в себя некоторые неоплатонические идеи. Но и в западной традиции встречаются чрезвычайно сходные мотивы и образы мысли -- от Боэция через Скота Эриугену, Мейстера Экхардта, Генриха фон Сузо и Николая Кузанского до платоников Возрождения (Мегист Плифон, Виссарион, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандоло, Джордано Бруно), кембриджских платоников, Якова Бёме, Гихтеля вплоть до немецкого романтизма (Гете, Шеллинг и Гегель).
В центре неоплатонической мистики лежит обоснование в разных религиозных контекстах и интеллектуальных оформлениях главной темы – возможности прямого соотнесения имманентного с трансцендентным, то есть возможности прямого наличия Того в Этом. Образом, который, начиная с эпохи Возрождения, становится центральным для выражения имманентной трансцендентности, становится София, Святая София, Божественная Мудрость. Это характерно не для всех неоплатонических школ и направлений, но функционально этот образ описывает сущность общей для них установки.
В этом направлении и развертывается мысль о. Сергия Булгакова, увидевшего в образе Софии, введенном в русскую интеллектуальную среду Владимиром Соловьевым, суть своих собственных исканий от марксизма (строго имманентистского учения) до православного богословия (которое в нормативном случае ориентировано жестко трансцендентно и подчеркивает эксплицитно различие природ вечного Бога и временного, созданного из ничто мира).
Чтобы понять главное в структуре этого образа, следует обратить внимание на то, что всегда составляло (и составляет) основную трудность для платоников, философствующих в границах строгого монотеизма, и что традиционно во все века являлось главной причиной их более или менее жесткого отвержения Церковью.
Смысл платонической – точнее, неоплатонической – мистики (а также герметизма и основанных на нем теорий и практик) состоит в стремлении обосновать наличие такой природы, которая была бы третьей – по сравнению с (первой) природой Божества (вечность) и (второй) природой мира (созданного Богом из ничто, а значит ничтожной). Эта третья природа есть София. И ее толкование, онтология, строгое определение, с одной стороны, являлось главной задачей неоплатоников, а с другой стороны, почти сразу входило в противоречие с креационистской догматикой творения ex nihilo всех форм монотеизма. Все решали проблему введения «третьей природы» по-разному.
Шекина в каббале и разбитые вазы
Примером удачного решения, принятого ортодоксией, можно считать модели иудейской каббалы, трактовавшей образ «Шекины», «жилища Господа» из «Ветхого Завета», как эту самую «третью природу» или «женскую ипостась Божества». Через нее осуществлялся прямой контакт Божества с миром. Многие каббалисты отождествляли Шекину с «коллективной душой» еврейского народа, намекая на его божественную природу. Обширное поле каббалы практически во всех ее разновидностях очень напоминает неоплатонизм (возможно почерпнутый из арабских источников, так как каббала проникает в иудейские круги лишь в Средние века, а главный текст каббалистов «Зохар» составляется не ранее XIII века предположительно Моисеем де Леона), за счет чего неоплатоники Возрождения и признавали каббалу важным источником своих интеллектуальных интуиций и составной частью своих учений (Пико делла Мирандола, Иоаганн Ройхлин и так вплоть до герметиков Парацельса, Д. Ди, Р. Фладда, Э. Ашмола и т.д.). После серьезных средневековых споров о статусе каббалы, о ее ортодоксальности или еретичности, еврейское религиозное сообщество признало ее право на существование в границах приемлемого, отведя ей статус «тайного учения», доступного и открытого только для избранных. Лишь в XVIII веке восточно-европейские хасиды распространили каббалу на широкие слои и сделали достоянием обычных верующих, лишив «тайную науку» покрова тайны. В каббале жесткий креационизм иудейского богословия заменялся неоплатоническим учением о световых эманациях, излившихся из Первичного Адама (Адама Кадмона) в сефиротические вазы, которые, не выдержав света, треснули, и свет растекся по миру. Субстанция этого божественного света и составляет «Шекину», прямой аналог Софии.
Суфизм и платонизм в исламе
В исламской традиции, столь же жестко креационистской, вопрос с мистикой решался через теории и практики «ат-тасаввуфа» или «суфизма» -- тайного учения, компенсировавшего ортодоксальный трансцендентализм обращением к «свету Мухаммеда» (своего рода божественной эманацией) и к иным божественным реальностям, которые располагались не вне мира, в области трансцендентного, но в мире, внутри его.
И здесь можно проследить прямое влияние неоплатонизма, так как изгнанные византийским императором Юстинианом последние афинские неоплатоники(37) (Дамаский, Симпликий и т.д.) получили прибежище у персидского царя Хосрова I, после чего поселились в Харране, византийской области, зависимой от персов, где и основали новый интеллектуальный центр, оказавший серьезное влияние на распространение греческой мистики, платонизма, аристотелизма и герметизма во всем исламском мире. В Харране жил и знаменитый исламский алхимик и герметический философ Джабир-аль-Хайян (известный в Европе как Гебер) и формировалась структура шиитского и исмаилитского гнозиса (сам Джабир-аль-Хайян был учеников шестого имама шиитской цепи Алидов Джафара-аль-Саддыка).
Хотя крайние формы исповедуемой платониками имманентной трансцендентности иногда приводили к обвинению в ереси и казням (например, случаи Шихободдина Яхья Сохраварди или суфия Аль-Халладжа), большинство представителей суфизма и гнозиса нашли свое место в исламе и смогли вписаться в его структуры как представители «тайного учения».
У суфиев в центре практики стоит прямой контакт с Богом, который именуется «Другом», «Возлюбленным», «Ближним» и другими эпитетами, подчеркивающими преодоление «пространства расставания».
Проблематичность неоплатонизма в христианстве
В христианстве же платонизм воспринимался с большими трудностями. Неоплатоников часто отлучали от Церкви и их учения анафематствовали даже тогда, когда они полностью принимали христианскую ортодоксию и ее догматы, но стремились перетолковывать их в своем ключе. Так анафематствованию подверглись раннехристианский платоник Ориген, все направления платонического гнозиса (Валентин, Василид), а также ученик христианского неоплатоника Михаила Пселла Иоанн Итал. В Западной Европе анафематствовали учение платоников Скота Эриугены и Мейстера Экхарта. В то же время автор Ареопагитик, святой Василий Великий, святой Григорий Нисский, святой Максим Исповедник и святой Григорий Палама были признаны православными авторитетами. Удалось остаться в ряду ортодоксов и западноевропейскому платонику кардиналу Николаю Кузанскому.
Анализируя все случаи судьбы неоплатоников в монотеистических традициях, мы видим одну общую закономерность, прекрасно объясняющую случай о.Сергия Булгакова. Так как в основе неоплатонизма лежит идея «третьей природы», средней между Божественной природой и природой мира, то есть собственно Софии, ее окончательное провозглашение, описание и определение с необходимостью ведет к противоречию со строгой дуальностью догмата о творении мира ex nihilo. И мало кому – св. Григорий Палама с его учением об «энергиях Пресвятой Троицы» здесь исключение – удавалось гармонично включить хотя бы косвенное обращение к этой теме в нормативы догматической ортодоксии. Как правило, действовало обратное. Платонизм ортодоксы терпели как практику или «тайное знание» на том условии, что его сторонники не будут выносить никаких догматических обобщений и никак не претендовать на формализацию статуса той инстанции, которая стоит в центре их внимания. Как только неоплатоники пытались оформить свою доктрину в нечто эксплицитное, начинались проблемы, так как введение Софии (или ее аналогов) как третьей природы подрывало стройность главного креационистского постулата о творении из ничто и строгой трансцендентности Бога.
История с софиологией о. Сергия Булгакова, который попытался соотнести интуицию Софии и неоплатонический подход с православной догматикой напрямую, прекрасно вписывается в это общее правило. Проблема ясного описания природы Софии создает непреодолимые трудности. О. Сергий Булгаков пытался их разрешить через обращение к Ареопагитикам, и особенно исихазму, и если бы он остался на этом уровне созерцания и умного делания, едва ли к нему возникли серьезные претензии. Но он пошел дальше и попытался обосновать Софию почти как личность, опасно приближаясь к еретическому утверждению о «четвертой ипостаси» и, самое главное, трактуя (пусть не строго) «божественные энергии» как эманации, что давало возможность обвинений его в пантеизме.
Опыт русскости
Образ Софии, рассмотренный в духе классического неоплатонизма у о.Сергия Булгакова, можно сопоставить с тем, что мы назвали соотношением Бога/Наделяющего и человека в топике русского дазайна. Опыт Софии есть в конечном счете опыт русскости, пронзительного осознания принадлежности к русскому народу. С одной стороны, такое отождествление мы встречаем в еврейской каббале в образе «Шекины», а значит, сама его возможность вписана в структуру мистического мышления. А с другой, мы видим, что образ Софии в русской культуре именно так и был интерпретирован многими деятелями «серебряного века» -- Д. Мережковским, Н. Гумилевым, А. Ахматовой и, конечно, Александром Блоком. София для них отождествлялась с Русью, с ее душой, с ее тайной идентичностью, с ее женственной сутью.
Фундаментально развил эту тему в своем творчестве поэт Николай Клюев через образы «Матери-Субботы» в «Песне о Великой Матери» и во многих других стихах.
Россия, русский народ есть то измерение, в котором преодолен разрыв формальной теологии. Русское не знает Бога как Другого. Оно не знает себя без Бога, без Бога русского нет. То, что без Бога – нерусское. Поэтому тождество София=Русь есть прямое выражение структуры русского экзистенциала. А вопрос, как сочетать это с христианской догматикой, чрезвычайно тонок и деликатен. Однозначного ответа тут нет, и пример слишком прямолинейных – при всех оговорках – попыток о. Сергия Булгакова и отчасти о. Павла Флоренского, мыслящего в схожем ключе, показывает, какие траектории и пути являются блокированными.
Как бы то ни было, русский дазайн интерпретирует Православие и христианскую догматику именно так – через русскую модель богословия: в зоне русского начала «пространство расставания» заведомо преодолено, снято, его вовсе не существует.
Герметизм и русская София
София, как ее понимает неоплатонизм всех типов, располагается между миром идей и миром феноменов. Но, как мы видели, русскую Софию надо искать в другом месте – в третьем начале Платона, в хоре. В западной традиции есть одно направление, частично примыкающее к платонизму, но в определенных моментах довольно отличное от него, которое всецело уделяет внимание именно хоре. Это – герметизм, основывающий на операциях с «материальными» предметами свои духовные практики.
Материя герметизма, из которой приготовляется философский камень, есть та самая хора. Иногда она называется «живое серебро» или «ртуть философов». Название ртути в латыни образовано от имени латинского языческого божества Меркурия, отождествляемого с греческим Гермесом. По этой цепочке ассоциаций «Гермес-Меркурий-ртуть-материя философского камня-хора» и выстраивается интересующая нас концептуальная связь.
Указывая на греческие корни и мифологическую фигуру Гермеса Трисмегиста, герметизм на деле представляет собой версию неоплатонизма(38), но, в некотором смысле, перевернутого: в нем все начинается не сверху, от Единого, но снизу, с минерального уровня мира, с материи, с хоры, и отталкиваясь от этого дна мира, начинается череда перевоплощений в сторону совершенной формы – философского золота.
Герметизм основан на формуле «что сверху, то и снизу». Это означает как раз тот имманентный трансцендентализм, который лежит в центре неоплатонического мистического опыта. В зоне герметизма, в пространстве мистики нет различия между Этим и Тем -- ни такого жесткого, как в монотеизме, ни смягченного, как в платонизме языческом. Радикальный герметизм (например, Бернардино Телезио, Роберта Фладда или Джордано Бруно) вообще снимает дифференциал различия: различая, он не разделяет.
Это имеет отношение к русской интерпретации образа Софии у Соловьева. София как хора – это взгляд на дазайн снизу, с чисто имманентной точки зрения. Здесь акцент падает не на богословскую вертикальную перспективу, но на партеногенез живородящей первоосновы. Живая земля, Мать-Суббота, Русь порождает в себе мир во всех его измерениях – включая вертикаль. Но это порождение никогда не разрывает девственность живородящей утробы, она остается целой и невинной. Вертикаль остается горизонтальной, насыщая своей вертикальностью все вещество горизонтали, делая ее более не горизонталью, а чем-то еще, чем-то большим, при том, что она остается сама собой.
Это и есть русская София, вторая София, озаряющая своим присутствием низины мира, живущая в «материи», в пространстве.
Прорывы и пределы софиологии
В философии о. Сергия Булгакова, таким образом, и в русской софиологии как таковой мы можем выделить два слоя:
1) корректное описание структуры русского Начала в его отношении к Богу и миру, то есть дескрипция русской хоры – с учетом прямых герметических аналогов и приблизительных аналогов в неоплатонизме и монотеистической мистике разных религий;
2) опыт неудачной попытки совместить это описание с нормативами официального православного богословия.
Второй пункт следует признать таким, как он есть, а исследование того, в какой степени состояние современного (XX-XXI века) русского православного богословия соответствует критериям подлинно православной христианской ортодоксии, надо вынести в отдельную тему. Наблюдая, что происходит с догматической чистотой других православных церквей, в частности, греческой, болгарской или сербской, а также учитывая глубинные корни русского раскола и его последствия, вывод может быть далеко не однозначным. Но ничто, никакие исторические и экклесиологических соображения, не отменят реального противоречия между догматом о творении ex nihilo, лежащим в основе христианства, и горячим огненным стремлением превозмочь, преодолеть это радикальное разделение в теме Святой Софии, в неоплатонизме и герметизме в целом.
В любом случае, в качестве философского учения тема Софии, истолкованная в привязке к русскому дазайну, имеет все основания быть.
Федоров и бессмертие в хоре
Почти столь же положительную переоценку (как и Соловьеву и софиологии в целом) мы можем дать теперь и творчеству Николая Фёдорова. И через него говорит русская хора – почти так же невнятно и путано, как через Соловьева. Но зная ее общую структуру, мы можем теперь достоверно расшифровать то, что она силится нам сообщить.
Федоров, будучи напряженно, концентрированно русским человеком, понимает, что смерти нет и что ее не может быть: ведь по обе стороны от различающей границы ума лежит Это и Это, а следовательно, переход от этого к этому, пересечение границы есть что угодно, но только не смерть. При этом Федоров видит такую картину мира не как абстракцию, результат вдохновения или мечту, но как будничное положение дел – такое же, как полет бабочки, дуновение ветерка, визг свиньи, звон весенней капели и гул фабричной трубы. «Смерти нет» -- написано в событиях дня и покое ночи, в движении светил и тиканье часов. И чтобы это стало понятно всем, – ясно, недвусмысленно, радостно, по-русски убедительно, – надо сделать лишь небольшое усилие: надо отряхнуться от миража, посмотреть вокруг и внутрь себя, чтобы нащупать то общее, что делает всех русских людей русскими. Это и есть общее русское дело.
Мертвых нет, потому что нет живых -- как таковых, как тех, кто был бы чем-то строго отличным от мертвых. Приближаясь к стихии русского дазайна, бессмертие как невозможность умереть и безжизненность как невозможность оторвать индивидуума от всеобщего всероссийской матрицы бытия, становится будничным положением дел. И чем другим, зная об этом, таком простом и само собой разумеющемся решении, можно отныне, по мнению Федорова, заниматься, как не воскрешением мертвых?
Человеко-мир и оживающая техника
Так же в философии Федорова стоит понимать и управление погодой и природой, хотя сам он – в силу археомодерна – еще приплетает к этому «научный прогресс». На самом же деле он имеет в виду ту принципиальную неразделенность между субъектом и объектом, человеком и миром, на котором строится философия хаоса. Управлять природой следует не для извлечения из этого практической пользы, но для того, чтобы позволить природе управлять человеком, чтобы впустить ее в себя, чтобы сравняться с ней в общем всеедином, всеохватном бытии.
И в этом случае, как с отсутствием смерти, все дело в структуре русского дазайна: в нем, как мы показали, нет определенности вектора мышления -- все равно, мы ли мыслим или нас мыслит нечто, что находится вне нас.
В отношении того, кто кого мыслит применительно к самому дазайну, напротив, есть четкая уверенность – его мыслит Бог/Наделяющий и никак не наоборот. В этом аксиома русского богословия.
Но в отношении человека и мира, все гораздо более неопределенно. Так как дазайн располагается «между», строго на границе, то, в некотором смысле и по большому счету, ему все равно, откуда, с какой от него стороны, будет брошен взгляд: ведь эти стороны качественно однородны. Человек может управлять стихиями мира, поскольку он есть условный момент самого этого мира, который, в свою очередь, есть условный момент человека, а тот, снова мира и так далее, в зеркальной игре, уходящей за горизонт. Управление природными условиями и атмосферными явлениями нужно как форма игры. И в этом смысле это совершенно необходимая потребность – столь же неотложная, как влечение гераклитовского ребенка-вечности бросать кости.
Все нелепости федоровского учения становятся внятными и душевно приемлемыми, если мы освободим его тексты от следов археомодерна или же перетолкует эти следы в духе русского Начала.
Бастардный логос
Стоит только отнестись к идеям Федорова именно так, и его дискурс начинает обретать характер философии, в котором мы ему отказали в начале нашего исследования. Как и в случае с Владимиром Соловьевым, Фёдоров открывается нам как совершенно самобытный и последовательный русский философ, разрабатывающий полноценную философию хаоса – русскую философию. Она выглядит как бред(39) только в том случае, если у нас нет к ней экзистенциального ключа, если мы слишком буквально следуем за ее высказываниями или пытаемся их понять в западноевропейской системе координат. Тогда, действительно, это нечто неудобоваримое. Но стоит применить к ней русский шифр, и все встает на свои места: Фёдоров пишет о русском и о главном в русском -- он пишет о хоре.
Нас не должно смущать то, что текст Фёдорова построен по шизофреническом принципу, что мысль его постоянно скачет, перебегая от одного к другому, путаясь и метаясь, сваливая в одну кучу и апелляции к технике и науке, и религиозные символы и догматы, и причудливые построения относительно «музеев» и «костей арийских предков на Памире», и политические новости из свежих газет, и обрывочные социологические или экономические замечания, и совсем уже бредовые фантазии о планете земля как о «фото-, термо- или электроходе»(40). Сбивчивость диктуется самой хорой: мысль Федорова «не будучи пламенем, пламенеет, не будучи водой – влажневеет». Она выступает всякий раз не как она сама, но именно этой постоянной тряской и вибрацией, своей неупорядоченностью и экстравагантностью, своей горячностью и готовностью мгновенно перепрыгнуть на что-то иное, совсем не вытекающее из предыдущего. Эта мысль привлекает внимание к самой себе, она пробуждает и мотивирует к работе онейрический logoV noqoV, тот «недопустимый логос», о котором говорил Тимей, описывая «хору».
Здесь можно заметить, что слово «noqoV» в качестве основного имеет значение «бастард», «полукровка», «незаконнорожденный», «нелегитимный». Это место из диалога «Тимей» (фрагмент 52а) на английский язык переводят как «bastard thought», а на немецкий -- как «Bastarddenken», «бастардная мысль». Знаменательно, что сам Николай Фёдоров по происхождению и является «бастардом» (сыном князя Павла Ивановича Гагарина и крепостной крестьянки), и его мысль есть в самом прямом значении «мысль бастарда», тот самый «недопустимый логос», с помощью которого и можно только схватить во сне или галлюцинации, а еще точнее, на границе между сном и бодрствованием – что такое «хора».
Общество деревни
Что силится сказать Федоров сквозь обаятельный и подчас пугающий поток своего нестройного сознания? Он явно видит определенную оппозицию между тем, как надо, чтобы было, и как оно в глубине всего и есть, с одной стороны, и тем, каким оно представляется всем в силу всеобщего заблуждения и ухода от истины – с другой. Этот зазор для Федорова абсолютно очевиден, но выразить его содержание ему абсолютно не удается. Мир есть в глубине и должен быть эксплицитно явлен всем как «живое родное пространство», как «милый мир», где есть только добро, чистота, любовь и всеобщность всего, и где вещи еще не оторваны и не отторгнуты друг от друга, и также не отторгнуты и не оторваны друг от друга все люди. И все вещи включаются в этот мир -- и настоящие, и будущие, и прошлые; и все люди – и живые, и мертвые и те, кому только еще предстоит родиться. Это вечный мир русского дазайна, в котором время раздавлено. Мир земли, неподвижно вращающейся в самой себе.
Фёдоров пронзительно ощущает этот дазайн в его обязательной всеобщности, предшествующей разделению на какую бы то ни было индивидуацию – все в нем еще неразделено и склеено, а значит, каждая вещь есть одновременно и отчасти другая вещь, а каждый человек отчасти – другой человек. Так, по цепочке интерференций, все смыкается и сцепляется, вваливается в единое и трепещет в этом едином, но не далеком и трансцендентном, но здесь и сейчас наличествующем, вечном и подвижном. Это единство в хоре, в святой Кормилице становления, которая, терзаемая становлением, успокаивает его и успокаивается в нем сама, волнуясь. Между живым и уже не живым, между одним и другим есть фундаментальная связь – это жизненные движения хаоса, все в себя включающие и ничего из себя не исключающие. Фёдоров однозначно соотносит это – положительное в его философии – начало с Россией, русским народом, а также с тем, что он называет «обществом деревни», Востоком, а иногда «культурой Троицы» (подчеркивая единение Лиц). Трезво можно было бы сказать, что он понимает под этим «традиционное общество» в его «идеальном типе» (М. Вебер), но мы иссушили бы тем самым посыл Федорова, слишком рационализировали его патологическое, страдающее пророчество.
Всеобщее включение
Вторым моментом в картине Фёдорова выступает «досадное недоразумение» раздельности. Это помрачение, заставляющее все казаться не таким, как оно есть на самом деле, то есть в русском свете, в хоре. Когда Федоров видит разделение, войну, не-родственность, утрату или прибыток, дефицит, исчезновение или пополнение -- одним словом, когда он видит нечто индивидуальное или какой-то только поступательный монотонный процесс, его охватывает чувство боли и горечи, он видит перед собой смерть и ложь. Но смерти и лжи в хоре нет, так как она есть вечный истинный принцип. И более того, хора все включает в себя и ничего не исключает. А значит, то, что ей противостоит, не может быть строго другим, нежели она сама, даже если это мучительно и страшно, и следовательно, ее предназначение не просто отвергнуть свою противоположность, но и ее – как не себя -- включить в себя.
Поэтому Фёдоров видит предел отчуждения раздробленных вещей от своей единой родной стихии как то, что должно быть в нее включено. Разделение и его аналоги -- «город», Запад, «немирное состояние мира», «ложь» и даже «смерть» -- должны быть излечены и восстановлены в своем изначальном состоянии. И привести к этому должна не просто контрсила, противостоящая «расчленению мира», но именно та активность, которая этому расчленению способствовала – только обращенная на определенном этапе в ином направлении и переставшая идти против хоры, солидаризуясь с ее тихим шепотом и приступив к общему делу воскресения мертвых, воссоздания органической целостности.
В «бастардной мысли» (logoV noqoV) Фёдорова «аристократический» расчленяющий логос совокупляется с простонародным интегрирующим всеобщим мифосом, точнее, с его основой – с живым пространством, с Кормилицей мира, с всевключающим в себя и все открывающим в тождестве истины хаосом. В результате оппозиция превращается в солидарность, война всех против всех заканчивается всеобщим примирением и материнская всеобщность, прощая, интегрирует в себя отцовское дистанцирование. Город становится деревней, смерть возвращает все то, что похитила у жизни, объект (космос, атмосфера, природа) сливаются с субъектом (обновленным человечеством) в торжественном аккорде «общего дела».
Когда мы применяем к «Философии Общего Дела» такую модель дешифровки, каждый ее пассаж становится внятным и осмысленным. И даже корявость языка и бредовость ассоциаций начинают выступать как прямые и яркие указания на структуру философии хаоса, которая едва ли может быть иной, поскольку организует структуры мышления и сами его начала, точнее, еще начала начал мышления неким образом, совершенно отличным от нормативов классической философии во всех ее разновидностях – древних, современных, идеалистических, материалистических, прагматических, аналитических, экзистенциалистских, феноменологических и т.д.
Славянофильская и евразийская броня русского дазайна
После выделения структуры русского дазайна мы можем по-новому взглянуть и на славянофильское наследие, поддержав его основной вектор экзистенциальной аналитикой. Славянофилы стремились обосновать самобытность русской культуры и ее равнозначность с культурой западной. На уровне историко-культурных и социологических обобщений они сделали на этом пути немало. Но после осуществления экзистенциальной аналитики русского археомодерна, мы можем подкрепить все их базовые интуиции солидным философским фундаментом: желание славянофилов отстоять оригинальность русского общества и обосновать специфическую судьбу и миссию русских в истории проистекает из их абсолютно верной догадки о структуре русского дазайна и о его радикальном отличии от структуры Dasein'а европейского. Россия и Запад отличаются не на уровне формальных и внешних, фасадных культурных конструкций, но на самом глубинном уровне – на уровне корней, своего отношения к бытию, к миру, ко времени и пространству, на уровне антропологии, на уровне первичных экзистенциалов. Значит, славянофилы, описавшие гадательно и крайне приблизительно различия между Россией и Европой (шире, Западом), были совершенно правы во всем, кроме, быть может, конкретики выражений, и, действуя в условиях археомодерна, внесли свой вклад в его последующий демонтаж.
Более того, и первые (Киреевский, Хомяков, Аксаковы) и поздние (Самарин, Данилевский, Ламанский, Леонтьев) славянофилы построили социологическую линию обороны, внутри которой под определенной защитой от универсалистских претензий западного герменевтического круга, мы смогли обнаружить наличие русского дазайна.
Именно они попытались впервые прочертить, пусть неточные и эфемерные, но границы русского герменевтического круга, в котором пока отсутствовал центр (русский дазайн), а значит, полноценная возможность герменевтики. Но и этот опыт имеет колоссальное и конструктивное значение для обоснования возможности русской философии. То, что попало в этот круг, хотя также было заражено археомодерном, могло и должно быть переинтерпретировано в свете русского дазайна. Таким содержанием и являются фрагменты русских философов. Но сделать первичный отбор релевантных и нерелевантных элементов помогли именно усилия славянофилов.
Еще в большей степени это относится к евразийцам (Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, Н.Н.Алексеев, В.И.Ильин, Л.П.Карсавин и др.), которые пошли еще дальше и дали систематическую и развернутую критику западных претензий на универсализм, а также жестко закрепили уверенность в том, что Россия есть не страна, и тем более не европейская страна, но самостоятельная цивилизация, имеющая совершенно особые внутренние критерии для самооценки, собственную систему ценностей, символов, институтов, исторических и социальных процессов.
Русский дазайн благодаря усилиям этих интеллектуальных движений сегодня может быть облачен в славянофильскую и евразийскую броню.
Русские философы и горизонты их нового прочтения
В отношении взглядов других русских философов, следовало бы провести детальный и основательный их пересмотр в свете того, что мы знаем теперь о структуре русского дазайна. Это требует отдельной и систематической работы. Пока же можно сказать, что исторические реконструкции Дмитрия Мережковского в духе «Третьего Завета» и прозрения в суть русского Начала Василия Розанова прекрасно соответствуют экзистенциальной аналитике русского Начала и получают в нем свое объяснение, обоснование и оправдание.
Русский «жизненный мир», столь блистательно описанный Розановым, перестает быть набором острых журналистских зарисовок и разрозненной философской публицистики. Он может отныне претендовать на строго научную методологию. Пирожок и творожок («пирожка бы… творожка бы….»), которых так хочется умирающему Розанову, открываются нам уже не как пронзительные метафоры плоти, но как голос самого русского бытия, выраженного через вкус и поглощение больше, нежели через свет и созерцание. «Впечатление еды теперь главное» -- это не покаяние и искренность, это философская истина волшебной всесокрушающей мощи русской еды, как русского пребывания в мире, как русской земли как русской души. Нет ничего духовнее еды, понятой по-русски – ведь, поедая, русский ест бытие, ест жизнь, которая вне его и в нем самом.
Есть, правда, русские философы, которые почти не попадают в контекст русского дазайна, оставаясь унылыми памятниками археомодерна, не поддающимися положительной реинтерпретации в русской философии, ставшей возможной через вскрытие структуры русского дазайна. Таковы, на первый взгляд, Н.Бердяев и И.Ильин, которые, несмотря на корректность и даже проницательность определенных высказываний и целых текстов, в отношении русского дазайна оказываются весьма слабо релевантными.
А вот философы-западники, напротив, вполне могут быть восприняты положительно. Если такие обнаружатся и не будут иметь ровным счетом никакого касательства к русскому дазайну, то их можно будет спокойно выбросить или (что, в сущности, то же самое) поместить в западноевропейский герменевтический круг, предоставив носителям европейского Dasein'а выяснять, как они относятся к этому Dasein'у и соответствуют ли ему вообще.
Подводя итог беглому обзору русских философов, мы приходим к выводу, что перед нами открытый горизонт их нового прочтения и новой интерпретации. Уже сейчас заведомо очевидно, что очень многое в них приобретает смысл, значение и важность для дальнейшего выяснения структуры русского дазайна. И теперь мы имеем ключ к тому, чтобы проводить это новое чтение системно и последовательно. Перед нами не свалка испорченных предметов непонятного назначения, как казалось в начале данной работы, когда мы были озабочены демонтажем археомодерна и соответствующего ему герменевтического эллипса, но фрагменты прекрасной мозаики, перемешанные друг с другом без всякого порядка и залитые европейской грязью.
Теперь мы знаем общий план этой мозаики, имеем раствор для смывания грязи и свободное пространство, где эту мозаику можно было бы выложить. Дело за малым: методически заняться возрождением русских философских фрагментов и помещением их в структурированную среду русского хаоса в том строгом и фундаментальном порядке, который этот хаос предполагает своей структурой.
Глава 15. Русское начало и Советская эпоха (наброски)
Русское и советское: тема не разработана
Нам осталось провести последнюю намеченную в данной работе операцию. – Соотнести то, что мы знаем о русском дазайне, с интеллектуальной и идеологической историей советского периода, с советским марксизмом. Смысл этой процедуры заключается в том, чтобы выяснить, как проявляли себя русский дазайн и его структуры в советской философии и в советском мышлении, и проявляли ли они себя вообще. В иной формулировке это может звучать так: как соотносится между собой советское и русское в период СССР?
Самым серьезным подспорьем в решении этой задачи может стать для нас книга Михаила Агурского «Идеология национал-большевизма»(41) и ее полный английский вариант «Third Rome»(42). Как ни странно, эта работа, написанная еще в эпоху существования СССР, остается наиболее основательным и серьезным исследованием интересующей нас темы, тогда как бескрайние возможности, открывшиеся после распада СССР, и общий подъем интереса к русской истории пока не дал ничего, даже отдаленно сопоставимого с реконструкциями Агурского. Определенным значением обладают работы А.Эткинда «Хлыст» (43)(написанные, правда, с ернически русофобской позиции) и С. Г. Кара-Мурзы(44) (патриотические, но менее выпуклые) и на этом почти все заканчивается. Но так как с конца СССР прошло уже 20 лет, сам этот факт заставляет задуматься: почему мы так старательно уклоняемся от исследования этой, казалось бы, первоочередной по значимости темы? Почему ограничиваемся публицистикой и поверхностной полемикой, и страшимся заглянуть вглубь проблемы вопреки тем уникальным историческим условиям, которые максимально благоприятствуют такому подходу: отсутствие жесткой тоталитарной идеологии, безразличие государства, наличие определенной свободы научных поисков, открытость многих ранее недоступных (по тем или иным причинам) источников и т.д.? В этом есть что-то загадочное… Быть может, русский дазайн пока не слишком доверяет формально ослабленной и почти устраненной археомодернистской государственности? Может быть, он ждет, пока модернистская керигма догниет окончательно, и он сможет заявить о себе в полную силу и без каких-либо опасений?
Трудно сказать, но ничто не должно нас останавливать на нашем пути, который основан на прочных экзистенциальных основаниях.
Фазы советской истории
Советский период с исторической точки зрения можно разделить на внутренние фазы, на протяжении каждой из которых формы выражения русского дазайна и модель его соотношения с мышлением и официальной марксистской философией были довольно различны. Вся история СССР наглядно представляет собой законченный жизненный цикл – от рождения через взросление и расцвет к старости и упадку. Вопреки линейному пониманию времени и исторических процессов самими коммунистами история Советского Государства демонстрирует нам правоту совсем иного – циклического – подхода к истории.
Циклические фазы СССР таковы:
· 1917-1931 -- рождение СССР, революция, гражданская война, военный коммунизм, Ленин – детство;
· 1931-1956 – взросление, расцвет, пик могущества и мирового влияния, Сталин – юность и акме;
· 1956 -1982 – золотая осень, мягкое увядание, ригидность, почтенная старость (Брежнев);
· 1982-1991 – коллапс, вырождение, маразм, помешательство – предсмертная агония и смерть (Горбачев).
На каждой из этих фаз русский дазайн проявлял себя совершенно по-разному.
Национал-большевизм
Первый период 1917-1931 представлял собой синкретическое сочетание собственно марксистской керигмы большевиков, параноидально подстраивавших под марксистские схемы взгляд на русскую историю и жестко корежившие структуру русской жизни в соответствии со своими догматами, и взрыва ожиданий русского дазайна, который на первых этапах истолковал падение западнической романовской монархии как момент Ereignis'а, то есть возможности заявить о себе и о своих структурах в полный голос; то есть свободу от отчужденной политической системы русский дазайн интерпретировал как конец археомодерна. И на первых порах едва ли было очевидно, какая из двух составляющих одержит верх в дальнейшем – марксистская ортодоксия или пробудившееся русское народное Начало.
Этот этап характеризуется таким явлением, как национал-большевизм, изучавшимся М.Агурским и в некоторых наших работах(45). Национал-большевизм можно толковать узко, как идеологическую группу авторов эмигрантского сборника «Смены Вех» и движения, возглавляемого Н.Устряловым(46), который и ввел в обиход этот термин, а можно и широко -- как проявление русского дазайна в первой фазе советской истории. Очень близки к такого рода анализу и русские евразийцы (Н.С.Трубецкой(47), П.Н.Савицкий(48), Н.Н.Алексеев(49) и т.д.), распознавшие в большевиках не просто «заговорщиков» и «фанатиков», но выразителей глубинных чаяний русского народа и его воли к построению самостоятельной и отличной от европейской (романо-германской) цивилизации(50).
Русская вера Николы Клюева
Структура того, как развертывались отношения между русским дазайном и большевиками, выразительнее всего описал в своих стихах Николай Клюев, который:
· происходил из крестьянской семьи и был чрезвычайно укоренен в структурах русского дазайна,
· обладал пронзительным интеллектом, способным на определенную долю рефлексии и неплохим светским самообразованием в кругу московской и санкт-петербургской творческой богемы,
· ясно осознавал свою собственную роль в этих отношениях.
В биографических заметках Клюев так описывает свое постижение русского дазайна:
«Познал я, что невидимый народный Иерусалим - не сказка, а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая - Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонецкой ли поземке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот - усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия.
Теплый животный Господь взял меня на ладонь свою, напоил слюной своей, облизал меня добрым родимым языком, как корова облизывает новорожденного теленка.»(51)
Едва ли можно найти более точные и проникновенные слова, чтобы описать то, что так или иначе чувствовала интеллигенция русского «серебряного века», обращая свой взор к народу, к русскому Началу. Что-то подобное ощущал Блок, высоко ценивший Клюева и отождествлявший философский образ соловьевской Софии именно с Русью.
Клюев представляет собой со всех точек зрения ключевую фигуру для определенного среза русского Начала. В некотором смысле, он воплощает это Начало в самом себе. Малейшие детали биографии Клюева, его мифы и документальные факты жизни, его творчество и политические и социальные воззрения, его «культурность» и нарочитая «народность», его психоаналитический профиль и явные патологии -- все вместе это дает нам объемный образ не человека, не индивидуальности, но русского, обитающего в его русскости(52).
Клюев догматически утверждает верховенство Женского Начала. Это видно в его отношении к матери, Прасковье Дмитриевне, которая стала для поэта не просто образом, но прямым выражением космической женственности, инкарнацией Параскевы-Пятницы. О ней он поет в «Матере-Субботе»(53) и «Песни о Великой Матери»(53-1). О ней он пророчествует на пике своих видений эсхатологической судьбы России:
И над Русью ветвится и множится
Вавилонского плата кайма...
Возгремит, воссияет, обожится
Материнская вещая тьма!(53-2)
«Материнская вещая тьма». Это Клюев говорит о преображении хоры, о ее пресуществлении в лучах русского логоса, рождающегося перед концом мира – в момент крушения Вавилонской башни современности.
Психика самого Клюева вплоть до старости остается психикой ребенка, мальчика, так и не оторвавшегося от материнского присутствия, от материнской груди, от ее юбки, ее песен и колыбельных, от ее павечерницы и полуночницы, от ее домашних и полевых трудов, от ее слез и утешений. Клюев не просто мальчик, он и сама мать. Отсюда в нем столько женского, его телесная чувствительность, его перверсии. Поэзию он воспринимает как молитву, как глагол, как логос, но логос особый, не противопоставленный женскому началу, но существующий внутри женского начала, утробный логос, вещающий из самой «вещей материнской тьмы».
Поющая женственность – это смысл Клюева и его выражения русскости. Этим определяются и его искания, и страницы его дружбы, и его встречи, и его хлыстовские и скопческие опыты, и его драматизм.
Поэзия Клюева и его биография могут служить энциклопедией русских ересей – от разных направлений старообрядчества (себя Клюев возводил чуть ли не к потомкам Аввакума и к Выговским беспоповским скитам) до христоверов и «скопцов царства небесного», последователей учения Данилы Филипповича и Кондратия Селиванова. В этих ересях Клюев притягивается архаической конкретикой духовного преображения, не дистанцированного от плоти, не метафорического, не абстрактного и интеллектуального, но прямого, волшебного, плотского, грубого, почти до неприличия явного. Это преображение плоти в плоть, в живую, раскаленную, звенящую, напряженную, тугую русскую телесность. Что бы ни послужило толчком для этого волшебного акта – аскеза, воздержание, подвиги, падения, грехи, разврат, оскопление, беснование, полная утрата всякого «человеческого» вида -- все хорошо, все правильно, все свято. Что русское, то свято, то и волшебно, то и духовно.
При этом Клюев отнюдь не дорожит формализацией сектантских учений – он индифферентен к формам русской святости, на одном дыхании он взывает к старообрядцам и поминает новообрядческих святых, проклинает попов и благоговеет перед панагией или паникадилом, воспевает скопческий нож, а сам спасается от постановки «великой печати» (оскопления) бегством, восхваляет хлыстов и легко отрекается от них. Для него важно не это; он принадлежит только одной Вере – русской вере, вере в Русское, в русскую Святость и в святость русского; она освящает все остальное, все, к чему бы ни прикоснулись руки или взгляды поэта.
Себя Клюев называет «посвященный от народа».
Я — посвященный от народа,
На мне великая печать.(53-3)
Правда, от «великой печати» скопцов он все же уклонился, но не полностью, так как воспринял ее образно, оскопился в духе и личной судьбе. Посвящение его есть русское посвящение. Но при этом Клюев ясно осознает, что это русское посвящение, посвящение от народа не есть какая-то форма национализма. Это вселенское посвящение, оно вбирает в себя все народы и все традиции. В поэзии Клюева есть особая география – все страны света, современные и древние – распложены внутри Руси, они ведомы ей, как утята уткой в небесный предел Русского Бога.
Посол от медведя
После Октябрьской революции и Клюев и Блок и многие другие русские поэты, художники и мыслители ожидали Ereignis'а – пробуждения русского дазайна, его выхода на поверхность и на первых этапах считали большевиков проводниками (пусть помимо их воли и сознания) этого Великого Возвращения. Отсюда блоковская поэма «Двенадцать», с ее загадочной фигурой, идущей перед группой убийц-большевиков –
В белом венчике из роз
Впереди Исус Христос.
Русский Христос, русский дух, казалось, поднимается из глубин земли, чтобы развернуться над миром своими тяжелыми великим крылами.
Еще яснее понимал структуру общения между русским дазайном и большевиками сам Клюев, при этом самому себе, как предстоятелю русского поэтического начала, он отводил главную роль.
В мифологии Клюева есть исконная Русь, которую он описывает на множество ладов, и в частности, отождествляет с «медведем». «Лев» в его поэзии – это большевистская воля, власть, новая государственность, приходящая на смену старой.
Сам Клюев же является «послом» между русскими и большевиками, то есть осью национал-большевизма, носителем волшебного слова, в котором должен осуществиться теургический (ангелический) брак. Лев-Ленин здесь мыслится как мужское начало, медведь --- и это традиционно прослеживается в классическом символизме как женское. Клюев выступает со стороны невесты и, отчасти, как сама невеста.
Я— посол от медведя
К пурпурно-горящему Льву, —
Малиновой Китежской медью
Скупаю родную молву.
Китеж, Тайна, Финифтяный рай,
И меж них ураганное слово, --
Ленин - кедрово-таежный май,
Где и солнце, как воин, сурово.
Это слово кровями купить,
Чтоб оно обернулось павлином,
Я — посол от Медведя, он хочет любить,
Стать со Львом песнозвучьем единым.(54)
В этом «желании любить» со стороны «медведя» Клюев выражает накопленную за последние столетия тихую готовность русских к тому, чтобы внутренняя философия хаоса вышла на поверхность помимо археомодерна, по ту сторону от него. Это то же желание, которое просвечивает в стремлении русских философов к созданию русской философии. Это голос хоры. И Клюев в своих стихах уловил сам нерв восприятия русскими Революции: они надеются, что большевики построят новый мир на совершенно ином основании, вне археомодерна, освободив и дав возможность развернуться самой внутренней структуре русского Начала.
Вот как описывает это сам Клюев в своем выступлении в Вытегре в 1919 перед показом агитационной пьесы Азрова «Мы победим». Этот текст носит вполне «самосожженческое» название «Сгорим, о братие, телес не посрамим»:
Радовались богатеи, что народ душу свою обронил, зверем стал и окромя матюга все слова из себя повытряхнул.
Ну, думали они, мужик таперяча с потрохами и печенкой наш, - скотина скотиной. Вбивай его, как сваи, в землю да вавилоны ставь. А чтобы сердце у подлого народишка не отмякло, заберем-ка всякое искусство в свои руки, - набьем на него цену, чтобы оно никому, окромя нас, по кошельку не было.
А чтоб поэты да писатели, строители и музыканты вольностей какой себе не дозволяли, пристрастим их романовской гостиницей с решеткой.
И стращали.
Великого писателя Достоевского присудили к виселице, но петлю заменили каторгой. Великого поэта Пушкина мучили ссылкой и довели до пули, убили Лермонтова, прокляли Толстого, нищетой и голодом вогнали в гроб Кольцова и Никитина. Многое множество живущих сынов человеческих погибло от неправедного строя на русской земле!
И по ком надо служить народную панихиду, с плачем и с рыданием, так это по распятому народному искусству. Проклятие, проклятие вечное тем, кто перебил голени народному слову, кто жёлчью и оцетом напоил русскую душу!(55)
Так Клюев описывает «археомодерн» романовской России, то, что евразийцы называли «романо-германским игом» послепетровской эпохи. И продолжает:
Но, пережив положение в гроб родного искусства, мы видим и ангельские силы на гробе его. Мы, чудом уцелевшие от жандармского сапога, ваши родные поэты и художники, были свидетелями того, как в 25-й день октября 1917 года потряслась земля, как сломились печати и замертво пали стражи гроба. Огненная рука революции отвалила пещерный камень и...Он воскрес - наш сладчайший жених, - чудотворное народное сердце.
Воскрес и сокрылся, явясь на краткое мгновение только верным и избранным.
И никто не слышал звука его шагов.
И вновь душа наша сжигается скорбью смертной...
Где ты, возлюбленный наш? -
Песня крылатая, всенародная?
Быть может, шумишь ты белой березонькой под вольным олонецким ветром али в бабкином веретене поешь ты, ниткой полуночной, дремотной тянешься, иль от стрекота пулеметов, обеспощадивших землю родимую, закатилось ты за горы высокие, за синие реки, за корбы медвежьи, непроходимые...
Кто знает? Только сердце пусто.
И мука наша лютая.(55-1)
Это место особенно важно, так как Клюев уже в 1919 году описывает мимолетность сбывшегося Предчувствия. Снова – после упоительного мига мимолетного воскресения – «посвященный от народа» чувствует наступление нового горя. «Воскрес и сокрылся».
Далее, Клюев, тем не менее, выражает свои сохранившиеся надежды на духовное перерождение большевиков в русскую сторону – через страдания и борьбу.
Чует рабоче-крестьянская власть, что красота спасет мир.
Прилагает она заботу к заботе, труд к труду, чтобы залучить воскресшего жениха к себе на красный пир.
Царские палаты отводятся для гостя-искусства, лучшие хоромы в городах и селах. И стекается туда работающий бедный народ, чтобы хоть одним глазком взглянуть на свою из гроба восставшую душу. Чтобы не озвереть в кровавой борьбе, не отчаяться в крестных испытаниях, в черном горе и обиде своей.
И в настоящий вечерний час, когда там на фронте умножаются ряды мучеников за торжество народной души, здесь ваши братья постараются, насколько хватит их уменья, показать вам малую крупицу воскресшей красоты. Она услышится вами в некоторых словах, которые скажутся с этих подмостков. Перед вами пройдет действо - жизнь рабочих людей - борцов за Красоту, за Землю и Волю.
В этом действе нет ничего смешного. Оно со смыслом, и тот, кто будет гоготать, выдаст головой себя как пустого человека.
В действе под одним человеком надо разуметь многих. Вы увидите рабочего Сергея, смертельно больного, который умирает в борьбе, - это весь рабочий народ, который приносит себя на заколение за правду в жизни; старуху, пьющую богомолку, - это наша церковность, подвидная да блудная. Парихмахера - это соблазненная буржуазией часть народа, который за модную жилетку променял свое первородство. Услышите музыку за океанами - это голос всемирной совести, не умолкающей над залитой праведной кровью землей.
Понимая так, вы уйдете отсюда обновленными, со сладкой слезинкой на глазах, которая дороже всех сокровищ мира.
Дерзайте, друзья мои!
Сгорим, а не сдадимся!(55-2)
Описав в кратце содержание пьесы, Клюев неожиданно заканчивает совершенно Аввакумовским призывом, в котором великая Вера неразрывно слита с крайней степенью отчаяния. «Сгорим, а не сдадимся!»
Красный рык
В 1920-е годы, начиная с Гражданской войны, через многослойность непонимания, догадок, переинтерпретации марксистских лозунгов и тезисов, через последовательность надежд и разочарований, русский народ пошел на встречу этой свадьбы с «красным Львом», решился на нее, сделал выбор в ее пользу. По сути, брак состоялся. И те, кто увидели в большевизме национал-большевизм, оказались принципиально правы.
В стихотворении «Красная песня» (другое название -- «Красный рык») явно говорит об том, что в большевиках сбывается нечто древнее, исконное, изначальное
Пролетела над Русью Жар-птица,
Ярый гнев зажигая в груди...
Богородица наша Землица,
Вольный хлеб мужику уроди!
Сбылись думы и давние слухи, —
Пробудился Народ-Святогор —
Будет мед на домашней краюхе
И на скатерти ярок узор.
За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой
Идем мы на битву с врагами —
Довольно им властвовать нами!
На бой, на бой! (56)
«Сбылись думы и давние слухи». Какие думы и какие слухи? Думы и слухи о пробуждении «Народа-Святогора», об освобождении от археомодерна, от давления чуждого романо-германского ига. И Клюев отождествляет бой большевиков с этим русским боем – за Землю, за Волю, за Хлеб.
Клюев видит в СССР конец эпохи смерти. Он пишет в поэме «Кремль»(57), что «пожитки смерти догорают», то есть что смерть преодолена, и кормчий Сталин управляет стихиями (тема однозначно связанная с «Философией Общего Дела» Н.Федорова)
Мои стихи - полесный плот,
Он не в бездомное отчален,
А к берегам, где кормчим Сталин
Пучину за собой ведет
И бурями повелевает,
Чтоб в молодом советском крае,
Где свежесть волн и крик фрегатов,
Ущербных не было закатов,
Как ржавых листьев в октябре,
Меж тем как прахом на костре
Пожитки смерти догорают! (57-1)
А в стихотворении 1918 года «Революцию и Матерь света в песнях возвеличим”(58) он выражается еще радикальнее:
Убийца красный - святей потира,
Убить - воскреснуть, и пасть – ожить
Браду морскую, волосья мира
Коммуна-пряха спрядает в нить.(58-1)
«Революция» и «Матерь света» (саму Русь-Софию) Клюев возвеличивает на одном дыхании, и чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в глубине его пророческого богохульства, он добавляет эту строчку: «убийца красный – святей потира». В принципе, это продолжение блоковской поэмы «Двенадцать», но насколько оно сильное и всеохватывающее. В нем сходятся крайние противоположности: «убить – воскреснуть и пасть – ожить»; Клюев оправдывает все: и убийство, и смерть -- ведь это не нечто иное, чем мир, жизнь и воскресение, но именно одно и то же. Так обстоит дело только в зоне хоры, в структуре философии хаоса. И Клюев отождествляет эту структуру, ее математическое выражение, ее керигму с большевиками.
В другом месте(59) он говорит:
Уму — республика, а сердцу — Матерь-Русь.
Пред пастью львиною от ней не отрекусь.(59-1)
Республика – это совокупность «красных убийц», которые чрезвычайно важны (хотя, видимо, в этих строчках сам Клюев начинает понемногу в этом сомневаться), которые отвечают требованиям «ума» (конечно, ум требует убийства, насилия, расчленения, разделения, дифференциации, рационального разведения всего по разные стороны). Но сердце поэта – это его прямая и сочная интуиция Матери-Субботы, это есть он сам, его середина, его средостение, точка русского начала, его и всеобщий дазайн. «Львиная пасть» -- это пасть того «Красного Льва», персонализацией которого выступал Ленин. «Большевики-звери, страшные железные звери, но они, видимо, очень нужны», --рассуждает Клюев.
Вот на этой двойственной клюевской формуле -- «Уму – Республика, а сердцу – Матерь-Русь» -- и основана базовая модель соотношения русского Начала с коммунистической философией на первой фазе советской истории. Ее можно взять за четкую и однозначную, почти математическую, формулу.
Магический большевизм Андрея Платонова
Показательны в этом же отношении рассказы и романы писателя Андрея Платонова, который был типичным национал-большевиком(60), и дал развернутое и глубинное описание того, как понимал собственно русский народ Советскую власть на первой фазе ее установления. Показательно, что сам Платонов был сторонником философии Николая Федорова и считал «большевистскую революцию» осуществлением «Общего Дела», то есть началом всеобщего воскрешения мертвых и управления стихиями мира. Самым полным и наглядным образом он запечатлел это в романе «Чевенгур»(61). Герои «Чевенгура» -- это русские, повенчавшиеся с Революцией во имя наступления волшебного цикла: всеобщего братства, полного равенства, упразднения смерти и времени, оживления машин, уничтожения всего того, что разделяло между собой людей, вещи, природные явления. В «Чевенгуре» сбывается русский коммунизм.
Приведем несколько выдержек из нашей статьи(62), посвященной Платонову:
Мистический опыт души открывается магическими пролетариями Платонова через сложную практику отрицания.
В ``Чевенгуре'' наличествует целый веер алхимических рецептов трансмутации.
Общая картина этого большевистского герметизма такова: потаенное и истинное Целое, в его свободном расплавленном, предшествующем разделению состоянии -- душа -- подвергается воздействию нехорошего начала. Под ядовитым дуновением вынырнувшего из-за запретной тени зла душа начинает отчуждаться от себя, порождая своей гибелью, своим темным закатом антибытие. Это антибытие окончательно воцаряется в частном, в приватизированном имении, в обладании, в отсечении от невидимой, потревоженной, удавленной тайной ткани ссохшихся узлов. Мучаясь, кончается душа, когда ложь эксплуатации превращает ее в частную собственность, обкрадывая и изнуряя до ничто ее сладкое содержание.
Людей становится много, они делят душу на свои нарезы, обустраивают индивидуальные тела, замахиваются на природу, на души других.
Одним из ключевых рычагов эксплуатации, по Платонову, является разум.
``Ум такое же имущество, как и дом, стало быть он будет угнетать ненаучных и ослабленных...'' --
верно излагает важнейшую мистическую тайну пролетарий Чепурный, основатель Чевенгура, где ``главной профессией сделалась душа''. Осторожнее ту же истину распознает и мастеровой Захар Павлович:
``Никто ничего серьезного не знает -- живое против ума прет....''
``Живое'' здесь надо понимать в онтологическом смысле, ``душа''. Душа ``прет'' против ума, который вместе с эксплуатацией, частной собственностью, отчуждением, ожиданием, буржуазией, постепенностью, временем и историей стоит на противоположной стороне классовых сражений.
И далее:
Задача коммунизма не присвоить вещи, оставшиеся от темной эпохи капитала, но поступить с ними совершенно иным образом. Противоположным. Лучшие сердца Чевенгура -- Чепурный, Пиюся, Копенкин, Дванов, Гопнер -- бьются над этой новой коммунистической манерой обращения с материальными предметами. Ощупью продвигаются они к оперативной магии бесконечной солярной растраты -- по ту сторону чреватого новым отчуждением труда. Это вехи экономики Страшного Суда.
Чевенгурцы ищут не укрепить вещи, не рационализировать их и даже не перераспределить их справедливо, но дематериализовать их, вернуть во всеобщую кровоточащую страдательную матрицу Целого. Исхитрившись, набравшись потаенной воли и полнясь ускользающей стратегией пролетариат тщится растворить имущество в волнах коллективного сна, истончить его до последней внутренней черты, пролетаризировать, кенотически умалить его, стереть до тайного невидимого красно-магического любовного корня.
Это кенотический путь как промежуточную фазу предполагает абсурдное употребление вещей, дерационализацию их функций. Эта идея проходит сквозь весь платоновский роман. Там все предметы, элементы одежды, продукты питания и передвижения используют мимо их обычной нормы. Бомбы Пашинцева пустые внутри, на средневековых доспехах привернута красная звезда, герои кормят тараканов, уничтожают посевы, внезапно бегут без всякой видимой причины в заросшую степь. Важная деталь, каждый, кто попадает в Чевенгур меняет свой обычный костюм на какой-то идиотский ансамбль, сотканный из разнородных элементов. У приезжих отбирают их вещи и с насильной нежностью всучают героические обмотки, ненужные летом валенки, нелепые картузы или шлемы. Классичным становится хождение без штанов.
Сложна и многомерна стратегия великой траты: можно передвигать дома, сдвигая их посолидарней друг к другу, можно перетаскивать сады, можно лепить из глины памятники живым ненаглядным товарищам, можно добывать огонь с помощью деревянного колодца, можно трудиться над созданием гигантского маяка, можно доедать остаточных одичавших кур, вытесывать из черных корней деревянные мечи, а можно и просто ловить клопов в дыриях соседских хат. Иными словами, труд или любая какая деятельность в коммунизме должна либо переполосывать вещи в экстравагантные и предельно бессмысленные ансамбли, либо уничтожать их, либо делать противное себе и полезное другому. И зорко блюсти, чтобы весь процесс всеобщего избавления от уз материи шел непрерывным кругом -- не застопориваясь нигде, не зацепляясь ни за какое прижимистое, индивидуальное, рациональное зерно.
Про религиозную составляющую «магического большевизма» можно сказать следующее:
В мистическом опыте человек обнажает своей внутренней тьме самого себя, стирает себя, расшивает мозг и внутренности. Это невероятный риск -- свет души окатывает мраком -- и совершенно не обязательно он быстро (или вообще когда-либо) рассеется. Мистик становится заложником сосущей воронки скрытого центра, и более не способен сам выстраивать стратегию передвижений, поступков, дискурсов. Строго говоря, реальный мистический опыт возможен лишь в обскурантном отношении к религиозным догмам. Ткань души всегда оказывается не такой, как предписано. Абсурдные потоки новых ускользающих цепей мгновенно смывают тщательные конструкции догматико-ритуальных систем. Мистик заведомо обнажен. В Церковь в таком виде не пойдешь... Разве что в странный храм Чевенгура, превращенный в ревком.
Единственно, что понятно великороссам-большевикам в религии -- это учение о конце света. Здесь никаких проблем не возникает. Тут-то и наступает все главное, чаемое, лучшее, упованное.
Грани стираются. Нету смерти, нету старой жизни, нету преград и различий, нет индивидуальных душ, нет имущества, нет тел. Все погашено и зажжено одновременно. Сердечная пустота обездоленных, пролетариев, ``прочих'' рождает абсолютные сумерки незаходящего свечения. Времени нет. Это наступил заветный час коммунизма, рассеялся туман рассудка, огненный шар всеобщего безумия Вселенной поднимается из ниоткуда, затмевая частности.
Идея воскресения мертвых (в федоровском гетеродоксальном варианте), которую навязчиво пытаются распознать у Платонова, на самом деле, здесь не центральна. Чепурный хочет воскресить умершего у нищенки мальчика лишь для демонстрации принципиальной незначимости смерти. И показательно, что он удовлетворяется рассказом о горестном сновидении скорбящей матери. Сон ли, явь ли, жизнь, смерть ли -- не играет большого значения в коммунизме. Это не розовая пастораль буржуазной надежды на сытость и бессмертие. Конец света есть наступление качественно нового состояния бытия, не представимого доселе, не имеющего общей меры с теми параметрами, которыми мы оперируем до наступления коммунизма.
Большевизм -- это мистика выше религии, сладостное черное подныривание в ночное озеро мира, подо дно реальности, к затопленным пластам иного света. Мистика не может удержаться в рамках морали. Мораль, догма все только откладывает. Так же ничто же не может совершить, довести до конца закон. Свобода никогда и никому не дается в конце пути. Она есть здесь и сейчас, в полшага -- как безотзывный бросок тела и ума в бездну магического безумия Революции души.
Свобода -- это быть русским и не иметь ничего.
Сопоставив эти филологические заметки с тем, что мы теперь знаем о структуре философского хаоса и экзистенциальной аналитике русского Начала, мы увидим самые прямые соответствия. То, что стремятся уничтожить коммунисты Чевенгура, – это археомодерн и, в частности, следы «чужого дазайна». То, что они хотят утвердить и обосновать – это философия хаоса.
Русско-советский брак: осознание фатальной ошибки
Эта национал-большевистская фаза раннего СССР предопределяет всю последующую советскую историю, так как основанием советской власти становится не просто факт голого насилия со стороны левых экстремистов-фанатиков, захвативших власть в России всеми правдами и неправдами, но факт «брака» между большевиками и русским народом, факт определенной легитимации русским дазайном советской государственности. Описанием этой «брачной церемонии» являются стихи Клюева или романы Платонова, а также произведения других художников и публицистов этого направления. В этом браке русский ожидают, что его заключение приведет к учету их внутренней философии, что, взяв в жены русский народ, большевики построят новую власть и новое общество с учетом пожеланий невесты-медведя. Русские воспринимают большевиков на первой стадии как соучастников заговора хаоса против отчужденного археомодернистического порядка, то есть как «своих».
Парадоксальность, «диалектичность» марксизма, народнические лозунги большевиков, явно прочитывающийся эсхатологизм их учения, стремление уничтожить различия и вернуть общество к недифференцированному состоянию, провозглашение «нового человека» -- все это интерпретируется в топике философии хаоса, и на этом основании принимается, признается, наделяется доверием и согласием.
На уровне философии можно было ожидать, что возникнет некий синтез между марксизмом (социализмом) и русским народным мышлением, в котором отразятся основные моменты русской философии хаоса, русская религиозность, специфика русского мировидения. Но этого не происходит.
Два дискурса – марксистский догматизм и национал-большевистская мистика русского Начала -- развертываются на разных уровнях, и постепенно, после первого периода слияния и почти отождествления, начинают понемногу конфликтовать. Большевистский террор постепенно теряет свою эсхатологическую экзотичность, свою апокалиптику, а также свою направленность против политической романовской верхушки. Покончив с главным врагом – политической властью Временного правительства и белым сопротивлением, опиравшимся на силы западноевропейской Антанты, оно берется всерьез за искоренение «суеверий и предрассудков», за борьбу с «поповщиной», за «воинственное безбожие», за «механизацию и индустриализацию жизни».
Все это происходит, ближе к началу 30-х годов. В этот период Платонов пишет «Котлован»(63), уже гораздо более грустный и пессимистический, где его постоянные мотивы о волшебной судьбе русского окрашиваются в мрачные тона. Советское все еще толкуется как русское, а равенство и коммунизм воспеваются, но все постепенно приобретает зловещий оттенок отчаяния.
Окончательно разочаровывается в большевиках и Клюев. Вначале в его стихах звучит легкое сомнение. Затем, откровенное отчаяние. В поэмах «Погорельщина»(64) и «Песнь о Великой Матери»(65) СССР и политика партии, особенно индустриализация и борьба с кулачеством и религией видится Клюеву уже как окончательное пришествие «железного антихриста».
Показания Клюева на допросе от 15 февраля 1934 года, пусть и сделанные под давлением, скорее всего, отражают настоящее изменение в его взглядах. Выдержку из них можно взять как последний аккорд, свидетельствующий о том, что состоявшийся брак, давший основу для того, чтобы большевики закрепились на пространстве русского дазайна, оказался кошмаром:
Из протокола допроса
Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитан на древнерусской культуре Корсуня, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней, допетровской Руси, певцом которой я являюсь. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике компартии и Советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью...Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей...Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение.»(66)
Спустя три года в октябре 1937 Николай Алексеевич Клюев расстрелян Томской ЧК. Но это не просто биографический документ или эпизод идейных исканий одного «поэта в скудные времена», это пророческая печать, поставленная под заключением об отношениях между русской философией, русским экзистенциальным основанием и Советской властью. Русь ошиблась в большевиках, и далее начинаются иные фазы – фазы постепенного и замедленного, неторопливого, неспешного отзыва народной легитимности у большевиков и структуры их властвования.
Сталинизм как философия
На второй фазе -- 1931-1956 – происходит становление советской версии археомодерна. Обжегшись на страстном и откровенном желании полюбовного слияния, получив лишь жгучие раны, изнасилование и боль, Русь сохраняла марксизму и политической верхушке верность без любви. Мышление народа и мышление политической верхушки коммунистов отныне расходятся все дальше и дальше. Марксистский дискурс с его новой и подстроенной под нужду обстоятельств ленинско-сталинской догматикой (о возможности пролетарской революции в одной стране и о возможности построения социализма в той же самой «одной стране») движется по своей траектории, будучи озабоченный апологией своего соответствия ортодоксальному марксизму и полемикой с буржуазными авторами, а более всего – решением практических политических и модернизационных задач. «Новые люди» коммунизма, «сознательные» делаются по программе жесткого автоматического воспитания – за глубиной проникновения идей никто не следит, тем более, что сам дискурс, призванный постоянно лавировать под давлением насущных обстоятельств, становится все бредовее и бредовее. Решающим значением обладают теперь вопросы власти, которая есть последняя инстанции для выяснении того, что истинно, а что ложно. Эти процессы прямо связаны с именем и трудами Иосифа Сталина.
Сталинизм с философской точки зрения представляет собой, в первую очередь, жесткую авторитарную государственную власть, которая черпает свою легитимность и свои основания из области, трансцендентной по отношению к тому, что и как думает и понимает народ. Это своего рода «вера» или «церковь», чьи догматы обсуждению не подлежат, а их толкование доверено лично персоне вождя. На нем все и замыкается, он есть альфа и омега политической системы, отвечающий за смысл, мысль, а также за изменения, сражения и результаты. Сталин становится философской фигурой, так как будучи всевластным толкователем, он присваивает себе функции «императора-понтифекса», «создателя мостов». Только ему открыто прямое созерцание «Капитала» Маркса и прозрение в глубины других трудов Маркса и Энгельса, а также их земного представителя Ленина. Попытки соотнести эти толкования с другими толкованиями или предложить свое толкование марксизма незамедлительно караются самым радикальным образом – ГУЛАГ или казнь.
Но, во вторую очередь, значение имеет и сама «трансцендентная» (по отношению к народу) доктрина. Она образует комплекс идей, установок, методов и аксиом, с которыми приходится считаться даже Вождю и которые составляют, собственно, содержательную базу большевизма. Эта содержательная база коренится в марксизме, в его учении о смене политико-экономических формаций, в его антибуржуазном пафосе, описаниях социалистического и коммунистического обществ, материалистической диалектике (на основе видоизмененного гегельянства), в его интерпретации роли производительных сил и производственных отношений, в его понимании значения труда и технического прогресса. В целом эта доктрина остается чуждой широким массам, никак не проходит апробацию ими, но дает основание политической верхушке – КПСС – осуществлять власть и сопряженное с ней насилие с опорой на связную систему мировоззрения. Марксизм служит веществом для ментальной интоксикации «красных убийц», а также для стимулирования их модернизационной деятельности. И несмотря на тираническую власть Сталина эта идейная база остается весьма важной и для него лично, ограничивая степень его свободы и заставляя так или иначе согласовывать с ней основные направления своего правления и искать в ней ответы на постоянно возникающие вопросы. Скорее всего, Сталин искреннее верил в эффективность и историческую справедливость марксизма, тем более, что эта эффективность была подтверждена фактами недавней русской истории и успешным захватом власти при непосредственном участии самого Сталина.
На третьем уровне, советский марксизм, будучи сведенным до упрощенных и вульгарных лозунгов, а также в форме конкретных исторических действий Советской власти, особенно в годы Великой Отечественной войны, в некоторых моментах прямо резонировал со структурами русского дазайна, которые он (эвфемистически) перетолковывал по своему. С русским дазайном резонировали следующие марксистские идеи:
· уничтожение материального неравенства,
· идея общественной солидарности,
· широкая социальная поддержка государством всех слоев населения, особенно обездоленных,
· братство народов,
· «материализм», толкуемый как хора-материализм,
· жесткая оппозиция капиталистическому Западу,
· вера в скорое наступление коммунизма (толкуемого как «царство Божие на земле»).
В годы войны к этому добавилась и частичная реабилитация Сталиным как русской истории, так и Православной Церкви, прекращение «воинственного безбожия», восстановление полноценного Патриаршества на Руси.
Сама война сплотила советский народ и позволила спроецировать на Сталина народный архетип царя-отца.
Трудно сказать, до какой степени сам Сталин четко осознавал это двойное прочтение марксизма партийной элитой и простым народом. Тот факт, что он интересовался национал-большевизмом, текстами Н.Устрялова, а также получил начальное богословское образование, позволяет предположить, что он шел на это со всей ответственностью, ловко используя архаические ассоциации русского народа, проецирующего на советскую власть древние архетипы «красного царя», «земного рая», «наступления последних времен».
Некоторые исследователи допускают даже, что Сталин в тайне благоволил таким тенденциям и был не прочь в какой-то момент вернуться к тому национал-большевистскому синтезу, который явно не произошел в конце 1920-х- начале 30-х годов. Но для того, чтобы утверждать это наверняка, у нас нет достаточных оснований. Модель сталинского правления была только и исключительно археомодерном со всеми присущими ему тупиками, болезненными двусмысленностями и натяжками. Мы имеем все признаки герменевтического эллипса: народное Начало жило и мыслило само по себе, советская марксистская мысль двигалась по своему запутанному и маловразумительному пути.
Брак не расторгнут
В этот период две линии мысли полностью разошлись: марксизм, пусть и искаженный под нужды советского опыта, выстраивал свои модернизационные рациональные стратегии и конструкции, а русское архэ этот процесс успешно саботировало.
Приход в коммунистическую партию «сталинского набора» в 1930-е годы только способствовал усугублению этой неразберихи: пришедшие в город и часто на высокие должности из деревни и глубинки русские люди несли с собой энергию, силы, преданность делу, но при этом совершенную неготовность к усвоению сложного диалектического марксистского дискурса и полное невежество в отношении западноевропейского герменевтического круга. Они шли работать и умирать за Сталина, за справедливое общество, за народ, за лучшую жизнь, за будущее -- одним словом «за все хорошее», считая все остальное необходимым, но не очень содержательным декором.
Вместе с тем брак, который все-таки состоялся между русскими и большевизмом на первой фазе, не был, строго говоря, расторгнут, даже после того, как оказался несчастливым. Развод не принадлежит к русским добродетелям, и вообще не в русской традиции. Поэтому даже в оковах археомодерна русские несли свой крест исправно, не взирая на массовой террор, организованный большевиками против него и его святынь. В каком-то смысле, если учесть еще и прагматические – чисто маккиавелистские – приемы Сталина, тонко чувствовавшего стихию власти, по заигрыванию с «народными предрассудками», национал-большевизм продолжался и в этот период, давший по многим внешним показателям невиданный рост государственной мощи, индустриальный и технологический рывок распространения советского влияния в небывалом для России масштабе. Во всех советских достижений русский народ был едва ли не главным фактором, а с точки зрения исполнения грандиозных планов – то главным и единственным.
В этом парадоксальность, трагизм и величие данной фазы. Археомодерн блокировал живые силы народа, не давал им вылиться со всей их яркостью, глубиной и величием. Но дух и тело русского народа все же были затронуты, и это движение русской хоры большевикам удалось канализировать, заковав в прокрустово ложе индустриализации, технологического рывка и модернизации. Шоковое воздействие оказала Великая Отечественная война, стоившая народу немыслимых жертв.
С философской точки зрения, правда, это было мало плодотворным. Единственный остававшийся открытым для эволюции марксизма в русском ключе философский вектор -- национал-большевизм – был надломлен, заперт и отброшен. Показательно, что вернувшийся на Родину Устрялов в 1937 году был расстрелян.
Так окончательно образовался советский философский затор, который в той или иной степени дает знать о себе до сих пор. При этом следы русской экзистенции, русского дазайна в сталинский период еще ясно ощущаются – и даже в большей степени, нежели в царистскую эпоху (сказывается перводвижение русской хоры в период революции).
Умственное разложение
Третий период (1956-1982) советской истории был эпохой мягкого умственного разложения. В первую очередь, это касалось собственно официальной мысли. Содержание этого процесса состояло в нагнетании противоречий и тупиков, заложенных в саму структуру археомодерна: на этом этапе конфликты интерпретаций (П.Рикер(67)) в рамках советского герменевтического эллипса стали постепенно приобретать все более и более патологический характер. При этом инерция сталинского периода была довольно велика, и в социально-политическом и экономическом смыслах созданная Сталиным система действовала относительно успешно. Фасад советского общества того времени представлял собой довольно привлекательную картину: жесточайшие репрессии прекратились, сверхусилий, необходимых для модернизации, никто более не требовал, и система в целом – двигаясь по мягкой нисходящей траектории – обеспечила себе несколько спокойных и относительно беспроблемных десятилетий. Это был расцвет советского обывателя, в котором, при более внимательном рассмотрении можно было увидеть спокойное экзистирование русского дазайна, надежно запертого официозной идеологией в подполье, но вместе с тем предоставленного самому себе и освобожденного от направленных против него регулярных репрессивно-террористических рейдов (как на предыдущих советских этапах).
На уровне философского дискурса в этой фазе можно выделить следующие тенденции:
(1) постепенное все большее запутывание марксистско-ленинской «ортодоксии» в ходе подстройки объяснения процессов, происходящих в СССР «де факто», под стандарты классического марксизма;
(2) пополнение рядов «ученых» и «философов» из числа выходцев из русского народа, не имевших никаких данных для усвоения западноевропейского дискурса и пытавшихся привнести (чаще всего бессознательно) в марксизм собственно русские мотивы мышления; своим конформизмом и полным согласием с внешними догматическими требованиями (смысла которых они не понимали) они лишь расшатывали последние фрагменты содержания марксистской идеологии;
(3) ограниченный диалог с западным марксизмом, который все более и более отшатывался от советского опыта на основании его сопоставления с аутентичным западным марксизмом, искажать основные положения которого у западных марксистов не было никакой необходимости (вплоть до еврокоммунизма и левого антисоветизма, особенно ярко проявившегося в троцкизме);
(4) более широкое обращение к западной философии и другим направлениям гуманитарных наук, попытки разгромно критиковать которые оказывались явно не состоятельными и мало-помалу переманивали самих критиков на сторону того, что они критиковали.
Все эти тенденции развивались параллельно, формируя массивную блокаду адекватного философского мышления в каком бы то ни было направлении. Все вынуждены были выражаться фигурально и иносказательно, вуалировать свои взгляды под завалами формалистической риторики и обязательных ритуальных формул, чаще всего сводящих на нет содержание текстов, если оно изначально в них присутствовало.
В утрате когерентности советского дискурса важную роль сыграла критика Хрущевым «культа личности» и денонсация сталинизма. Сталин создал более или менее устойчивую модель идеолого-политической герменевтики марксизма, которая доказала свою практическую ценность. Марксизм был объявлен, по сути, религией, требующей не понимания на основании человеческого разума, но подстройки под нее этого разума. Марксизм объявлялся априорной истиной, а задачей человека было ее осознание (становление «сознательной» личностью – в классовом понимании термина «сознания»). Это избавляло власть от столкновения с потенциальным «инакомыслием» -- «немарксистское мышление» было не «мышлением», но «аберрацией», психическим отклонением или несознательностью (если не «буржуазной диверсией)». При этом интерпретация марксистских положений закреплялось за верхушкой Компартии, а еще точнее, за Генеральным Секретарем Компартии, то есть Сталиным. Так, мысль и власть отождествлялись и персонифицировались в духе сакральных монархий Древнего мира – Вавилона или Персии. Ясности дискурса такая модель не способствовала, но определенные правила социально-политической игры она задавала. По меньшей мере, в ней открывалась широкая возможность толкования (и снятия) любого противоречия, которое могло быть разрешено по воле «верховного толкователя» и тут же подкреплено репрессивной мощью тоталитарного государства.
Хрущев поставил такую модель под сомнение, но предложить никакой альтернативы не смог, кроме замены прежней фигуры толкователя на самого себя. При этом были сделаны определенные попытки расширить «герменевтический кружок» властителей дискурса, что чуть, было, не привело к столь же фатальным последствиям, как в эпоху реформ Горбачева.
Советский «жизненный мир»
Инициативы Хрущева нарушили ясность сталинской структуры, но скорое смещение Хрущева и приход к власти Брежнева частично восстановил прежние пропорции. Правда, вместо авторитарной личности и персонального источника толкования, помноженной на власть, выступало теперь коллективное образование – Политбюро ЦК КПСС. Сам Брежнев был русским человеком, выходцем из простого народа и интеллектуальными качествами вообще не обладал. Марксизма он, видимо, не понимал совершенно, и был озабочен лишь сохранением функционирования советской системы, во главе которой он оказался, при том, что ни ее устройства, ни ее идейно-философских оснований он явно не осознавал; она досталась ему в готовом виде и он старался сохранить ее такой, какой получил в управление.
Если Сталин сам мыслил по-марксистски, но подчинял марксизм прямой воле к власти и соотносил с холодными требованиям Realpolitik; если Хрущев попытался демократизировать марксизм и вовлечь в его интерпретацию более широкий круг проблем, то Брежнев решил не связываться со сложными идеологическими проблемами и просто приглушить эту сферу вообще. По сути, Брежнев понимал под «марксизмом» сложившийся к тому времени своеобразный советской «жизненный мир», Lebesnwelt, который был центрирован не на идеях, теориях и концепциях, но на понятных и ощутимых вещах – производстве, урожаях, строительстве, товарах, хозяйственной отчетности, упорядоченности функционировании муниципальных служб и т.д. Это был, безусловно, социалистический «жизненный мир», основанный на марксистских принципах, которые никто не ставил под сомнение, но это была «философия вещей», «предметов», «технологических процессов» -- своего рода, технологический материализм. А то, что происходило в философских сферах, большого значения не имело.
Общая задача состояла в соблюдении формальных соответствий марксистским догматам, в отсутствии каких бы то ни было выводов, заключений или гипотез, которые могли бы потенциально нарушить «общий ход вещей» «жизненного мира», и в столь же формальной критике альтернативных буржуазных или западно-марксистских теорий (которые, в силу их далекости и недоступности, даже толком и понимать было не обязательно).
Второй момент – большое количество русских «философов» -- еще больше усиливал практический характер позднесоветского мышления, способствовал укреплению общей ориентации на «жизненный мир» и его понятные «языковые игры». Марксизм-ленинизм здесь смутно воспринимался как нечто приблизительно совпадающее с «русскостью», а конфронтация с буржуазным Западом способствовала столь приблизительному и цивилизационному пониманию идеологии. Здесь снова мы имеем дело с национал-большевизмом в форме «советского патриотизма». В нем лишь отсутствуют попытки отправить к «Красному Льву» своего «сладкозвучного» посла, общая экзальтация державостроительства и мобилизация (отчасти принудительная) народных масс на новый виток активности, как при Сталине. Так как в самом марксизме-ленинизме никаких – даже малейших – лазеек для формализации значения русского начала не находилось, то русские марксисты в целом просто молчаливо саботировали интеллектуальную связность официальной идеологии, принимая ее как она есть и имитируя требования дрессировщиков, не вдаваясь в смысл того, что требуется исполнять.
«Диалоги» с Западом в 60-70-е годы ХХ века
Что касается контактов с западным марксизмом, они оказывали на марксизм-ленинизм брежневской эпохи более деструктивное воздействие, так как общий концептуальный аппарат и сходство основных методологией порождало иллюзию того, что обе стороны говорят на одном языке, тогда как все понимали все по-разному, и, что самое важное, приходили, отталкиваясь от одинаковых предпосылок, к прямо противоположным выводам. Так, в 1960-е годы западные марксисты стали постепенно занимать все более и более антисоветские позиции, приходя к выводу, что построенная в СССР система не была социалистической, и что она под марксистской фразеологией скрывала «тоталитарную» и «национал-коммунистическую» сущность. Распространению такого подхода способствовала активность «Четвертого Интернационала», организованного сторонниками Троцкого. Снова внимание было обращено к идее «построения социализма в одной стране» и к наличию в России начала ХХ века достаточных условий для пролетарской революции -- ведь сам Маркс эксплицитно отвергал первое и был убежден в том, что пролетарские революции должны произойти вначале на индустриальном капиталистическом Западе, а затем только в аграрной «средневековой» России. На западных марксистов репрессии, запугивания и примеры из Lebenswelt'а (например, демонстрация высоких темпов развития промышленности в СССР), не действовали, и апологетам советского строя вести с ними диалог приходилось в трудных условиях: очевидность концептуальных натяжек и подтасовок, замаскированных в СССР, выступала на поверхность. При том, что в целом на советских марксистов это не особенно влияло (тем более за ними был установлен определенный надзор со стороны советских спецслужб), все же семена сомнения при соприкосновении с западными текстами, подлежавшими критике, западал, и уверенность в непоколебимости советской модели расшатывалась.
К этому добавлялось и знакомство с западной немарксистской философией ХХ века, понимать которую было чрезвычайно сложно, и критикуя которую по формальным признакам, советские философы подчас попадали под ее обаяние. Но понять до конца ее они не могли из-за отсутствия реальной вовлеченности в западноевропейский герменевтический круг, что только усугубляло археомодерн. Очевидно, что это аффектировало и историю философии, которая должна была быть марксистской в той степени, чтобы соответствовать советизму и ленинизму, но при этом одновременно так или иначе истолковать и классифицировать огромные массивы философского материала при наличии весьма скромного и внутренне противоречивого инструментария – старого марксизма XIX века и жалких оригинальных реконструкций собственно «советской философии».
Прорастающее русское
С точки зрения сопоставления их с русским дазайном, можно свести эти процессы к следующему. --
На этапе 1956-1982 годов русский дазайн выступал через молчаливый советский Lebenswelt, имплицитно толкующий СССР и социалистическую систему как нечто «русское», «автохтонное», требующее «защиты», «охранения» и «поддержания». Русское прорастало сквозь марксистское, как трава сквозь асфальт, не претендуя на формальное соучастие, признание или выражение. Оно давало о себе знать косвенно и в целом никак не затрагивало доминирующего идеологического и философского дискурса, который постепенно утрачивал ясность. На Брежнева уже не распространялся «культ личности», система более не вызывала у русских ни энтузиазма, ни ужаса. Складывалось впечатление, что русские решили несколько отдохнуть после сверхнапряжений первой половины ХХ века. Русский дазайн, по меньшей мере, в его философском выражении, взял определенную паузу, которая, как представляется, длится до сих пор.
Вместе с тем советская марксистская керигма в этот период усиленно разлагалась, утрачивала какую бы то ни было внутреннюю связность и когерентность, спускалась с уровня идей на уровень конкретных вещей и практических, бытовых, социально-экономических и технологических задач. Это был период сумерек советской философии, которая постепенно растворялась, испарялась и исчезала, превращаясь в нечто неощутимое, расплывчатое, лишенное какой бы то ни было стройности, консистентности и референтности.
Конец советской философии
Последняя фаза советского периода (1982-1991 гг. -- от смерти Брежнева до распада СССР) представляла собой логическое завершение всего цикла. Это время, непосредственно предшествующее эпохе либеральных реформ и появлению Российской Федерации, можно рассмотреть на разных уровнях.
С одной стороны, мы видим здесь открытую тотализацию советского «жизненного мира», совершенно утратившего какую бы то ни было связь со сферой идей. Советские люди начинают откровенно мыслить вещами, предметами, товарами и ощущениями, выстроенными по коду комфорт/дискомфорт. Любая связь между мыслью и вещью обрывается, слова и идеи теряют всякий смысл, идеологические штампы утрачивают содержание. Происходит десемантизация дискурса, который утрачивает смысловую нагрузку по мере полного истирания бесконечно и бездумно повторяемых идеологических формул.
При этом важно заметить, что такое растворение советской идеологии происходит не через ее отторжение или несогласие с ней, но, напротив, через ее принятие и согласие с ней. Русское Начало подтачивает основы модернистского дискурса неявно, косвенно, исподволь, покорностью и некритическим принятием превращая содержание в абсурд. Вместо мыслящего («сознательного») населения перед нами постепенно обнаруживается группа цирковых морских котиков, научившихся точно выполнять команды дрессировщика, прекрасно имитируя «понимание» их значения. Философские результаты такой цирковой дрессуры, наконец-то, явно дают о себе знать и «балаганный» характер всей советской философии и идеологии открывается в полном объеме.
На другом уровне слабнет политическая власть, и к ее вершине приходят еще более простецкие люди, нежели Брежнев и его окружение. Теперь это обычный позднесоветский тракторист, Михаил Горбачев, носитель чистого «жизненного мира», вообще не осознающий никаких ментальных и идеологических схем и конструкций за пределом узко производственных и семейных «языковых игр». При этом у Горбачева еще и недостаточно воли к власти, что делает ситуацию совсем плачевной.
В то же самое время мы видим первые признаки оживления более осознанного и внятного национал-большевизма, который выражается в позиции писателей-почвенников, определенных консервативных сил в КПСС и среди представителей силовых министерств и ведомств. Перед приходом Горбачева эта относительно «национал-большевистская» группа пытается сплотиться вокруг Ю.В.Андропова, но его скорая смерть на посту Генерального Секретаря ЦК КПСС ставит на этом точку. «Патриотическое» крыло позднесоветского общества так и не может организоваться и не идет дальше попыток заново соотнести советскую идеологию с русским началом. Но так как все это проходит в атмосфере полного умственного разложения и жесткого археомодерна, никаких серьезных результатов это не дает.
На крайней периферии общества начинают появляться немарксистские формы русского движения – такие, как общество «Память», православно-монархические кружки и группировки, но отсутствие непрерывной связи с досоветскими традициями и общая атмосфера в обществе превращает их заведомо в пародии и карикатуры. В 1990-е годы из этой среды постепенно начнет формироваться «патриотическое движение», которое, впрочем, так и не сможет преодолеть родовые пороки позднесоветской среды, в которой оно зародилось, и будет блокировано археомодерном.
Важным в этот период с интеллектуальной точки зрения моментом является новое появление в СССР западничества, опорой которого становятся крохотные группы диссидентов, практически полностью изведенные спецслужбами и инфильтрованные агентурой в 1970-е годы. Но внимание к этим группам начинают проявлять некоторые руководители советского государства из окружения Горбачева (в частности, А.Н.Яковлев), которые искусственно придают этому течению новую жизнь, ориентируют на «демократизацию» определенные слои лояльной доселе и вполне советской комсомольско-коммунистической научной общественности. Так формируется среда «прорабов перестройки», то есть социальные группы, призванные в очередной раз модернизировать находящуюся в глубоком кризисе позднесоветскую систему.
Опорой на сей раз – как и в прошлые периоды – служат западные общества и западная философия в целом. Начинается все с попыток вслушаться наконец-то в тезисы левых на Западе, но так как умственное состояние советских людей перешло критическую черту, то не просто взаимопонимание, но и простое понимание других, как и самих себя, оказывается невозможным, и эту стадию -- «ускорения» -- СССР проскакивает стремительно.
На следующем этапе становится вопрос не о совершенствовании социализма, а о копировании определенных капиталистических моделей – рынка, частной собственности, приватизации, либерализации СМИ -- при сохранении определенного политического контроля государства. Но и эта стадия проходит стремительно, и зарождается новая концепция – осуществить полную ревизию советской идеологии, отбросить ее и заменить копированием буржуазно-западной.
Показательно, что все эти идеи рождаются не в кругах устойчиво антисоветских и самостоятельно мыслящих людей, но среди партийной советской элиты. Она так легко прощается с тотально принимаемой ей идеологией не потому, что убедилась в ее ущербности, ложности или некорректности, а потому, что, и принимая ее, она внутренне не вдумывалась ни в один из ее постулатов и лишь имитировала согласие, соблюдая требуемые формальности. Это была не смена советской идеологии на антисоветскую, это было последний аккорд растворения советской идеологии, ее испарения, ее самостоятельного исчезновения.
Большинство советских философов просто не заметили, что нечто произошло. Будучи твердыми стражами тоталитарной идеологизации и верными ее исполнителями в отношении миллионов советских граждан, они вообще никак не прореагировали на ее мгновенный снос. Защищать социализм на улицы вышли маргиналы или «патриотические» силы. Хранители ортодоксии марксизма-ленинизма, советские философы просто проигнорировали то, что произошло на их глазах. Тем самым они продемонстрировали, что они исчезли, уснули, прекратили быть намного раньше, а когда пришел момент проверки – на своих постах остались только дремлющие тени.
Чем бы ни занимались «профессионально» позднесоветские философы, все это было чистыми химерами – ни марксистские штудии, ни критика буржуазных авторов, ни даже откровенные симпатии к определенным буржуазным авторам ничего не поменяли в заведомой бессмыслице их творчества. В рамках советского археомодерна было невозможно сделать ни единого внятного утверждения, заключения, замечания или предложения. Логика советского исказилась до неузнаваемости за все предыдущие фазы и набор нелепиц и натяжек был слишком велик, чтобы в нем разобраться – да ни у кого не было ни сил, ни желания, ни разрешения этим заниматься. А толком понять несоветские линии в современной философии, познакомиться всерьез с западноевропейским герменевтическим кругом также не было никакой возможности, в силу советской закрытости и требований идеологической «стойкости». Таким образом, все позднесоветские официальные (и даже неофициальные) философы оказались раздавлены «глыбами» герменевтического эллипса, превращавшего любой дискурс в заведомую чушь.
В конце всего советского периода мы видим только одну более или менее ясную тенденцию: ex Occidente lux. Спасение от внутренней блокады нам предлагают искать на Западе. Но какой это Запад?
Совершенно очевидно, что общее помутнение сознания позднесоветского общества нисколько не способствует тому, чтобы корректно обратиться к западной философии, к западной керигме, к герменевтическому кругу европейского и американского исторического процесса. Если кто-то и вставал на этот путь, то выход был один – эмиграция, отъезд в страны Запада, интеграция в западный мир на индивидуальной основе. Для такого решения в 1980-е открылись первые возможности, и многие не преминули ими воспользоваться. А так как все собственно советское выгнило до основания, возникла необходимость новой и почти с нуля (если не хуже) загрузки содержания западного философского опыта. Очевидно, что объем и масштаб задачи вывел бы любого, кто всерьез и честно увлекся философским западничеством, на долгий срок из сферы какого бы то ни было влияния на общую интеллектуальную среду в России. Что могли бы сказать эти люди, даже самые честные? То, что они впервые прочитали у Платона, Аристотеля, Боэция, Фомы Аквинского, Кузанского, Декарта, Локка, Лейбница, Канта, Гегеля, Маркса, Ницше, Витгенштейна, Рассела, Гуссерля, Хайдеггера, Делеза, Фуко, Хабермаса, Дерриды? Ведь то, что они раньше читали, было помещено в строгую топику марксистского дискурса, которая полностью рухнула, и им предстояло прежде загрузить новую топику – точнее, набор новых топик, и лишь потом работать с той или иной их них, тщательно исследуя фрагмент за фрагментом, школу за школой, теорию за теорией.
Поэтому в СССР к концу его существования к 1991 году состоялся самый настоящий конец философии, подводящий черту под более чем стопятидесятилетней попыткой, завершившейся полным провалом.
При этом русский дазайн, естественно, остался, но какую бы то ни было живую связь с официальной философией окончательно и бесповоротно утратил. Можно сказать, что с 1991 года он отныне пребывает сам в себе, в своем первозданном и не замутненным «философией» виде.
Постмодерн не может способствовать «модернизации»
К предыдущему разделу можно было бы присовокупить несколько замечаний относительно состояния философии в постсоветский период. Однако этот период, как представляется сегодня, не несет в себе вообще никакого содержания, которое бы хоть чем-то принципиально отличалось от последней позднесоветской фазы.
С одной стороны, по инерции продолжается догнивание философов, сформировавшихся в позднесоветский период, продолжающих транслировать закодированную белиберду, ключ к дешифровке которой давно утерян ими самими.
С другой стороны, полным ходом идет поток переводов и (чаще всего невразумительных) пересказов западных авторов, что целиком и полностью вписывается в процесс нового открытия западной мысли. Однако потерянные 70 лет и необходимость определенного разгона в начале этого процесса делают его довольно сложным, и до формирования полноценного философского западничества еще очень далеко.
Кроме того, следует обратить внимание на фундаментальный сдвиг в самой западной философии, который произошел в ХХ веке. Для нас в данном исследовании важнейшей «новостью», на которой мы строим основные выводы и методики по экзистенциальной аналитике археомодерна и выявлению русского дазайна является то, что западная философия кончилась, что ее больше нет. Это сообщил Хайдеггер, и перспективу «другого Начала философии» мы обсуждали в первом томе(68). Это его весть, «благая» или «нет», пока судить рано -- лучше вдуматься в то, о чем она нам сообщает и как ее следует понимать. Но не только Хайдеггер приходит к столь радикальному выводу. Постмодернисты, начиная с 1960-х годов, также настаивают на том, что в развертывании философии Нового времени наступил логический и закономерный сбой, что ее инерциальное развитие исчерпано, что она больше не может рассматриваться как естественное продолжение «модернизации», что ее ход описывает сложную дугу, напоминающую то ли фундаментальный разворот, то ли крах, то ли переход в принципиально новое, трудно осознаваемое пока состояние(69).
Постмодернисты говорят о «ризоме», «теле без органов», новом «номадизме», «воле к ничто», «бесовской текстуре» (Делез, Гваттари), о «дифферАнсе» (Деррида), о «слабой мысли» (Дж.Ваттимо) и «слабой теологии»(Дж.Капуто), «преодолении языка» (Ролан Барт, Филипп Соллерс) и т.д., в совершенно новом ключе формулируя философскую проблематику за пределом классической метафизики, онтологии и гносеологии Нового времени. Обращаясь к западной философии сегодня, мы попадаем не в модель фиксированных и многозначных нарративов, разобраться в которой неимоверно трудно, но все-таки возможно, но в расплавленную стихию распадающихся мыслей, случайных обрывков, рециклируемых фрагментов, ироничных анахронизмов и стилистических вывертов, которые даже для самого западного общества становятся все менее и менее доступными, проблематичными и подлежащими корректной интерпретации. Если даже допустить, что философия на Западе не кончилась, вопреки Хайдеггеру, то она представляет собой довольно устрашающее зрелище -- несомненно обоснованно и осмысленно устрашающее, но тем не менее устрашающее.
Она все больше напоминает невротический пронзительный скрип, заменяющий связную речь: ведь бессвязность и шизоидность дискурса –важнейшие свойства философии постмодерна (у Делеза, Гваттари). При столкновении с западным постмодерном у русских людей может сложиться впечатление, что «так бредить и безумствовать они и сами умеют», но это -- заблуждение, так как между преодолением рациональности и субъекта (которые имеются в наличии) и их отсутствием (в качестве чего-то конкретного и надежно зафиксированного) дистанция огромна. «Бред» постмодернизма философски обоснован, это – философский бред и строго «научное безумие». Это станет понятно, если сравнить банку от «Пепси-колы» Энди Уорхолла с миллиардами других не-уорхолловских банок. Чтобы сойти с ума, надо прежде иметь то, с чего сходить.
Из торжества постмодерна на Западе можно сделать одно важное замечание. Обращение к Западу и западной философии, которое традиционно служило главным методологическим приемом для укрепления археомодерна в России, а начале XXI века перестает выполнять эту роль. Запад не может выступать больше как гарант модерна, так как там модерна больше нет, а если он в каких-то сегментах общества и остался (явно не в сфере философии), то и это не надолго, и постепенно он исчезнет и там. Поэтому даже целенаправленное и активное направление потоков постмодерна на русский археомодерн никаких принципиально новых моментов внести не может (чего не понимают сами западники в современной России); ни к какой модернизации он не приведет, но только благополучно разложит еще больше и так (без него) распавшуюся донельзя систему.
Нулевой цикл
Что же касается попыток хоть как-то воссоздать собственно русскую философию, то всерьез таких попыток пока никто не предпринимал, хотя определенные шаги в этом направлении делались. В частности, чрезвычайно полезны публикации текстов русских философов, исследований их творчества, собрания архивов и библиографических данных. Огромную ценность представляют лингвистические и филологические исследования, которые, не ставя перед собой неподъемных задач в обобщении материалов, готовят основательную базу для того, чтобы однажды вопрос о возможности русской философии был поставлен нашим обществом всерьез. Столь же важны исторические, археологические, регионоведческие, этнологические и этнографические работы, исследования религиоведческого характера.
А вот попытки выдвинуть «русскую доктрину», «проект Россия», «национальную идею» и т.п, напротив, лишены большой ценности, так как любые инициативы в таких обобщающих системах при нынешнем положении дел в этом вопросе не могут заведомо дать никаких результатов, и только плодят пустой и тщеславный догматизм. Гораздо конструктивнее честно признать, что мы чего-то не знаем, нам чего-то не хватает, мы в чем-то нуждаемся, и стараться узнать, обрести, отыскать, нежели желать вид, что все в порядке, и только какие-то чисто внешние факторы, «злые силы» или «конкуренты», препятствуют реализации самоочевидных шагов и исполнению само собой разумеющихся планов. Таких шагов и планов нет. Русской философии нет. Русской национальной идеи нет. И не будет, пока мы не возьмем на себя труд начать с рытья фундамента, что собственно мы и попытались проделать в этой работе, исследуя русский дазайн.
Заключение
Примечания
(1) См. подробнее Дугин А. Две партии в Русском Православии/ Дугин А. Логос и мифос. М.: Академический проект, 2010; Он же. Русская Вещь. М.:Арктогея, 2000 Т.1. С.501-617; Он же. Эволюция национальной идеи Руси (России) на разных исторических этапах// Дугин А. (ред.) Основы евразийства, , М.: Арктогея Центр, 2002.
(2) См. Дугин А. Русская вещь.Указ. соч. Т.1 С.541-604.
(3) Семевский М. И. Шутки и потехи Петра Великого//Русская старина: Жизнь императоров и их фаворитов. М., 1992; Носович И. Всепьянейший собор, учрежденный Петром Великим // Русская старина. — 1874. Год пятый. Декабрь.
(4) Греческий термин κεριγμα означает «провозглашение», «оповещение» и в церковном контексте относится к процессу блоговестия «Евангелия» и донесения до всех истины Христовой веры. Немецкий протестантский теолог Рудольф Бультман предложил толковать «керигму» как чисто рациональное содержание христианского учения, противопоставленную множеству мифологических сюжетов, заимствованных из иных не строго христианских источников. См. Bultmann R. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung (1941)/H.-W. Bartsch (Hg.). Kerygma und Mythos. Band 1, 4. Hamburg: Reich, 1960. С. 15-48; Idem. Zum Problem der Entmythologisierung/ H.-W. Bartsch (Hg.). Kerygma und Mythos Band II. Hamburg: Reich 1952.
(5) Русский поэт- символист Вячеслав Иванов выразил это в следующей строфе из второй части поэмы «Человек» (Иванов В. Человек. М., 2006), которая называется «Ты еси»
Когда с чела "я есмь" стираю
И вижу Бога в небеси, —
Встречая челн, плывущий к раю,
Любовь поет мне: "ты еси!"
См. также Головин Е. Серебряная рапсодия. М.:Эннеагон Пресс, 2008.
(6) «Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор., 1, 22-23).
(7) Метафизическое толкование отношения иудаизма и христианства подробнее разобраны в Дугин А. Метафизика Благой Вести. М.: Арктогея, 1996.
(8) Строго говоря, выражение «Credo quia absurdum (est)", «верую, ибо это абсурдно» не цитата, а парафраз Тертуллиана, говорившего в своем произведении «О плоти Христовой" (De Carne Christi) следующее: "Сын Божий и умер; это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребен и воскрес; это достоверно, потому что это невозможно". (Буквально на латыни: "Et mortuus est dei filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile").
(9) Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове, кн.1., Мир человека. СПб.: СПбГУ, 2000.
(10) Полный текст стихеры таков: «Что Ти принесем Христе яко явился еси на земли, яко человек нас ради? Каяждо от Тебе бывших тварей благодарение Тебе приносит. Ангелы — пение, Небеса — звезду, Волхвы — дары, Пастырие — чудо, Земля — Вертеп, Пустыня — ясли, Мы же — Матерь Деву. Иже прежде век Боже, помилуй нас.»
(11) Дугин А. Метафизика Благой Вести. Указ. соч.
(12) Об этом понятии, разбираемом в духе структуралистской топики, см. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике.М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2002. Рикер в этой работе совершенно оправданно апеллирует к керигме Бультмана и строит на оппозиции керигма/структура модель, близкую к археомодерну.
(13) Bultmann R. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. Op. cit.; Idem. Zum Problem der Entmythologisierung. Op. cit.
(14) Классическими трудами в этой сфере являются Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. ; Голубинский Е. Е. История Русской Церкви в 2 т. М.: Общество любителей церковной истории, 2002.
(15) Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
(16) Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV—XVI вв.). М.: Индрик, 1998.
(17) Эта тема обстоятлеьно разобрана в книге современного историка Фроянова. Фроянов И.Я. Драма русской истории: На пути к Опричнине. М., 2007.
(18) Смысл событий русского раскола достоверно описан историком Зеньковским. См. Зеньковский С. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века. München, 1970.
(19) См. Булгаков С.Н. Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери. Париж: Имка-Пресс, 1927; Он же. Православие. Париж: 1965.
(20) См. Флоровский Г. В. Пути русского богословия.— Париж: YMCA-PRESS, 1983.
(21) См. Шмеман А. Церковь, мир, миссия: Мысли о православии на Западе. М., 1996; Он же. Введение в богословие: Курс лекций по догматическому богословию. М.; Париж; 1993.
(22) См. Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика: Единство Империи и разделение христиан. Святой Григорий Палама и православная мистика. Византия и московская Русь. М., 2000; Он же. Рим. Константинополь. Москва. Исторические и богословские исследования. М., 2005.
(23) См. Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Указ. соч.
(24) См. Керн Киприан. Антропология святого Григория Паламы. Париж, 1950.
(25) Зеленогорский М. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея. М., 1991.
(26) "Акт по вопросу о снятии клятв 1666–1667 гг.". Указ Временного Патриаршего Синода от 28 апреля 1929 г. Преосвященному митрополиту Евлогию./Акты Московского Престола. 3–4.
(27) Флоровский Г. О почитании Софии Премудрости Божией в Византии и на Руси /Альфа и Омега. 1995. № 4. С. 145-161.
(28) Там же.
(29) См. Дугин А.Г. Метафизика Благой Вести, М.: Арктогея, 1996 ; Он же. Постфилософия. М.: Евразийское Движение, 2009.
(30) Йейтс Фрэнсис. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000; Она же. Розенкрейцеровское Просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999.
(31) Тютчев Ф. И. Сочинения в 2-х тт. М.,1980. Т1 . С. 73.
(32) Блок Александр. Сочинения в двух томах. Т. 2.М.: Художественная литература, 1955.
(33) Глубокое проникновение в «метафизику» поэзии Серебряного века мы встречаем в книге современного великого русского поэта, культуролога и философа Евгения Головина. См. Головин Е. Серебрянная рапсодия, М.:Эннеагон Пресс 2008. Особенно рекомендуем аудиовыступления Головина на эту тему, выпущенные на аудионосителях – Е.Головин «Беседы о поэзии», М., 2010, 2 CD.
(34) Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994.
(35) Эта же проблематика в оптике философии традиционализма рассматривается в следующих трудах: Дугин А. Абсолютная Родина. М.: Арктогея-центр, М., 1999; Он же. Философия традиционализма, М.:Арктогея-Центр, 2002; Он же. Постфилософия, М.: Евразийское Движение, 2010.
(36) Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно- безмолвствующих. М.: Канон, 1995.
(37) Афинская школа неоплатоников была закрыта Юстинианом в 529 году.
(38) Йейтс Фрэнсис. Джордано Бруно и герметическая традиция. Указ. соч.
(39) Впрочем бред вообще является бредом только в том случае, если мы не понимаем его структуры. В этом смысле показательны методы психоаналитической герменевтики К.Г.Юнга, с блеском расшифровывавшего не только выразительные и яркие картины бреда шизофреников, параноиков, но и скупые жесты кататоников. См. Юнг К. Г. Работы по психиатрии. Спб.: Гуманитарное агентство Академический проект, 2000.
(40) Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4-х тт. М.: Традиция, 1997.
(41) Агурский М. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.
(42) Agursky M. The Third Rome: National Bolshevism in the USSR. Boulder: Westview ,1987.
(43) Эткинд А. Хлыст. М.: Кафедра славистики Университета Хельсинки, Новое литературное обозрение, 1998.
(44) Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация: от начала до наших дней. М.: Алгоритм, 2008.
(45) Дугин А. Тамплиеры пролетариата. Национал-большевизм и инициация. М.:Арктогея, 1996; Он же. Русская Вещь, М.:Арктогея, 2000.
(46) Устрялов Н.В. Национал-большевизм. М., 2004.
(47) Трубецкой Н.С.Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2000.
(48) Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.:Аграф,1997.
(49) Алексеев Н.Н. Русский народ и Государство. М.:Аграф, 2000.
(50) Дугин А. (ред.) Основы евразийства. М.: Арктогея-центр, 2002.
(51) Клюев Н.А. Гагарья судьбина/ Клюев Н.А.Словесное древо: Проза. СПб., 2003. С.31-42.
(52) Интересный анализ «агиографии» Клюева в духе народного сектантства дает Е.И.Маркова: Маркова Е.И.Родословие Николая Клюева. Петрозаводск, 2009.
(53) Клюев Н.А. Сердце Единорога. СПб., 1999. С. 640-648.
(53-1) Там же. С. 701-818.
(53-2) Там же. С.426.
(54) Там же. С. 407.
(55) Клюев Н.А.Словесное древо: Проза. Указ. соч. С. 156.
(55-1) Там же. С. 156-157.
(55-2) Там же. С. 157.
(56) Клюев Н.А. Сердце Единорога. Указ. соч. С. 351-352.
(57) Клюев. Н.А. Кремль// Наш современник. 2008. №1, январь. С. 135-157.
(57-1) Там же. С.139.
(58) Клюев Н.А. Сердце Единорога. Указ. соч. С. 381-382.
(58-1) Там же. С. 381.
(59) Там же. С.355-356.
(59-1) Твм же. С. 355.
(60) Дугин А. Магический большевизм Андрея Платонова//Дугин А. Русская Вещь. Указ. соч.Т.2. С.85-114.
(61) Платонов А. Чевенгур. М., 1989.
(62) Дугин А. Магический большевизм Андрея Платонова. Указ. соч.
(63) Платонов А.П. Котлован. М.: Дрофа, 2002.
(64) Клюев Н.А. Сердце Единорога. Указ. соч. С.670-695.
(65) Там же. С.701-816.
(66) Цит. по Шенталинский В. Гамаюн - птица вещая // Огонек. 1989. № 43. С.10.
(67) См. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. Указ. соч.
(68) Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
(69) См. Дугин А. Постфилософия. М.: Евразийское Движение, 2010.
Заключение. Явление русского Начала
Разметка философского поля
Данная книга, а также то, что можно считать ее первой частью – «Мартин Хайдеггер: философия другого Начала»(1) -- представляют собой только предварительные шаги к полноценной трактовке темы о возможности русской философии. Мы далеки от того, чтобы переоценивать эти заметки и считать их чем-то окончательным и бесповоротным. Это следует воспринимать как приглашение к определенного рода размышлениям, как настраивание философского инструмента – в крайнем случае, взятие на нем предварительных пробных аккордов. И тем не менее уже на данном этапе можно применить основные моменты, которые нам удалось установить, к проектированию новых направлений и новых путей развития изначальных интуиций. Мне представляется, что данное заключение стоит построить как анонсирование дальнейших будущих работ и как разметка философского поля. Каким из этих работ суждено появиться на свет и под чьим авторством -- не так важно: те, кто осознают важность затронутой нами проблематики и обладают достаточной волей и интеллектуальными навыками, просто не смогут рано или поздно не включиться в работу. Это императив русской истории, и она сама обязательно найдет тех, кто воплотит этот императив в действительность. Поэтому не стоит уточнять, чей это план: это просто план, русский план дальнейшего исследования того, возможна ли русская философия, а если да, то как сделать так, чтобы она стала действительной.
Эти направления могут развиваться как в форме монографий, так и в форме учебных курсов. В них могут принимать участие специалисты разного гуманитарного профиля — философы, социологи, культурологи, политологи, историки, филологи, религиоведы, психологи, правоведы и т.д. На этом основании можно построить не одну научную школу. Следовательно, можно рассмотривать это как ориентиры для защиты докторских кандидатских, магистерских диссертаций, дипломных и даже курсовых работ, эссе, рефератов, сочинений и т.д. В этот русский план могут включиться все.
Итак, выделим основные направления, которые эмбрионально содержатся в нашем двухтомнике о Хайдеггере и которые могут (должны) так или иначе получить дальнейшее развитие.
Задание номер 1: демонтаж археомодерна
Важнейшей исторической задачей, которая стоит перед нашим народом и нашим обществом, является демонтаж археомодерна, , преодоление его, излечение и освобождение от него. Какую бы форму процесс прощания с археомодерном ни приобрел, он рано или поздно состоится. Архемодерн есть нечто, что следует преодолеть.
Уже сейчас можно указать на ряд источников, где эта проблема – разблокирования археомодерна – поставлена во главу угла. Это наши труды – «Радикальный субъект и его дубль»(2), «Социология воображения»(3), «Логос и мифос»(4), «Социология русского общества»(5). Но это капля в море, и для полноценного постижения этого явления требуется предпринять еще много усилий.
Можно наметить те конкретные направления, в которых следует двигаться.
1. Классификация, систематизация и компаративные исследования феноменов археомодерна в различные периоды русской истории и различных областях. Это включает в себя такие, например, темы:
а) Признаки археомодерна на древних этапах русской истории. Их идентификация, выявление. Установление точных пропорций между заимствованными (из Византии, Европы, культур Востока) и автохтонными элементами в религии, культуре, литературе, мифологии, политике, праве Древней Руси.
b) Предпосылки появления археомодерна в XVII веке. Отчуждение элит от власти, западные влияния в иконописи, церковном пении, шире, церковной культуре, появляение секулярных тенденций, глубинный анализ церковного раскола и его метафизического и социологического смысла, подготовка самой возможности осуществления реформ Петром I. Генезис русского народного сектантства.
с) Становление и расцвет археомодерна в XVIII веке. Переосмысление Петровских реформ и их корректная и полноценная деконструкция. Элиты и массы в Российской Империи XVIII века: дуализм культур. Десемантизация политического дискурса Западной Европы в России XVIII века: периоды царствовования (от Петра до Павла). Богословский, экклесеологический, социологический анализ Синодального устройства Русской Православной Церкви в XVIII веке. Появление западноевропейской науки в России.
d) Трансформация археомодернистской парадигмы русского общества в XIX веке. Отличия от парадигмы века XVIII и XX. Народное Просвещение. Славянофильство и западничество. Русский консерватизм. Русский либерализм. Русское революционно-демократическое движение. Народничество. Отмена крепостного права. Феномен культуры разночинцев. Развитие российской науки.
e) СССР как археомодернистское образование. Трансформация марксизма в России. Влияние архаического начала. Идеологические мутации. Роль Ленина. Роль Троцкого. Роль Сталина. Изменение социальной и философской парадигмы на разных стадиях советской истории.
f) Археомодерн и западничество в 90-е годы ХХ века. Демонтаж социализма и установление капитализма. Тип построенного в 1990-е общества. Либерал-реформаторы и их мировоззрение.
g) Археомодерн в России 2000-х. Реформы Путина. Приоритет тематики суверенитета. Суверенная демократия. Олигархат и его эволция. Структура социального сознания масс и элит. Феномен «трэш-патриотизма». Масс-культура. Россия, Запад и глобализация.
2. Прослеживание археомодерна и вскрытие его структур в отдельных областях, что включает в себя:
a) Археомодерн в философии. Прослеживание археомодернистических тенденций в русском обществе от эпохи распространения христианства вплоть до современного этапа – русская религиозная философия, философия науки, советская философия, кризис философии в наше время. (Философия).
b) Археомодерн как социологическая парадигма русского общества. Обобщающий социологичсекий подход. Институционализация исследований археомодерна в российской социологии как самостоятельное направление. (Социология).
c) Археомодерн в политике. Российская государственность как потенциальный археомодерн. Политические идеологии и режимы в истории России и их связь с археомодерном. Право. Политические институты России. Новая интерпретация политики СССР. Деконструкция демократии. (Политология, правоведение).
d) Археомодерн в русской культуре. Археомодерн в иконописи и музыкальной культуре церкви с XVII века по настоящее время. Светская культура XVIII века. Религиозные тенденции, атеизм, материализм и позитивизм в культуре XIX века. Русская классическая литература. Русская поэзия. История искусств (музыка, живопись, театр). Пролетарская культура и советская культура. Конец культуры в 90-е годы ХХ века – в начале XXI века. (Культурология, филология, искусствоведение).
e) Археомодерн в науке. Российская наука как археомодерн. Иррациональное начало в российском научном мышлении. Спиритизм (Попов). Космизм и «воскрешение мертвых» и контакт с инопланетянами (Циолковский). Солнце и история (Чижевский). Ноосфера (Вернадский). (История науки, философия науки).
f) Археомодерн в психологии. Рассогласование сознания и рациональной деятельности у русского человека. Археомодерн и «загадка русской души». Правда и право. Легальность и легитимность. Психология глубин и русское коллективное бессознательное. Влияние археомодерна на психоаналитические особенности русских. Типовые психические расстройства русских. (Психология, психоанализ).
Мы показали в этой книге и в других исследованиях(6), что археомодерн, распознанный как таковой, то есть как археомодерн, качественно утрачивает силу и глубину своего болезнетворного влияния. Он создает проблемы, заторы, тупики только тогда, когда скрыт из виду, спрятан, когда он сам отрицает свое существование и стремится сделать вид, что «так и должны быть», что это «статус кво», которое невозможно ни изменить, ни излечить, ни понять, так как мы имеем дело с «объективной данностью». Осознанное исследование археомодерна непременно приведет к убедительной демонстрации того, что это не «объективная данность», но болезненная иллюзия, тяжелая психо-социальная, культурная и политическая патология, от которой можно и нужно излечиться – и чем скоре, тем лучше. Поняв как функуционирует археомодерн в разных сферах, проследив его генетические корни, этапы его становления и закрепления в качестве основной социологической парадигмы в России, мы сможем свести на нет его гипнотическое могущество, а значит, сбросить ярмо интеллектуального рабства и освободиться для творения собственной подлинной русской судьбы.
Освобождение от археомодерна, его ниспровержение – главная задача для возможной русской философии. Но ее нельзя решить в лоб. Археомодерн настолько глубоко въелся в плоть и кровь нашего общества, что простым призывом избавиться от него и даже корректным его описанием мы этой проблемы не решим. А следовательно, мы должны выполнить параллельно (именно параллельно, а не последовательно!) еще два фундаментальных задания.
Задание номер 2: корректное постижение Запада
Демонтаж археамодерна и разблокирование русского Начала невозможны без фундаментального рывка в постижении Запада. И здесь нам существенно помогли бы русские западники, если бы они были честны и последовательны и смогли бы прорваться к западным структурам и западным смыслам, как они существуют в самой западной культуре. Но, увы, объективная картина не позволяет нам на это расчитывать. Вместо героического прорыва к подлинно рациональным, логосным и логоцентричным аспектам западноевропейского мышления в лице русских либералов-западников мы видим чаще всего неизлечимых носителей все того же самого археомодерна, имеющих о Западе и его устройстве самое нелепое, искаженное, уродливое и неточное представление. Это уродская химера, а не Запад, плод многослойного недопонимания, а то и полного непонимания, возведенные в пароль членов «тайного общества» -- ненавидящих самих себя, свой народ, свою историю, свою культуру припадочных русофобов.
Западником в России, по крайней мере, в современной, является не тот, кто любит Запад, а тот, кто ненавидит Россию, ненавидит сам себя и эту ненависть облекает в условный гипотетический «Запад», идеализированную картину того, «как надо», и того, «где нас нет». Все пропорции в таком кривом западничестве нарушены: восхищение вызывает самое банальное, экстраординарное считается обычным, девиация воспринимается как норма, а тривиальность вызывает удивление. В таком западничестве все аспекты западной культуры сплющиваются в одно невнятное и бессмысленное целое. Но это никакой не Запад – это извращенная карикатура, вечная российская либерально-демократическая, «правозащитная» смердяковщина.
Русские западники не помогут нам понять Запад. Они только все окончательно запутают. Их ненависть ко всему русскому, их болезненный «ressentiment» неконструктивны. Поэтому мы должны понять Запад сами. Понять его как русские. Но при этом понять как другое. Понять практически с нуля.
Эта философская операция может быть уподоблена подготовке агентов-нелегалов. Задача качественного разведчика невероятно сложна: он должен в совершенстве освоить чужую идентичность, сохранив при этом свою собственную в неприкосновенности. Далеко не все психологически могут работать в разведке, а среди самих разведчиков нелегалы составляют еще более узкую прослойку. Таким образом, для знакомства с Западом мы можем отрядить далеко не всех интеллектуалов, а только избранных, остальным это лишь повредит и окончательно испортит их археомодернистическое мышление (тем более они ничего в нем и не поймут).
Для того чтобы постичь Запад, нам необходимы агенты-нелегалы в области философии, культуры и мировоззрения. Задача, стоящая перед ними, чрезвычайно сложна -- проникнуть в суть западного миросозерцания и сообщить своим о том, что они увидели, узнали, поняли. Но сообщить внятно, убедительно, достоверно. При этом надо избежать двух крайностей:
· не поддаться на обаяние западной культуры, особенно после того, как стройность и взаимосвязанность ее составляющих начнет обнаруживаться во всем грандиозном объеме (Запад обладает определенным величием, которое не так просто перенести);
· не отвергнуть Запад слишком рано, найдя его неценным, пустым, проигрывающим русскому Началу, еще до того как его структура станет очевидной.
Очевидно, что это под силу только избранным и хорошо сформировавшимся людям, с пронзительным переживанием русской идентичности, оживленных тайным огнем русского Начала, но в то же время наделенным острым пронзительным и, в определенном смысле, холодным рассудком, способным контролировать и упорядочивать безбрежное половодье чувств и мыслей.
Для таких людей есть определенные философские терминалы, в которых можно перейти границу между двумя мирами: археомодернистским миром закабаленного русского сознания и миром западноевропейской культуры.
Главнейшим таким терминалом, который способен мгновенно ввести нас в курс дела западной судьбы, является Мартин Хайдеггер. Об этом мы, в основном, и рассуждали в наших двух книгах. Следовательно, усвоение Хайдеггера является главной стратегической задачей русского народа и русского общества в ближайшей перспективе. Постижение Хайдеггера – ключ к русскому завтра. Если мы с этим не справимся, мы обречены. Если справимся – у нас появляется шанс.
Таким образом, развертывание хайдеггерианских штудий в современной России является приоритетной задачей для всего русского гуманитарного образования. В этом смысле вполне уместным является максима: «Хайдеггер все, остальное ничто». Пусть она утрирована, зато не оставляет иллюзий, что можно как-то еще. Больше никак нельзя.
Однако есть три условия, которые необходимо соблюсти, чтобы приступить к фундаментальному знакомству с Хайдеггером.
Надо немедленно откладывать все то, что в русских хайдеггерианских исследованиях несет на себе отпечаток «археомодерна» (лучше выбросить все существующие переводы и тем более любые комментарии к ним) и приступить к этому знакомству с чистого листа. Почти со стропроцентной уверенностью можно утверждать, что все написанное о Хайдеггере или переведенное из него, особенно в советское время или людьми, получившими советское образование, есть недоразумение и должно быть отправлено на помойку – это испорченный продукт, насыщенный смертельными вирусами.
Надо непременно выучить немецкий язык и знакомиться с текстами Хайдеггера только на языке оригинала (не очень радикальное требование, если учесть всю серьезность нашего положения). Эти тексты не так сложны, как может показаться на первый взгляд, надо лишь приложить усилия.
Надо изучить идейный и философский контекст, в котором размещаются философские труды Хайдеггера, и проследить его связи с окружающей интеллектуальной средой. Здесь, в первую очередь, потребуется полноценное знание:
· немецкой классической философии;
· трудов Ницше;
· феноменологии (Ф. Брентано, Э. Гуссерля, А. Мейнонга, Э. Финка и т. д);
· мировоззренческого контекста движения Консервативной Революции, к которому Хайдеггер тесно примыкал (Э.Юнгер, К.Шмитт и т.д.);
· германской поэзии XIX-XX веков (от Гельдердина до Рильке, Бенна и Тракля);
· социально-политической ситуации Германии (и Европы) 20-50-х годов ХХ века.
И лишь на следующем этапе, отталкиваясь от работ самого Хайдеггера, можно будет реконструировать всю модель западноевропейской философии: от досократиков до Гегеля и Ницше.
Другими терминалами, служащими той же цели прорывного схватывания западной культуры могут служить:
социологи (Э.Дюркгейм, М.Мосс, Ф.Тённис, В.Зомбарт, Ж.Дюран и т.д.);
историки религии и традиционалисты (Р.Генон, Ю.Эвола, М.Элиаде и т.д.);
психоаналитики (З.Фрейд, К.Г.Юнг и т.д.)
структуралисты (де Соссюр, К.Леви-Стросс, М.Фуко и т.д.);
культурные антропологи (Ф.Боас, Б.Малиновский и т.д.) и этносоциологи (Р.Турнвальд, В.Мюльман и т.д.);
культурологи (О.Шпенглер, А.Тойнби и т.д.);
историки школы анналов (М.Блок, Ф.Бродель и т.д.);
Людвиг Витгенштейн (особенно поздний);
постмодернисты (Ж.Делез, Ж.Деррида. Ф.Лиотар и т.д.).
Все они, так или иначе, являются носителями финального, резюмирующего мышления о судьбах западной культуры и цивилизации, которую они осмысляют с позиции ее конца (кризиса, катастрофы) или с позиции наличествующих в ней неизменных констант. В любом случае, они мыслят Запад в целом – от его появления до его «заката», «завершения» (как бы те или иные авторы это «завершение» ни истолковывали). Ко всем этим направлениям в полной мере относятся те соображения, на основании которых мы взяли для обоснования возможности русской философии Хайдеггера: они, как и Хайдеггер, не строят себе иллюзий относительно того, что Запад и его культура стоят на грани, за которой всерьез маячит «ничто». И перед лицом «ничто» они в высоком аккорде духовной агонии окидывают интеллектуальным взором смыслы того, что заканчивается: западный этап бытия. Так как в археомодерне мы сами стали жертвой этого «западного этапа», то нам жизненно важно понять и то, что он заканчивается и что именно заканчивается; чем было на самом деле то, что заканчивается, и в чем состоял его смысл.
И снова: эти направления и эти авторы должны изучаться на языке оригинала и с учетом широкого интеллектуального контекста, в котором они творили. Мы должны осуществить корректную деконструкцию их текстов и идей.
Таково в самых общих чертах второе задание. И здесь вновь можно привести множество более узких тем для исследований. Но это представляет собой чисто техническую проблему: если применить правила интеллектуальной гигиены (от вируса археомодерна) и читать этих авторов только на языке оригинала или, на худой конец, в переводе на какой-то другой европейский язык, то мы получим в обозримый период времени веер чрезвычайно важных результатов в виде переводов, диссертаций, дипломов и рефератов. Главное, чтобы подготовкой специалистов по изучению Запада руководили люди новой формации – преданные русскому Началу и обладающие холодным и высокоразвитым интеллектом.
Задание номер 3: развертывание философии хаоса
И, наконец, последнее задание, которое состоит в разработке философии хаоса.
Это, пожалуй, самая творческая и самая непростая вещь. Основы такой философии мы сформулировали в данной работе. Это можно взять за отправную точку. А в полноценном, развернутом виде философия хаоса должна представлять собой нечто в таком роде:
1. Онтология хаоса. Описание того, как хаос соотносится с бытием и небытием; какова роль ничто в хаосе. Каков статус бытия порядка внутри хаоса.
2. Гносеология хаоса. Развернутое описание инклюзивного хаотического мышления, разделяющего Это и Это. Феноменология познавательных процессов хаоса. Что такое хаос-субъект? Хаос-объект? Познание хаоса, познание хаосом; хаос как познающее-познаваемое.
3. Логика хаоса. Знаки хаоса. Языки хаоса. Глоссолалия. Смысл и значение в языках хаоса. Грамматика хаоса.
4. Хаос и пространство. Пространство как хаос. Пространство как вечность (все время). Пространство как форма жизни. Хаотические координаты пространства. Пространство петли. Хаос и материя. Хаос и хора.
5. Хаос и время. Структуры хаотической темпоральности. Хаос и классические времена (цикл, регресс, прогресс). Хаос и новое. Хаос и история.
6. Существа хаоса. Камни, растения, звери, люди, духи хаоса. Самостоятельность и связность существ. Иерархия и равенство видов. Суперпозиция обществ.
7. Хаос и идеи. Визуальные и световые аспекты хаоса. Парадигмы хаоса. Упорядочивающий беспорядок.
8. Хаос и женское начало. Дева вод. Миф о водном рождении. Пресный и соленый хаос. Хаос как мать. Хаос и земля.
9. Феноменология хаоса. Формы проявления хаоса. Хаос как данность. Хаос как мир. Хаос как порядок.
10. Эсхатология хаоса. Сотериология хаоса. Спасение в хаосе. Явление хаоса.
11. Этика хаоса. Хаотическое добро и хаотическое зло. Недуальная этика. Этика инклюзии.
12. Эстетика хаоса. Красота и безобразие в инклюзивных структурах. Значение хаотического образа.
13. Социология хаоса. Социальная и политическая организация общества на основах хаоса. Народ и хаос. Государство как форма бреда.
14. Хаос и русские. Русские как народ хаоса. Русские как носители природы хаоса. Русские как философы хаоса.
Развертывание философии хаоса представляется среди всех остальных направлений наиболее проблематичным и творческим в том смысле, что в западной философии нет или почти нет того, чем мы могли бы воспользоваться. В некотором смысле, это должно быть чем-то вроде философии другого Начала, о которой говорил Хайдеггер, но с тем отличием, что с опорой на европейский Dasein ее построить невозможно, а с опорой на русский дазайн не просто можно, но и нужно. Однако риски и опасности такого интеллектуального демарша трудно себе представить: настолько они велики. И чтобы приступить к этой теме, необходимо тщательно выполнить два предыдущих задания или, по меньшей мере, непрерывно над ними работать. В противном случае вместо действительно радикально новой и подлинно русской философии мы снова получим какое-то экстравагантное издание археомодерна, не способного постигнуть западноевропейскую культуру, но брезгливо отвернувшего и от собственного русского Начала. Одним словом, вместо полноценной философии хаоса мы серьезно рискуем получить какую-то несусветную чушь.
Но все новое обязательно достается ценой невероятного риска. Без риска ничто не ценно. Но все же следует еще раз предупредить: за эту тему лучше браться, сто раз подумав и взвесив свои силы.
Явление русской философии
Одновременное движение в трех обозначенных направлениях подведет нас напрямую к явлению русской философии. В тот момент, когда мы пройдем по этим траекториям критический отрезок пути, миновав точку невозврата, археомодерн затрещит по швам, начнет лопаться, его структуры станут осыпаться, как осенние листья. Из-под насквозь прогнившей надстройки покажется само русское Начало, чей приход подготовят те, кто воспримет приглашение к обоснованию возможности русской философии как дело жизни, как веление судьбы.
Это русское Начало будет глубинным и всеобъемлющим, как гигантский, застилающий горизонт земляной шар.
Русская философия состоится через мысль, но не как мысль, а как плоть, как пространственное явление, как преображение плоти в бесконечность русского телесного света.
Этот момент уже записан в анналах хаоса и в принципе состоялся, но приблизить его или отложить – это зависит от нас.
Примечения
(1) Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
(2) Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
(3) Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.: Академический проект, 2010.
(4) Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. М.: Академический проект, 2010.
(5) Дугин А.Г.Социология русского общества. М.: Академический проект, 2010
(6) Там же.
Библиография на русском языке
Абдуллин А. Р. Об одном аспекте философии техники Мартина Хайдеггера // Современные проблемы естествознания на стыках наук: Сб. статей: В 2 т. Т. 1. Уфа, 1998.
Автономова Н. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М., 1977.
Агурский М. Идеология национал-большевизма. М.: Алгоритм, 2003.
Адорно Т. Проблемы философии морали. М.: Республика, 2000.
Аксаков И.С. Иван Аксаков в его письмах. М., 1888-1896.
Аксаков И.С. Сочинения в семи томах. М., 1886-1887.
Алексеев Н.Н. Русский народ и Государство. М.: Аграф, 2000.
Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.
Аристотель. Собрание сочинений в 4-х томах. М.: Мысль, 1975.
Арон Р. Мнимый марксизм. М., 1993.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992.
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999.
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.
Асмус А.Ф. В.С. Соловьев: опыт философской биографии// Вопросы философии. 1992, №8
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. В 3 тт. Москва, 1984.
Афанасьев А.Н. Славянская мифология, М.-СПб., 2008.
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Батай Ж. Проклятая доля. М.:Гнозис, Логос, 2003.
Бауман 3. Социологическая теория постсовременности // Социологические очерки. Ежегодник. М., 1991.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Ренессанса и средневековья. М., 1965.
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. М., 1986.
Бахтин М.М. Тетралогия. М., 1998.
Башляр Г. Грезы о воздухе. М.,1999.
Башляр Г. Вода и грезы. М., 1998.
Башляр Г. Новый рационализм. М.,1987.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999.
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. Москва: Прогресс-Универс, 1995.
Бенуа А. Против либерализма. СПб.: Амфора, 2009.
Бергер П. Понимание современности // Социологические исследования. М., 1990. № 7.
Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. Томск: Водолей, 1996.
Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. М.: АСТ, 2003.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990.
Бердяев Н.А. Судьба России, М.: DirectMEDIA, 1990.
Бердяев Н.А. Новое средневековье. М., 1992.
Бердяев Н.А. Философия свободного духа: Проблематика и апологетика христианства. М., 1994.
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: Индрик, 2007.
Блок А.А. Сочинения в двух томах. М.: Художественная литература, 1955.
Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986 .
Блок М.Короли-чудотворцы, М. 1998.
Боас Ф. Ум первобытного человека. М., 1933.
Богданов А. А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: «Политиздат», 1990.
Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х книгах. М.: «Экономика», 1989.
Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000.
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М, 2004.
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2006.
Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция // Философия эпохи постмодерна. / Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
Бодрийяр Ж. Эстетика иллюзий, эстетика утраты иллюзий // Элементы, №9, 1998.
Брентано Ф. Избранные работы. М., 1996
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв.. В 3-х т. М.: Весь мир, 2007.
Бродель Ф. Структуры повседневности. М., 1986.
Бросова Н. З. Теологические аспекты философии истории М. Хайдеггера / Ин-т философии РАН, Белгород. гос. ун-т. Белгород, 2005.
Булгаков С. Н. «Апокалипсис Иоанна» (Опыт догматического истолкования), Париж, 1948.
Булгаков С. Н. Апокалиптика и социализм// Два града. Исследования о природе общественных идеалов. СПб.: Изд-во РГХИ, 1997.
Булгаков С.Н. Друг Жениха (Іо. 3, 28-30). О православном почитании Предтечи. Париж: Имка-Пресс, 1927.
Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л.Фейербаха//Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1993.
Булгаков С.Н. Купина Неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в православном почитании Богоматери. Париж: Имка-Пресс, 1927.
Булгаков С.Н. Православие. Париж: 1965.
Булгаков С. Н. Свет невечерний. М.: Республика, 1994.
Булгаков С.Н. Философия имени. М., 1997.
Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
Бурлак А.С., Старостин С.А. Введение в сравнительное языкознание. Москва, 2001
Бурлак А.С., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. Москва: Academia, 2005
Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности. Горизонты и тупики феноменологической. М.: Наука, 1987.
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. М.: Логос, 2003.
Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003.
Васильева Т. В. Семь встреч с М. Хайдеггером. М., 2004.
Вебер М. Аграрная история древнего мира. М.: Канон-пресс, 2001.
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Канон пресс-Ц, 2001.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М., 2006.
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989.
Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука", 1988.
Вернадский Г.В. Московское царство. В 2-х чч. Тверь- М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
Вернадский Г.В. Древняя Русь. Тверь-М.: «Леан»; «Аграф», 1996.
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь-М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
Вернадский Г.В. Начертание русской истории. Прага, 1927.
Вернадский Г.В. Опыт истории Евразии. Берлин, 1934.
Вернадский Г.В. Русская историография. М.: «Аграф», 1998.
Вернадский Г.В. Русская история. М.: «Аграф», 1997.
Вернадский Г.В.Россия в средние века Тверь-М.: «Леан»; «Аграф», 1997.
Вико Дж. Собрание сочинений. М., 1986.
Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. В 2 т. - СПб., 1908.
Витгенштейн Л. Философские работы: В 2ч. М.: Гнозис, 1994
Габитова Р. М. М. Хайдеггер и античная философия // Вопросы философии. 1972. № 11.
Гайденко П. П. От исторической герменевтики к «герменевтике бытия». Критический анализ эволюции М. Хайдеггера // Вопросы философии. 1987. № 10.
Гваттари Ф. Язык, сознание и общество (О производстве субъективности) // ЛОГОС : Ленинградские международные чтения по философии культуры. Кн. 1. Л., 1991.
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 1993.
Гегель Г.В.Ф. Сочинения в 3 т. М. 1986.
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Сочинения. т. IV. М., 1959.
Генон Р. Восток и Запад. М., 2005.
Генон Р. Духовное владычество и мирская власть // Волшебная Гора, 1997-1998 №-№ 67.
Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991.
Генон Р. Символы священной науки. М., 1997.
Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003.
Генон Р. Человек и его осуществление согласно Веданте. Восточная метафизика. М., 2004.
Гердер И.Г. Избранные сочинения. М. Л., 1959.
Герцен А.И. Былое и думы. М.: Правда, 1979.
Гершензон М.О. Жизнь В.С.Печерина. М., 1910.
Гершензон М.О. Тройственный образ совершенства. М.: Кн-во М. и С. Сабашниковых, 1918.
Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев: жизнь и мышление. М.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1908.
Гесиод. Теогония // Эллинские поэты. М., 1963.
Гете И. В. Фауст. М., 1982.
Гидденс Э.Э. Постмодерн //Философия истории. М., 1995.
Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания, Тбилиси, 1991
Гоббс Т. Избранные произведения в 2 т., М., 1964.
Голенков С. И. Хайдеггер и проблема социального / М-во образования Рос. Федерации. Сам. гос. ун-т. Каф. философии гуманитар. фак. Самара, 2002.
Головин Е. Серебряная рапсодия. М.: Эннеагон Пресс, 2008.
Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI-XIX веков. М., 1991.
Голубинский Е. Е. История Русской Церкви в 2 т. М.: Общество любителей церковной истории, 2002.
Грановский Т.В., Станкевич А.В. Т.Н.Грановский и его переписка. СПб.: Тип. А. И. Мамонтова, 1897.
Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на закате современности. М., 2003.
Греймас А.Ж. Размышления об актантных моделях // Вестник Московского университета. - Сер. 9. Филология, 1996, № 1.
Греймас А.-Ж. Структурная семантика, М., 2008.
Громыко М.М. Дохристианские верования в быту сибирских крестьян ХVIII - ХIХ веков // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства в ХVII - начале ХХ в. Новосибирск, 1975.
Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 2002.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1992.
Гумилев Л.Н. "Тайная" и "явная" истории монголов XII-XIII вв. //Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977.
Гумилев Л.Н. О термине "этнос" //Доклады отделений комиссий Географического общества СССР. Вып. 3. 1967.
Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб, 1992
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
Гуссерль Э. Идея феноменологии. М.: Гуманитарная академия, 2008.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, 1998
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. СПБ: Владимир Даль, 2004.
Гуссерль Э. Логические исследования. Пролегомены к чистой логике. СПб., 1909.
Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени: Собр. соч. Т. 1. М., 1994.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука М.: Сагуна, 1994.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955
Данилевский Н.Я. Дарвинизм. Критическое исследование. СПб., 1885-89.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. СПб., 1995.
Дебор Г. Общество Спектакля. М., 2000.
Декарт Р. Сочинения. М., Наука, 2006.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007.
Делёз Ж. Логика смысла. М., Екатеринбург, 1998.
Делёз Ж. Ницше и философия. М., 2003.
Делез Ж. Ницше, СПб, 2001.
Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.
Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна. / Сб. переводов и рефератов. Минск, 1996.
Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой природе по Юму; Критическая философия Канта: учение о способностях; Бергсонизм; Спиноза. М., 2001.
Деррида Ж. Московские лекции. Свердловск, 1991.
Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.: Академический Проект, 2009.
Деррида Ж. Эссе об имени. М.- СПб:Алетейя, 1998
Джемаль Г.Д. Революция пророков. М., 2003.
Джемс У. Многообразие религиозного опыта. СПб, 1992.
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Эксмо, 2009.
Дугин А. Абсолютная Родина. М.: Арктогея-центр, М., 1999.
Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин. М.: Академический проект, 2010.
Дугин А. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
Дугин А.Г. Метафизика Благой Вести, М.: Арктогея, 1996.
Дугин А.Г. (отв. ред.) Основы евразийства. М.: Арктогея центр, 2002.
Дугин А.Г. Постфилософия. М.: Евразийское Движение, 2009.
Дугин А.Г. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009.
Дугин А.Г. Русская вещь. Т. 1, М.: Арктогея, 2000.
Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию. М.:Академический проект, 2010.
Дугин А. Социология русского общества. М.: Академический проект, 2010.
Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб.: Амфора, 2009.
Дугин А.Г. Философия традиционализма, М.:Арктогея-Центр, 2002.
Дюма А. Граф Монте-Кристо /Собрание сочинений. Т.3. М., 1993.
Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания системы каст. СПб: Евразия, 2001.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: пер. с фр. М.: Канон, Реабилитация, 2006.
Замятин Д.Н. Метагеография: пространство образов и образы пространств. М., 2004.
Зеленогорский М. Жизнь и деятельность архиепископа Андрея. М., 1991.
Зеньковский С. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века. München, 1970
Зиммель Г. Избранное в 2-х томах. М., Юристъ, 1996.
Зомбарт В. Собрание сочинений в 3-х томах. СПб, 2005.
Зомбарт В.Социология. М., 2003.
Ибн Араби. Аль-Футухат аль-маккиййа (Мекканские откровения). т. 1. Каир, 1859.
Иванов В. В. Категория времени в искусстве и культуре XX века. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
Иванов В. В., Лекомцев Ю. К. Проблемы структурной типологии. // Лингвистическая типология и восточные языки. М., 1965.
Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.
Иларiон Схимонах На горах Кавказа. СПб., 1998.
Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. М.: Политиздат, 1968.
Ильенков Э.В. Искусство нравственное и безнравственное. М.: Искусство, 1969.
Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории. М.: Политиздат, 1984.
Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.
Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М.: Изд-во МГУ, 1994.
Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
Ильин И. А. Сочинения в 2-х т. Философия права, Нравственная философия, М.: Медиум, 1993
Ильин И.А., Шмелев И.С. Переписка двух Иванов. М.: Русская книга, 2000
История первобытного общества. ТТ.1-3. М., 1988.
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
Йейтс Ф. Розенкрейцеровское Просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999.
Кабыща А.В., Тульчинский М.Р. Структура социологического знания и ее изменение в 1984-1990 гг. М., 1993.
Кант И. Сочинения в 6 томах. М., 1969.
Каратаев. Н. К. Народническая экономическая литература. М., 1958
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000.
Кастельс М. Россия в информационную эпоху / М.Кастельс, Э.Киселева // Мир России. 2001. N 1.
Кереньи К. Элевсин. М.: Рефл-бук, 2000.
Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни, М.: Ладомир, 2007.
Керн К. Антропология святого Григория Паламы. Париж, 1950.
Клюев Н.А. Сердце Единорога. СПб., 1999.
Клюев Н.А.Словесное древо: Проза. СПб., 2003.
Клюев Н. А. Стихотворения и поэмы. М., 1991.
Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. М.: Ardis, 1983
Кожев A. Введение в чтение Гегеля. Идея смерти в философии Гегеля. М., 1998.
Кожев А. Атеизм. М., Праксис, 2007.
Кожев А. Понятие власти. М., Праксис, 2006.
Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. СПб.: Издательство СПбГУ, 2000.
Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.
Кон Н. В погоне за тысячелетием. Лондон, 1972.
Коначева С. А. Соотношение философии и теологии в фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера : Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.03 М., 1996.
Конрад Н.И. Запад и Восток, М., 1966.
Коплстон Ф. История философии. Средние века. М., 2003.
Кузанский Н. Сочинения в двух томах. М.,1979-1980.
Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. М., Идея-Пресс, 2001.
Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.
Лакатос И. Доказательства и опровержения. М., 1967.
Лебон Г. Психология народов и масс. М., Макет, 1995.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Психология мышления. М.: Изд-во МГУ, 1980.
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
Леви-Стросс К. Мифологики. Происхождение застольных обычаев. М.: Флюид, 2007.
Леви-Стросс К. Мифологики. Сырое и приготовленное.М., СПб, 1999.
Леви-Стросс К. Мифологики. Человек голый. М.: Флюид, 2007.
Леви-Стросс К. Печальные тропики. М.: АСТ, 1999.
Леви-Стросс К. Путь масок. М.: Республика, 2001.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.
Левин Ш. М. Общественное движение в России в 60-70-с годы XIX века. М., 1958.
Лейбниц Г. Сочинения в 4 т. М., 1982-1989.
Ленин В.И. Избранные сочинения в 10 томах, М., Политиздат, 1984-1987.
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза. М., 1996.
Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 1876.
Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М.: Русская книга, 1992.
Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем в 12-ти томах. СПб.: Изд-во "Владимир Даль", 2002.
Леонтьев К.Н. Цветущая сложность. М.: Молодая гвардия, 1992.
Лесков Н. Повести. Рассказы. М.: Художественная литература, 1973.
Лифшиц М.А. Кризис безобразия. М., 1968.
Лифшиц М.А. Искусство и современный мир. 2-е изд. 1978.
Лифшиц М.А. Собрание сочинений в трех томах. М.: 1988
Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М., 1957.
Лосев А.Ф Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968
Лосев А.Ф Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988.
Лосев А.Ф.Диалектика мифа. М., 1990.
Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: «Искусство», 1976.
Лосский В.Н. Боговидение. М.: Свято-Владимирское братство, 1995.
Лосский В.Н. Догматическое богословие. М., 1991.
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
Лосский В.Н. По образу и подобию. М.:Свято-Владимирское братство,1995
Лосский В.Н. Спор о Софии. Париж: Братство св. Фотия, 1936.
Лосский Н.О.Воспоминания: Жизнь и философский путь. М.: Русский путь, 2009
Лосский Н.О. История русской философии. М.: Сварог и К, 2000.
Лосский Н.О. Ценность и Бытие. М.: АСТ, 2000.
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя - культура. Труды по знаковым системам. Тарту, 1973.
Лукач Д. К онтологии общественного бытия. М., 1991.
Малиновский Б. Магия, наука, религия // Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. М., 1998.
Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
Маргвелашвили Г. Т. Проблема культурного мира в экзистенциальной онтологии М. Хайдеггера. Тбилиси, 1998.
Маргвелашвили Г. Т. Психологизмы в хайдеггеровской экзистенциальной аналитике // Вопросы философии. 1971. № 5.
Маркова Е.И.Родословие Николая Клюева. Петрозаводск, 2009.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955-1981.
Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995.
Мейендорф И. История Церкви и восточно-христианская мистика: Единство Империи и разделение христиан. Святой Григорий Палама и православная мистика. Византия и московская Русь. М., 2000.
Мейендорф И. Рим. Константинополь. Москва. Исторические и богословские исследования. М., 2005.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
Мережковский Д.С. Собрание сочинений в 4-х томах. М., Правда, 1990.
Мережковский Д.С. Тайна Трех. М.: Республика, 1999
Мережковский Д.С Мессия. Рождение богов. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000
Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996.
Милль Дж. С. О свободе. СПб, 1906.
Михайлов А. В. Мартин Хайдеггер: человек в мире. М., 1990.
Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер. М., 1999.
Михайловский Н. К. Полное собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1911.
Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии, М.: Восточная литература, РАН, 1996.
Мосс М. Социальные функции священного, Избр. Произведения, СПб., 2000.
Нарский И.С. (отв. редактор). Антология мировой философии. М., 1971
Натадзе Н. Р. Фома Аквинский против Хайдеггера // Вопросы философии. 1971. № 6.
Николова М. Основные философские проблемы французского структурализма. М., 1975.
Ницше Ф. Воля к власти. 1994.
Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1996.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра М., 1990.
Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. СПб.: Азбука-классика, 2007
Носович И. Всепьянейший собор, учрежденный Петром Великим // Русская старина. 1874. Год пятый. Декабрь.
Омельяновский М.Э. (ред.) Логика и методология науки. М., 1967.
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3.
Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
Отто Р. Священное. СПб.: АНО «Издательство СПбГУ», 2008.
Платон. Собрание сочинений в 4-х т. М.: Мысль, 1994.
Платонов А.П. Котлован. М.: Дрофа, 2002.
Платонов А. П. Чевенгур. М., 1989.
Печерин В.С. Замогильные записки./Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989
Пигалев А. И. Проблема оснований общественного бытия в философии М. Хайдеггера // Вопросы философии. 1987. № 1.
Пигалев А. И. Рене Жирар и Мартин Хайдеггер: о смысле «преодоления метафизики» // Вопросы философии. 2001. № 10.
Пильняк. Б. А. Собрание сочинений в 6 томах. М.: Терра, 2003
Поздняков М. В. О событии (Vom Ereigms) М. Хайдеггера // Вопросы философии. 1997. № 5.
Попов В.А. (отв. ред.) Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности. М., 1995.
Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905.
Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991, № 6
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986;
Пропп В.Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986.
Пропп В.Я. Морфология сказки. М., Лабиринт, 1998.
Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., Лабиринт, 1999.
Радин П. Трикстер.СПб., Евразия, 1999.
Радомский А. И. Социально-философские аспекты фундаментальной онтологии М. Хайдеггера : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: 09.00.11 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2004.
Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней В 3-х кн. Новосибирск, 2001.
Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995.
Рикер П. Человек как предмет философии// Вопросы философии. 1989. № 2.
Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М.: Московская правда, 2001.
Розанов В.В. В мире неясного и нерешенного. СПБ., 1901.
Розанов В.В. Литературные очерки. СПБ., 1899.
Розанов В.В. Люди лунного света. Метафизика христианства. М.: Olma Media Group, 2003.
Розанов В. В. Мимолетное. М.: Республика, 1994.
Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый. СПб.: Кристалл, 2001.
Розанов В.В. Религия и культура: сборник статей. Париж: YMCA-Press, 1979.
Русская мифология. Энциклопедия. М.: Эксмо, 2006
Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961.
Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997
Самарин Ю. Ф. Статьи. Воспоминания. Письма (1840-1876). М., 1997.
Самарин Ю.Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М.: Изд. Д. Самарина, 1880.
Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. М., 2004.
Сафрански Р. Мастер из Германии. Мартин Хайдеггер и его время / Перевод В. Брон-Цехового // Логос. 1999. № 6.
Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время / Пер. с нем. Т. А. Баскаковой при участии В. А. Брун-Цехового; вступ. статья В. В. Бибихина. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 2005.
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно- безмолвствующих. М.: Канон, 1995.
Семевский М. И. Шутки и потехи Петра Великого//Русская старина: Жизнь императоров и их фаворитов. М., 1992.
Симонова И. Переписка западника и славянофила: письма Владимира Печерина Федору Чижову// Независимая газета 20.02.2008
Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XVXVI вв.). М.: Индрик, 1998.
Ситникова И. О. Система языковых средств аргументации и воздействия на адресата в философских трудах Мартина Хайдеггера : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук : 10.02.04 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2003.
Соловьев В.С. Догматическое развитие церкви: (в связи с вопросм о соединении церквей). Париж: Bibliothèque Slave de Paris, 1994.
Соловьев В.С. Оправдание добра. М.: Республика, 1996.
Соловьев В.С. Россия и Вселенская церковь. М.:ТПО Фабула, 1991.
Соловьев В.С. Смысл любви. Избранные произведения, М., 1991.
Соловьев В. Сочинения в 2-х тт. Т. 2, М., 1988.
Соловьев В.С. Спор о справедливости: Соч. М.; Харьков, 1999.
Соловьев В.С. Чтения о богочеловечестве. М.: Художественная литература, 1994.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., Комкнига, 2006.
Ставцев С. Н. Введение в философию Хайдеггера : Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитар. специальностей. СПб.: Лань, 2000.
Сталин И. В. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1952
Сыма Цянь. Исторические записки. Т.I VIII М., 1972-2002
Таванец П.А. Логическая структура научного знания. М. Наука, 1965.
Тавризян Г. М. «Метатехническое» обоснование сущности техники М. Хайдеггером (Научно-технический прогресс в оценке буржуазных философов) // Вопросы философии. 1971. № 12.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
Тённис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль, 2002.
Тихомиров Л. Монархическая Государственность. Мюнхен, 1923.
Ткачев П. Н. Избранные сочинения. М., 1935.
Тойнби А. Постижение истории. М.: Прогресс, 1990.
Топоров В. Н. Этимологические заметки (славяно-италийские параллели) / Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 25. М., 1958.
Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999.
Тэйлор Э.Б. Введение к изучению человека и цивилизации: (Антропология). М., 1924.
Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
Тютчев Ф. И. Сочинения в 2-х тт. М.,1980.
Устрялов Н.В. Национал-большевизм. М., 2004.
Фалев Е. В. Герменевтика Мартина Хайдеггера : Дисертация на соискание ученой степени кандидата философских наук : 09.00.03 М., 1996.
Фалев Е. В. Истолкование действительности в ранней герменевтике Хайдеггера // Вест. Моск. Ин-та. Сер.7. Философия. 1997. № 5.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка в 4 т. М., 1987
Федоров Н.Ф. Собрание сочинений в 4-х тт. М.: Традиция, 1997
Фёдоров Н.Ф. Философия общего дела: в 2 т. М., 2003.
Флоренский П. Мнимости в геометрии. М.: Лазурь, 1991.
Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986.
Филиппов Л. И. Структурализм (Философские аспекты). // Буржуазная философия XX века. М., 1974.
Философия М. Хайдеггера. Круглый стол. Участники: В. Подорога, В. Молчанов, В. Бибихин, С. Зимовец, В. Малахов, М. Маяцкий, С. Долгопольский, Э. Надточий и др. / Материалы круглого стола подготовили М. Маяцкий и Е. Ознобкина // Логос. 1991. № 2.
Фихте И.Г. Избранные сочинения. М.,1916.
Флоренский П.А. Иконостас. - СПб.: Общество памяти игуменьи Таисии, 2006.
Флоренский П.А. Сочинения в 4-х т. М.: Мысль, 1994.
Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М., 1990.
Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990.
Флоровский Г. В. Восточные отцы IV века. Париж, 1931.
Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998.
Флоровский Г.В. О почитании Софии Премудрости Божией в Византии и на Руси /Альфа и Омега. 1995. № 4.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж: YMCA-PRESS, 1983.
Фрагменты ранних греческих философов, М., Наука, 1989.
Франк С.Л. Русское мировоззрение. М.: Наука, 1996.
Франк С.Л. Реальность и человек. М.: Республика", 1997.
Франк С.Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992.
Франк С.Л. С нами Бог: три размышления. Париж: YMCA, 1964.
Франк С.Л. Душа человека: опыт введения в философскую психологию. Париж: YMCA Press, 1964.
Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989.
Фрейд З. Тотем и табу. М., 1923.
Фрейд З. Я и Оно. Л., 1924.
Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
Фромм Э. Психоанализ и культура. М., 1995.
Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Былинная история: Работы разных лет, СПб.: Изд-во Санкт-Петербургск. ун-та, 1997.
Фроянов И.Я. Драма русской истории: На пути к Опричнине. М., 2007
Фрэзер Дж. Золотая Ветвь, М., 1980.
Фуко M. Надзирать и наказывать. M., 1999.
Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Магистериум-Касталь, 1996.
Фуко М. Герменевтика субъекта // Социо-Логос. М., 1991.
Фуко М. Забота о себе. История сексуальности. Киев, 1998.
Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 19701984. М., 2006.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Ступени, № 1 (11), 2000.
Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.
Хабермас Ю. Модерн - незавершенный проект // Вопросы философии. 1992 № 4
Хайдеггер M. Учение Платона об истине // Историко-философский ежегодник. М., 1986.
Хайдеггер М. Бытие и время. Тбилиси, 1989.
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления М., Республика, 1993.
Хайдеггер М. Введение в метафизику . СПб., Высшая религиозно-философская школа, 1997.
Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Касселе (1925) // Вопросы философии. 1995. № 11.
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики М., Русское феноменологическое общество, 1997.
Хайдеггер М. Кто такой ницшевский Заратустра? (перевод, примечания, вступ. статья И.А. Болдырева) // Вестник МГУ Сер. 7. (Философия). 2008. №4.
Хайдеггер М. Ницше и пустота М.: Алгоритм , Эксмо, 2006.
Хайдеггер М. Ницше. Тт. 1-2 . СПб., Владимир Даль, 2006-2007.
Хайдеггер М. О существе понятия fusiz в "Физике" Аристотеля, М., 1995.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., Высшая религиозно-философская школа, 2001.
Хайдеггер М. Парменид: [Лекции 1942-1943 гг.]. СПб., Владимир Даль, 2009.
Хайдеггер М. Переписка, 1920-1963; пер. с нем. И. Михайлова. М., 2001.
Хайдеггер М. Положение об основании / СПб., Лаб. метафиз. исслед. при Филос. фак. СПбГУ : Алетейя, 1999.
Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени Томск: Водолей, 1997.
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего периода творчества. М., Высшая школа, 1991.
Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб. : Академический проект, 2003.
Хайдеггер М. Семинар в Ле Торе, 1969 // Вопросы философии. 1993. № 10.
Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии. 1990. № 7.
Хайдеггер М. Статьи и работы разных лет М., Гнозис, 1993.
Хайдеггер М. Что зовется мышлением? Москва: Академический проект, 2007.
Хайдеггер М. Что такое метафизика? Москва: Академический проект, 2007.
Хайдеггер, М. Что это такое философия? Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1992.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переделка миропорядка.//Pro et Contra, - М., 1997.
Хейзинга Й. Homo Ludens: Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992.
Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рационалистической мысли. М., 2005.
Хомяков А.С. Полное собрание сочинений. М.: 1900-1914.
Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М. СПб., Медиум, Ювента, 1997.
Хюни Г. Историчность мира как предел анализа временности в «Бытии и времени» М.Хайдеггера // Вопросы философии. 1998. № 1. С. 122125
Чаадаев П.Я. Сочинения М., 1989.
Чаадаев П.Я. Философические письма. М.: Эксмо, 2006
Чижевский А.Л. Теория гелиотараксии, М., 1980.
Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса, Калуга, 1924.
Шаронов В.В. (отв. ред.) Очерки социальной антропологии. СПб, 1994.
Шелер М. Ресентимент в структуре моралей, СПб.: Наука: Университетская книга, 1999.
Шеллинг В.Ф.И. Сочинения в 2 т. М., 1987.
Шестов Л.И. Сочинения в 2-х томах. М.: Наука, 1993.
Шестов Л.И. Афины и Иерусалим, Париж: YMCA Press, 1951.
Шестов Л.И. Религиозная философия Владимира Соловьева. Париж: YMCA-Press, 1964.
Шмеман А. Введение в богословие: Курс лекций по догматическому богословию. М.; Париж; 1993.
Шмеман А. Церковь, мир, миссия: Мысли о православии на Западе. М., 1996
Шолем Г.Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим, 1989.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993.
Шпанн О. Философия истории. СПБ, 2005.
Шпенглер О. Закат Европы М., Мысль, 1993.
Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию. М., 1927.
Штернберг Л. Я. Первобытная религия. Л., 1936.
Штирнер М. Единственный и его собственность СПб., Азбука, 2001.
Штрайх С. В.С.Печерин за границей в 18331835/ Русское прошлое. Исторический сборник. Пг., 1923
Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996.
Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2005.
Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М., 2000.
Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М., 1996.
Элиаде М. Священное и мирское. М., 1995.
Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 2009.
Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998.
Юдин Ю.И. Русская бытовая сказка. М., Академия, 1998.
Юнг К.Г. Mysterium coniunctions. М.-К., 1997.
Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М., 1997.
Юнг К.Г. AION. Исследование феноменологии самости. М., 1997.
Юнг К.Г. Алхимия снов. СПб., 1997.
Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991.
Юнг К.Г. Бог и бессознательное. М., 1998.
Юнг К.Г. Божественный ребенок. М., 1997.
Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев, 1994.
Юнг К.Г. Дух Меркурия. М., 1996.
Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996.
Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994.
Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. Спб., 2002.
Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.
Юнг К. Г. Работы по психиатрии. Спб.: Академический проект, 2000.
Юнг К.Г. Синхронистичность. М., 1997.
Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. М., 1996.
Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Киев, 1995.
Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб., 1996.
Якобсон Р. О. Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии. // VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Т. 5. М., 1970.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Библиография на иностранных языках
Agursky M. The Third Rome: National Bolshevism in the USSR. Boulder: Westview, 1987.
Anders G. Über Heidegger. München: C.H.Beck, 2001.
Babich B. From Phenomenology to Thought, Errancy, and Desire. Dordrecht: Springer, 1995.
Bachelard G. La Poétique de la reverie. Р.: PUF, 1960.
Bachelard G. La Poétique de l'espace. Р.: PUF, 1957.
Bachelard G. La Psychanalyse du feu. Paris: Gallimard, 1949.
Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté : essai sur l'imagination de la matière. Paris: J. Corti, 1947.
Bachelard G. La Terre et les rêveries du repos : essai sur les images de l'intimité. Paris: J. Corti, 1948.
Bachelard G. L'Air et les songes : essai sur l'imagination du mouvement. Paris: J. Corti, 1943.
Bachelard G. L'Eau et les rêves : essai sur l'imagination de la matière. Paris: J. Corti, 1942.
Bachofen J.J. Mutterrecht und Urreligion. Leipzig: Kroner, 1927
Bachofen J.J. Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Basel: B. Schwabe, 1897
Bech J. M. De Husserl a Heidegger: la transformación del pensamiento fenomenológico. Barcelona: Edicions Universitat, 2001.
Biemel W. Martin Heidegger mit Selbstzeugmissen und Bilddokumenten dargestellt. Reinbek: Rowohlt, 1973.
Biemel W. Martin Heidegger mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Hamburg: Rowohlt, 1973.
Biemel W. Martin Heidegger und Karl Jaspers: Briefwechsel 19201963 / W. Biemel, H. Saner. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1990.
Blattner W. Heidegger's Being & Time A Reader's Guide. London: Continuum International Publishing Group, 2006.
Blitz M. Heidegger's Being and Time and the Possibility of Political Philosophy. Ithaca: Cornell University Press, 1981.
Braudel F. Le Temps du Monde. Paris: Armand Colin, 1979.
Brentano F. Die Lehre vom richtigen Urteil. Bern: Francke, 1956.
Brentano F. Versuch über die Erkenntnis. Leipzig: Meiner, 1925.
Brentano F. Vom sinnlichen und noetischen Bewußtsein. (Psychologie vom empirischen Standpukt, vol. 3). Leipzig: Meiner, 1928.
Brentano F. Wahrheit und Evidenz. Leipzig: Meiner, 1930.
Brito E. Heidegger et l'hymne du sacré. Leuven: Peeters Publishers, 1999.
Brogan W. A. Heidegger and Aristotle: The Twofoldness of Being. Albany: SUNY Press, 2005.
Bultmann R. Kerygma und Mythos. Hamburg: Herbert Reich, 1948-55.
Caillos R. Le mythe et l'homme. Paris: Gallimard, 1938.
Caputo J. D. Demythologising Heidegger. Bloomington: Indiana University Press, 1993.
Caputo, J. D. God, the Gift and Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press, 1999.
Caputo J. D. Love among the Deconsructibles: A Response to Gregg Lambert// Journal for Cultural and Religious Theory. 2004. № 5 (2).
Caputo J. D. The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
Caputo J. D. The Weakness of God: A Theology of the Event. Bloomington: Indiana Unversity Press, 2006.
Caputo J. D. What would Jesus Deconstruct?: The Good News of Postmodernism for the Church // Baker Academic. 2007. November № 1
Casanova M. А. Pensiero in transizione: Heidegger e l'"altro inizio" della filosofia // Giornale di metafisica. 2009, vol. 31, №1, pp. 43-70
Clark G. Space, Time and Man. A Prehistorian's View. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Clark T. Derrida, Heidegger, Blanchot. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Clark T. Martin Heidegger. London: Routledge, 2002.
Collins J. Heidegger and the Nazis. New York: Icon, 2000.
Cooper D. E. Heidegger. Claridge: Continuum International Publishing Group, 1996.
Corbin H. Corps spirituel et Terre céleste: de L'Iran mazdéen à l'Iran shî'ite. Р.: Buchet/Chastel, 1979.
Corbin H. L'homme de lumière dans le soufisme iranien. Р.: Éditions Présence, 1971.
Corbin H. L'Imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn'Arabî. Р.: Flammarion, 1977.
Corbin H. Le paradoxe du monothéisme, Р.: l'Herne, 1981.
Corbin H. Temps cyclique et gnose ismaélienne. Р., 1982
Cordón J. M. N. Heidegger o el final de la filosofía. Madrid: Editorial Complutense, 1993.
Coriando P. L. “Herkunft aber bleibt stets Zukunft“. Martin Heidegger und die Gottesfrage. Frankfurt: Vittorio Klostermann , 1998.
Crowe B. D. Heidegger's Phenomenology of Religion. Bloomington: Indiana University Press, 2008.
Crowe B. D. Heidegger's Religious Origins Destruction and Authenticty. Bloomington: Indiana University Press, 2005.
Dastur F. Heidegger y la cuestión del tiempo. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2006.
Davis B. W. Heidegger and the Will On the Way to Gelassenheit. Evanston: Northwestern University Press, 2007.
Denker A. Heidegger-Jahrbuch. Freiburg-München: Karl Alber Verlag, 2004.
Denker A. Historical Dictionary of Heidegger's Philosophy. Lanham: Scarecrow Press, 2000.
Derrida J. Khôra. Paris: Galilée, 1993.
Derrida J. Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale. Paris: Éditions Galilée, 1993
Dreyfus H. L. Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's “Being and Time”. Cambridge: MIT Press, 1991.
Dreyfus H. L. Heidegger: A Critical Reader. Oxford: Blackwell , 1992.
Dumezil G. Les Dieux des Indo-europeens, Paris: Presses universitaires de France. 1952.
Dumezil G. Esquisses de mythologie : Apollon sonore - La Courtisane et les seigneurs colorés - L'Oubli de l'homme et l'honneur des dieux - Le Roman des jumeaux. Paris: Gallimard, 2003.
Dumezil G. Loki. Paris: Flammarion, 1995.
Dumezil G. Mythe et épopée. I, II, III. Paris: Gallimard, 1995.
Dumont L. Essais sur l'individualisme. Paris: Seuil, 1991.
Dumont L. Homo Hierarchicus. Paris: Gallimard, 1979.
Durand G. Champs de l'imaginaire. Grenoble: ELLUG, 1996.
Durand G. L'Âme tigrée. Paris: Denoël, 1980.
Durand G. Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: Dunod, 1960.
Durand G. L'imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l'image. Paris: Hatier (Optiques), 1994.
Durand G. L'imagination symbolique. Paris: PUF, 1964.
Durand G. Sciences de l’homme et tradition. Le nouvel esprit anthropologique. Paris: Albin Michel, 1975.
Durkheim E. Les formes e elementaries de la vie religieuse. P.: Alcan, 1912.
Edwards P. Heidegger's Confusions. London: Prometheus Books, 2004.
El-Bizri N. A Phenomenological Account of the Ontological Problem of Space// Existentia Meletai-Sophias. 2002. №12
El-Bizri N. Le problème de l'espace: approches optique, géométrique et phénoménologique/ Vescovini Graziella Federici, Rignani Orsola (eds.) Oggetto e spazio. Fenomenologia dell'oggetto, forma e cosa dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani. Firenze: SISMEL, Edizioni del Galluzzo, 2008.
El-Bizri N. ON KAI KHORA: Situating Heidegger between the Sophist and the Timaeus // Studia Phaenomenologica. 2004. Vol. IV, № 1-2.
El-Bizri N. Ontopoiēsis and the Interpretation of Plato’s Khôra// Analecta Husserliana: The Yearbook of Phenomenological Research. 2004. Vol. LXXXIII.
El-Bizri N. The Phenomenological Quest Between Avicenna and Heidegger. N.Y.: Global Publications, SUNY, 2000.
El-Bizri, N. ‘Qui-êtes vous Khôra?’: Receiving Plato’s Timaeus// Existentia Meletai-Sophias. 2001.Vol. XI, № 3-4.
Emad P. On the Way to Heidegger's Contributions to Philosophy. Madison: University of Wisconsin Press, 2007.
Farrell D. Krell Intimations of Mortality: Time, Truth, and Finitude in Heidegger's Thinking of Being. University Park: Pennsylvania State University Press, 1986.
Faye E. Heidegger. Die Einführung des Nationalsozialismus in die Philosophie. Berlin, 2009.
Fell J. P. Heidegger's Notion of Two Beginnings // The Review of Metaphysics. 1971. №25.
Figal G. Heidegger Lesebuch. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2006.
Figal G. Heidegger und Husserl. Neue Perspektiven. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2009.
Figal G. Martin Heidegger zur Einführung. Hamburg: Unius Verlag GmbH, 2007.
Figal G. Martin Heidegger. Phanomenologie der Freiheit. Fr./M., 1988.
Fink E. Alles und Nichts. Den Haag, 1959.
Fink E. Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Freiburg, 1970.
Fink E. Grundfragen der antiken Philosophie. Würzburg, 1985.
Fink E. Grundfragen der systematischen Pädagogik. Freiburg, 1978.
Fink E. Grundphänomene des menschlichen Daseins. Freiburg, 1979.
Fink E. Hegel. Frankfurt, 2006.
Fink E. Heraklit. Seminar mit Martin Heidegger. Frankfurt am Main, 1970.
Fink E. Heraklit. Seminar mit Martin Heidegger. Frankfurt, 1970.
Fink E. Metaphysik und Tod. Stuttgart, 1969.
Fink E. Nachdenkliches zur ontologischen Frühgeschichte von Raum - Zeit Bewegung. Den Haag, 1957.
Fink E. Nietzsches Philosophie. Stuttgart, 1960.
Fink E. Sein und Mensch. Vom Wesen der ontologischen Erfahrung. Freiburg, 1977.
Fink E. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart, 1960.
Fink E. Vom Wesen des Enthusiasmus. Freiburg, 1947.
Franck G. Time: A social construction? // Zeit und Geschichte/Time and History, Beiträge der österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft / Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Bd. /vol. XIII, hg. von / ed. by Friedrich Stadler & Michael Stöltzner. Kirchberg am Wechsel: Österreichische Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, 2005.
Fink E. Welt und Endlichkeit. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1990.
Fried G. Heidegger's Polemos. New Haven: Yale University Press, 2000.
Fried G., Polt R. A Companion to Heidegger's Introduction to Metaphysics. New Haven: Yale University Press, 2001.
Frings M. A. Heidegger and The Quest For Truth. Chicago: Quadrangle Books, 1968.
Fynsk C. Heidegger: Thought and Historicity. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
Gadamer H.-G. Der Anfang der Philosophie. Stuttgart: Reclam, 1996.
Gadamer H.-G. Heidegger. Freiburger Universitätsvorträge zu seinem Gedenken. Freiburg-München: Alber, 1977.
Gadamer H.-G. Heideggers Wege. Tubingen: Mohr, 1983.
Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1960.
Gander H. H. Dimensionen des Hermeneutischen. Heidegger und Gadamer. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 2005.
Gander H.-H. “Verwechselt mich vor Allem nicht!“ Heidegger und Nietzsche. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1994.
Gander H.-H. Europa und die Philosophie. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1993.
Gander H.-H. Von Heidegger her. Wirkungen in Philosophie - Kunst - Medizin. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1991.
Gasché R. Heidegger: Art and Politics // “Diacritics”. Baltimore, 1989. №19.
Geier M. Martin Heidegger. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2005.
Gell A. The Anthropology of Time. Cultural Construction of Temporal Maps and Images. Oxford/Providence: Berg. 1992.
Gelven M. A Commentary on Heidegger's Being and Time. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1989.
Glazebrook T. Heidegger's Philosophy of Science. New York: Fordham Univ Press, 2000.
Gordon P. E. Heidegger and the Greeks: Interpretive Essays //Journal of the History of Philosophy. Volume 46. January 2008. №1.
Greisch J. The Eschatology of Being and the God of Time in Heidegger // International Journal of Philosophical Studies.1996. №4.
Gross D. Heidegger and Rhetoric. Albany: SUNY Press, 2005.
Großmann A. Rudolf Bultmann und Martin Heidegger: Briefwechsel 1925 bis 1975. Frankfurt, 2009.
Guerra J. A. Heidegger y la época técnica. Santiago: Editorial Universitaria, 1999.
Guenon R. Introduction generale а l'etude des doctrines hindoues. Paris, 1964
Guenon R Orient et Occident. Paris, 1976
Guignon C. The Cambridge Companion to Heidegger. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Haar M. Heidegger et l'essence de l'homme. Grenoble, 1990.
Haar M. La fracture de l'histoire. Douze essais sur Heidegger. Grenoble, 1994.
Haas A. The Irony of Heidegger. London, 2007.
Han B.-C. Martin Heidegger, München: Wilhelm Fink Verlag, 1999.
Heidegger M. Aristoteles Metaphysik IX 1-3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft (Sommersemester 1931). Fr./M.: H. Hüni, 1981.
Heidegger M. Aus der Erfahrung des Denkens (1910-1976). Fr./M., 1983. Heidegger M. Beitraege zur Philosophie (vom Ereignis), Gesamtausgabe Bd 65. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1989.
Heidegger M. Besinnung (1938/39). Fr./M., 1997.
Heidegger M. Bremer und Freiburger Vorträge. Fr./M., 1994.
Heidegger M. Brief über den Humanismus (1946). Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1949.
Heidegger M. Der Begriff der Zeit (1924. Fr./M., 2004.
Heidegger M. Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart (Sommersemester 1929); Im Anhang: Nachschrift "Einführung in das akademische Studium" (Sommersemester 1929). Fr./M., 1997.
Heidegger M. Der Satz vom Grund (1955-1956). Fr./M., 1997.
Heidegger M. Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen (Wintersemester 1935/36). Fr./M., 1984. (GA 41).
Heidegger M. Die Geschichte des Seyns. Fr./M.: P. Trawny, 1998.
Heidegger M. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit (Wintersemester 1929/30). Fr./M.: F.-W. von Herrmann, 1983.
Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie (Sommersemester 1927). Fr./M.: F.-W. von Herrmann, 1975.
Heidegger M. Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809). Fr./M.: G. Seubold, 1991.
Heidegger M. Einführung in die Metaphysik (Sommersemester 1935). Fr./M.: P. Jaeger, 1983.
Heidegger M. Einführung in die phänomenologische Forschung (Wintersemester 1923/24). Fr./M.: F.-W. von Herrmann, 1994.
Heidegger M. Einleitung in die Philosophie (Wintersemester 1928/29) . Fr./M.: O. Saame et I. Saame-Speidel, 1996.
Heidegger M. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung (1936-1968). Fr./M.: F.W. von Herrmann, 1981.
Heidegger M. Feldweg-Gespräche (1944/45). Fr./M., 1995.
Heidegger M. Frühe Schriften (1912-1916. Fr./M.: F.-W. von Herrmann, 1978.
Heidegger M. Gedachtes. Fr./M., 2007.
Heidegger M. Geschichte des Seyns (11938/1940). Gesamtausgabe Bd 69. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1998.
Heidegger M. Geschichte der Philosophie von Thomas von Aquin bis Kant (Wintersemester 1926/27). Fr./M., 2006.
Heidegger M. Grundbegriffe (Sommersemester 1941). Fr./M.: P. Jaeger, 1981. (GA 51).
Heidegger M. Grundbegriffe der antiken Philosophie (Sommersemester 1926). Fr./M., 1993.
Heidegger M. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie (Sommersemester 1924). Fr./M., 2002. (GA 18).
Heidegger M. Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte „Probleme“ der „Logik“ (Wintersemester 1937/38). Fr./M., 1984.
Heidegger M. Grundprobleme der Phänomenologie (Wintersemester 1919/20). Fr./M., 1992.
Heidegger M. Hegel. Fr./M., 1993.
Heidegger M. Hegels Phänomenologie des Geistes (Wintersemester 1930/31). Fr./M., 1980.
Heidegger M. Heraklit. 1. Der Anfang des abendländischen Denkens (Sommersemester 1943) 2. Logik. Heraklits Lehre vom Logos (Sommersemester 1944). Fr./M.: M. S. Frings, 1979.
Heidegger M. Hölderlins Hymne „Andenken“ (Wintersemester 1941/42). Fr./M., 1982.
Heidegger M. Hölderlins Hymne „Der Ister“ (Sommersemester 1942). Fr./M., 1984.
Heidegger M. Hölderlins Hymnen „Germanien“ und „Der Rhein“ (Wintersemester 1934/35). Fr./M., 1980.
Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 2003.
Heidegger M. Identität und Differenz (1955-1957). F.-W. von Herrmann, Fr./M., 2006. (GA 11).
Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik (1929). Fr./M., 1991. Heidegger M. Logik als Frage nach Wesen der Sprache, GA Bd 38, II Abteilung, Vorlesungen 1919- 1944. Frakfurt an Mein: Vittorio Klostermann, 1998
Heidegger M. Metaphysik und Nihilismus. Fr./M., 1999.
Heidegger M. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann Verlag, 1990
Heidegger M. Nietzsche 1 (1936-1939). Fr./M., 1996.
Heidegger M. Nietzsche 2 (1939-1946). Fr./M., 1997.
Heidegger M. Nietzsche metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken: Die ewige Wiederkehr des Gleichen (Sommersemester 1937). Fr./M., 1986. (GA 44).
Heidegger M. Nietzsche: Der europäische Nihilismus, (1940). Fr./M., 1986. Heidegger M. Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst (Wintersemester 1936/37). Fr./M., 1985.
Heidegger M. Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis (Sommersemester 1939). Fr./M., 1989.
Heidegger M. Nietzsches Metaphysik (für das Wintersemester 1941/42 angekündigt, aber nicht vorgetragen) / Einleitung in die Philosophie - Denken und Dichten (Wintersemester 1944/45). Fr./M., 1990.
Heidegger M. Ontologie. Hermeneutik der Faktizität (Sommersemester 1923). Fr./M., 1988.
Heidegger M. Parmenides (Wintersemester 1942/43. Fr./M., 1982.
Heidegger M. Phänomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philosophischen Begriffsbildung (Sommersemester 1920). Fr./M., 1993.
Heidegger M. Phänomenologie des religiösen Lebens. 1. Einleitung in die Phänomenologie der Religion (Wintersemester 1920/21) 2. Augustinus und der Neuplatonismus (Sommersemester 1921) 3. Die philosophischen Grundlagen der mittelalterlichen Mystik / Hrsg. C. Strube, M. Jung, T. Regehly. Fr./M., 1995.
Heidegger M. Phänomenologische Interpretation ausgewählter Abhandlungen des Aristoteles zu Ontologie und Logik (Sommersemester 1922). Fr./M., 2005. Heidegger M. Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft (Wintersemester 1927/28). Fr./M., 1977.
Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung (Wintersemester 1921/22). Fr./M., 1985. Heidegger M. Platon: Sophistes (Wintersemester 1924/25). Fr./M., 1992.
Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (Sommersemester 1925). Fr./M., 1979.
Heidegger M. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges (1910-1976). Fr./M., 2000.
Heidegger M. Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809) (Sommersemester 1936). Fr./M., 1988.
Heidegger M. Sein und Wahrheit. 1. Die Grundfrage der Philosophie (Sommersemester 1933), 2. Vom Wesen der Wahrheit (Wintersemester 1933/34). Fr./M., 2001.
Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
Heidegger M. Seminar: Vom Wesen der Sprache. Die Metaphysik der Sprache und die Wesung des Wortes. Zu Herders Abhandlung "Über den Ursprung der Sprache". Fr./M., 1999.
Heidegger M. Seminare (1951-1973). Fr./M., 1986.
Heidegger M. Seminare: Nietzsche: Seminare 1937 und 1944. Fr./M., 2004. Heidegger M. Uber den Anfang. Gesamtausgabe Bd 70. Frankfurt am Mein:Vittorio Klosterman, 2000.
Heidegger M. Unterwegs zur Sprache. 1950-59 Gesamtausgabe Bd. 12. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1985.
Heidegger M. Vom Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie (Sommersemester 1930. Fr./M., 1982.
Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet (Wintersemester 1931/32). Fr./M., 1988.
Heidegger M. Vorträge und Aufsätze. 1936-53. Gesamtausgabe Bd 7. Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 2000.
Heidegger M. Was heißt Denken? (1951-1952). Fr./M., 2002.
Heidegger M. Wegmarken (1919-1961). Fr./M., 1976.
Heidegger M. Zu Ernst Jünger "Der Arbeiter". Fr./M.: P. Trawny, 2004.
Heidegger M. Zu Hölderlin / Griechenlandreisen. Fr./M., 2000.
Heidegger M. Zur Bestimmung der Philosophie. 1. Die Idee der Philosophie und das Weltanschauungsproblem (Kriegsnotsemester 1919) 2. Phänomenologie und transzendentale Wertphilosophie (Sommersemester 1919) 3. Anhang: Über das Wesen der Universität und des akademischen Studiums (Sommersemester 1919). Fr./M., 1987.
Heidegger M. Zur Sache des Denkens (1962-1964). Fr./M., 2007.
Heim M. The Metaphysics of Virtual Reality. Oxford, 1993.
Held K. Heidegger und das Prinzip der Phänomenologie // Heidegger und die praktische Philosophie. Frankfurt am Main, 1989.
Hill J.D. Rethinking history and myth: indigenous South American perspectives on the past. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. 1988.
Hodge J. Heidegger and Ethics. London, 1995.
Holland N. Huntington P. Feminist Interpretations of Martin Heidegger. University Park: Penn State University Press, 2001.
Hubert L. A. Companion To Heidegger. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Hughes D. O., Trautmann T.R. Time. Histories and Ethnologies. Ann Arbor: University of Michigan Press. 1995.
Husserl E. Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. The Hague: M. Nijhoff, 1905
Inwood M. A. Heidegger Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Inwood M. Heidegger. Freiburg, 1999.
Irigaray L. Speculum of the Other Woman. NY: Cornell University Press, 1985.
Jacobs D. C. The Pre-Socratics After Heidegger. Albany, 1999.
Jacques T. Heidegger and The Earth // Diacritics. 1989. №19.
Janicaud D. Heidegger en France. Paris, 2001.
Janicaud D. La Métaphysique à la limite: cinq études sur Heidegger. Paris, 1983.
Janicaud D. L'Ombre de cette pensée : Heidegger et la question politique. Grenoble, 1990.
Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. München & Zürich, 1949.
Johnson P. On Heidegger. Belmont, 2000.
Jonker G. The Topography of Remembrance. The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia. Leiden etc.: Brill. 1995
Kaelin E. F. Heidegger's Being & Time. Tallahassee, 1988.
Karlsson H. E. It's about Time. The Concept of Time in Archaeology. Göteborg: Bricoleur Press, 2000.
King M. A Guide to Heidegger's Being and Time. Albany, 2001.
King M. Heidegger's Philosophy. New York, 1964.
Kisiel T. Heidegger's Way of Thought Critical and Interpretative Signposts. London, 2002.
Kisiel T. The Genesis of Heidegger's Being & Time. Berkeley, 1993.
Klages L. Der Geist als Widersacher der Seele. Berlin, 1929
Köchler H. Skepsis und Gesellschaftskritik im Denken Martin Heideggers. Meisenheim, 1978.
Kovacs G. The Question of God in Heidegger's Phenomenology. Evanston, 1990.
Kristeva J. Revolutions in Poetic Language. NY: Columbia University Press, 1984
Lang B. Heidegger's Silence. Ithaca, 1996.
Large W. Heidegger's Being & Time. Bloomington, 2008.
Lehmann K. Vom Ursprung und Sinn der Seinsfrage im Denken Martin Heideggers. Freiburg, 1999.
Lemke A. Konstellation ohne Sterne. Zur poetischen und geschichtlichen Zäsur bei Martin Heidegger und Paul Celan. München, 2002
Levine R., Wolff E. Social time: The heartbeat of culture // Angeloni E. (Ed.), Annual editions in anthropology 88/89. Guilford, CT: Dushkin, 1988.
Levine R. A geography of time. New York: Basic Books, 1997.
Levi-Strauss C. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1958.
Levy-Strausse C. Anthropologie structurale deux. Paris: Plon, 1973.
Levi-Strauss C. Les Structures élémentaires de la parenté. La Haye-Paris: Mouton, 1968.
Levy-Strausse C. La Pensée sauvage. Paris: Plon, 1962.
Levy-Strausse C. La Voie des masques. 2 vol. Paris: Plon, 1979.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. I : Le Cru et le cuit. Paris: Plon, 1964.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. II : Du miel aux cendres. Paris: Plon, 1967.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. III : L'Origine des manières de table Paris: Plon, 1968.
Levy-Strausse C. Mythologiques, t. IV : L'Homme nu. Paris: Plon, 1971.
Lin M. Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event. Routledge, 2008.
Linton R. The study of man. New York-London: D. Appleton-Century Company Inc., 1936.
Löwith K. Heidegger Denker in dürftiger Zeit. Stuttgart, 1984.
Ludz U. Hannah Arendt und Martin Heidegger: Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse. Frankfurt, 2002.
Macann C. Critical Heidegger. London, 1996.
Macquarrie J. Heidegger and Christianity. New York, 1994.
Macquarrie J. Martin Heidegger. Richmond, 1986.
Malpas J. Heidegger: Earth and Sky, Gods and Mortals, Freedom and Death. Pyrrho Press, Hobart, 1999.
Malpas J. Heidegger's Topology Being, Place, World. Cambridge, 2006.
Maly K. Heidegger's Possibility Language, Emergence Saying Be-ing. Toronto, 2008.
Marx W. Absolute Reflexion und Sprache. Frankfurt am Main, 1967.
Marx W. Das Spiel. Wirklichkeit und Methode. Freiburg, 1967.
Marx W. Ethos und Lebenswelt. Mitleidenkönnen als Mass. Hamburg, 1986.
Marx W. Heidegger und die Tradition. Eine problemgeschichtliche Einführung in die Grundbestimmungen des Seins. Stuttgart, 1961.
Mattéi J.-F. Heidegger et Hölderlin. Paris, 2001.
Mattéi J.-F. Heidegger. L'énigme de l'être. Paris, 2004.
Mattéi J.-F. L'Ordre du monde. Platon, Nietzsche, Heidegger. Paris, 1989.
McGrath S. J. Heidegger: A (Very) Critical Introduction. Cambridge, 2008.
Mead G. H. The Individual and the Social Self: Unpublished Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
Merleau-Ponty M. Humanisme et terreur. Рaris, 1947.
Merleau-Ponty M. Le visible et l'invisible. Рaris, 1971.
Merleau-Ponty M. Les aventures de la dialectique. Рaris, 1955.
Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1976.
Michel H. Le Chant de La Terre: Heidegger et Les Assises de L’histoire de L’Etre. Paris, 1985.
Mills C. Wright. Sociological Imagination. New York: Oxford University Press, 1959.
Moore W. E. Man, Time, and Society. New York: Wiley. 1963
Moyle T. Heidegger's Transcendental Aesthetic An Interpretation of the Ereignis. Aldershot, 2005.
Mugerauer R. Heidegger and Homecoming. The Leitmotif in the Later Writings. Toronto, 2008.
Mugerauer R. Heidegger's Language and Thinking. London, 1988.
Mulhall S. Routledge Philosophy Guidebook To Heidegger and Being and Time. London, 1996.
Müller K. E. Zeitkonzepte in traditionellen Kulturen. In: K.E.Müller and J.Rüsen (eds) Historische Sinnbildung. Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek: Rowohlt. 1997
Munn N. D. The cultural anthropology of time: a critical essay // Annual Review of Anthropology. 1992. № 21.
Murray M. Heidegger and Modern Philosophy. New Haven, 1978.
Myerson G. Heidegger, Habermas and the Mobile Phone. Cambridge, 2001.
Navia M. A. Hermenéutica: interpretaciones desde Nietzsche, Heidegger, Gadamer y Ricoeur. Mérida, 2008.
Nenon T. Memphis Heidegger and Praxis // “Southern Journal of Philosophy”. 1990. №28.
Newmann D. Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press 2006
Nietzsche F. Werke. Kritische Gesamtausgabe. Berlin-N.Y., 1967.
Nisbet R. History of the Idea of Progress. New York: Basic Books, 1980
Nisbet R. Social Change and History. New York: Oxford University Press, 1969
Nolte E. Martin Heidegger: Politik und Geschichte im Leben und Denken. Berlin-Frankfurt, 1992.
Okrent M. Heidegger's Pragmatism Understanding, Being, and the Critique of Metaphysics. Cornell, 1988.
Olson A. Heidegger and Jaspers. Philadelphia, 1994.
Ott. H. Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Fr./M.-N.Y., 1988.
Okakuro K. The Book of Tea, New York, 1906.
Parkes G. Heidegger and Asian Thought. Honolulu, 1987.
Partenie C. Rockmore T. Heidegger and Plato Toward Dialogue. Evanston, 2005.
Petkovsek R. Heidegger - Index (1919-1927). Ljubljana, 1998.
Petzet H. W. Auf einen Stern zugehen. Begegnungen und Gespräche mit Martin Heidegger 19291976. Frankfurt, 1983.
Philipse H. Heidegger's Philosophy of Being: A Critical Interpretation. Princeton, 1998.
Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Francke, 1959.
Pöggeler O. Der Denkweg Martin Heideggers. Pfullingen, 1963.
Pöggeler O. Der Denkweg Martin Heideggers. Stuttgart, 1994.
Pöggeler O. Heidegger und die hermeneutische Philosophie. Freiburg, 1983.
Pöggeler O. Philosophie und hermeneutische Theologie. Heidegger, Bultmann und die Folgen. Paderborn, 2009.
Pöggeler O. Philosophie und Politik bei Heidegger. Freiburg-München, 1972.
Polt R. Heidegger: an introduction. Ithaca, 1999.
Polt R. The Emergency of Being: On Heidegger's Contributions to Philosophy. Ithaca, 2006.
Prado C. G. A House Divided Comparing Anlytic and Continental Philosophy. New York, 2003.
Radin P. The World of Primitive Man. The Life of Science Library, no. 26. New York, 1953.
Radin P. Monotheism among Primitive Peoples. London, 1924.
Radin P. Social Anthropology. New York, 1932.
Raffoul F. Heidegger and Practical Philosophy. Albany, 2002.
Raffoul F. Heidegger and the Origins of Responsibility // Heidegger and Practical Philosophy. Albany, 2002.
Raffoul F. Heidegger and the Subject. Amherst, 1999.
Raffoul F. Rethinking facticity, Albany: State University of New York Press, 2008.
Rapaport H. Heidegger & Derrida, Reflections on Time and Language. Lincoln, 1989.
Rée J. Heidegger. New York, 1999.
Reijen W. Martin Heidegger. München, 2009.
Rentsch T. Martin Heidegger - Das Sein und der Tod. Eine kritische Einführung. München-Zürich, 1989.
Richardson W. J. Existential Epistemology: A Heideggerian Critique of the Cartesian Project. Oxford, 1986.
Richardson W. J. Through Phenomenology to Thought. Haag, 1963.
Richter E. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt, 1997.
Risser J. Heidegger toward the Turn Essays on the Work of the 1930s. Albany, 1999.
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992
Robinson J. M. The Later Heidegger and Theology. New York, 1963.
Rockmore T. On Heidegger's Nazism and Philosophy. Berkeley, 1992.
Rockmore T. The Heidegger Case On Philosophy and Politics. Philadelphia, 1992.
Rosenberg A. Heidegger and Foucault Critical Encounters. Minneapolis, 2003.
Roth M. The Poetics of Resistance: Heidegger's Line. Evanston, 1996.
Rüdiger S. Ein Meister aus Deutschland. Frankfurt, 1999.
Sallis J. Deconstruction and Philosophy. Chicago, 1987.
Sallis J. Delimitations Phenomenology and the End of Metaphysics. Bloomington, 1995.
Sallis J. Echoes: After Heidegger. Bloomington, 1990.
Sallis J. Reading Heidegger: Commemorations. Bloomington, 1993.
Sartre J. P. La Transcendance de l'go. Рaris, 1966.
Sartre J. P. L'Etre et le neant. Essai d'ontologie phenomenologique. Рaris, 1943.
Schalow F. The Incarnality of Being The Earth, Animals, and the Body in Heidegger's Thought. Albany, 2007.
Schmitt R. Martin Heidegger on Being Human An Introduction to Sein und Zeit. New York, 1969.
Scholem G. Kabbala, New York: Dorset Press, 1974.
Schürmann R. Le Principe d'anarchie. Heidegger et la question de l'agir. Paris, 1982.
Scott C. Companion to Heidegger's Contributions to Philosophy. Bloomington, 2001.
Seidel G. J. Martin Heidegger and the Pre-Socratics. Lincoln, 1964.
Seubert H. Heideggers Zwiegespräch mit dem deutschen Idealismus. Köln-Weimar-Wien, 2003.
Shahan R. W. Thinking About Being Aspects of Heidegger's Thought. Norman, 1984.
Sharr A. Heidegger's Hut. Cambridge, 2006.
Sheehan Т. Heidegger The Man and the Thinker. Chicago, 1981.
Simmel G. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Leipzig, 1892.
Sluga H. Heidegger's Crisis, Philosophy and Politics in Nazi Germany. Cambridge, 1993.
Souche-Dagues D. Du Logos chez Heidegger. Grenoble, 1999.
Spanos W. V. Heidegger and Criticism. Minneapolis, 1993.
Spanos W. V. Martin Heidegger and the Question of Literature. Bloomington, 1999.
Spengler O. Der Untergang des Abendlandes Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. München: C. H. Beck, 1963.
Steiner G. Martin Heidegger. Harmondsworth, 1980.
Steinmann M. Heidegger und die Griechen. Frankfurt, 2007.
Stellardi G. Heidegger and Derrida on Philosophy and Metaphor: Imperfect Thought. Amherst, 2000.
Stenstad G. Transformations Thinking after Heidegger. Madison, 2006.
Stirner M. Der Einzige und sein Eigentum. Berlin, 1924.
Suzuki D.T. Zen Buddhism: Selected Writings of D.T. Suzuki. New York: Doubleday, 1956.
Tallis R. A Conversation With Martin Heidegger Heidegger on Language and the Human Being. Basingstoke, 2002.
Taminiaux J. Lectures de l’ontologie fondamentale. Essais sur Heidegger. Grenoble, 1989.
Thiele L. P. Timely Meditations. Princeton, 1995.
Thomä D. Heidegger-Handbuch. Stuttgart, 2003.
Thomas J. Time, Culture and Identity. An interpretive archaeology. London: Routledge. 1996
Thomson I. Heidegger On Ontotheology Technology and the Politics of Education. Cambridge, 2005.
Toulmin S., Goodfield J. The Discovery of Time. London: Hutchinson. 1965.
Trawny P. “Voll Verdienst, doch dichterisch wohnet/ Der Mensch auf dieser Erde“. Heidegger und Hölderlin. Frankfurt, 2000.
Trawny P. Martin Heidegger. Einführung. Frankfurt-New York, 2003.
Tugendhat E. Der Wahrheitsbegriff bei Hussel und Heidegger. Berlin, 1970.
Vallega A. Heidegger and the issue of Space, Pennsylvanya: The Pennsylvania State University Press, 2003.
Vallega-Neu D. Heidegger's Contributions to Philosophy: An Introduction. Bloomington, 2003.
Vogel L. The Fragile We: Ethical Implications of Heidegger's Being and Time. Evanston, 1994.
Volpi F. Heidegger e Aristotele. Padova, 1984.
Vycinas V. Earth And Gods An Introduction To The Philosophy Of Martin Heidegger. New York: Springer, 1969.
Waldenfels B. Réponse à l’autre. Éléments d’une phénoménologie responsive // Phénoménologie française et phénoménologie allemande. Paris, 2000.
Ward J. F. Heidegger's Political Thinking. Amherst, 1995.
Watts M. Heidegger. A Beginner's Guide. London, 2001.
Weber M. Rationalisierung und entzauberte Welt. Berlin, 1989
Wendorff R. Zeit und Kultur: Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa. Opladen: Westdeutscher Verlag. 1985.
Whorf B. Language, thought and reality. Cambridge, MA: MIT Press. 1956.
Wisser R. Martin Heidegger im Gespräch. München, 1970.
Wittgenstein L. Werkausgabe. Frankfurt am Main, 1984. Bd. 1-8.
Wolin R. Heidegger's Children. Princeton, 2001.
Wolin R. The Heidegger Controversy. Cambridge, 1993.
Wolin R. The Politics of Being. New York, 1990.
Wood D. Of Derrida, Heidegger, and Spirit. Evanston, 1993.
Wood D. Thinking after Heidegger. Cambridge, 2002.
Wrathall M. How to Read Heidegger. London, 2005.
Young J. Heidegger, Philosophy, Nazism. Cambridge, 1997.
Young J. Heidegger's Later Philosophy. Cambridge, 2001.
Zimmerman M. E. Eclipse of the Self : The Development of Heidegger's Concept of Authenticity. Athen, 1986.
Zimmerman M. E. Heidegger's Confrontation with Modernity. Bloomington, 1990.
Zimmermann H. D. Martin und Fritz Heidegger. Philosophie und Fastnacht. München, 2005.
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР
ВОЗМОЖНОСТЬ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Введение. Значение Хайдеггера и его истории философии для России
Возможность русской философии
Корреляция русской философии с западной
Момент развертывания западноевропейской истории философии
Хайдеггер как шанс для русской философии
Средний Хайдеггер как важнейший элемент в реконструкции истории философии
Философия вечера
Хайдеггер, голограмма и герменевтический круг
Три этапа философского творчества Хайдеггера
Схема истории философии у Хайдеггера
Логос и нигилизм
Конец в рамках первого Начала
Средневековье
Новое время – Декарт
Гегель и Ницше
Другое Начало
Кто Вы, Herr Heidegger?
Entscheidung
Решение и русская философия
Феноменологическая деструкция
Хайдеггер и вторая попытка русских вступить в философию
Часть1. Археомодерн. Герменевтический эллипс. Отсутствие русской философии.
Глава 1. Народ без философии
Разбор завалов
Философия и индоевропейский мир. Индийская философия
Философия Ирана
Философия в арабском мире и в Китае
Славянская ассиметрия
Глава 2. Герменевтический эллипс и его структура
Философы без философии
«Русские фрагменты»
Архемодерн и псевдоморфоз
Смердяков как центральная фигура археомодерна (о «банной мокроте»)
Герменевтический эллипс
Западнический фокус
Схематизация герменевтического эллипса
Структура полюса Модерна
Фокус архаики
Глава 3. Философы археомодерна
Славянофилы и западники: обнаружение археомодерна
Два русских мыслителя-археомодерниста
Владимира Соловьева: маргинал европейского дискурса
Образ Софии – болезнь и прозрение
Всеединство как бегство от философии
Николай Федоров и «отцы-мертвецы
Серебряный век и софиология
Вожди русской софиологии – отцы С.Булгаков и П.Флоренский.
Булгаков и Флоренский: попытка мыслить по-русски
София, исихазм, имясловие
На пороге русского круга
Русские вопросы
Константин Леонтьев: византизм
Данилевский: славянский историко-культурный тип
Евразийцы и русское дело
Петр Чаадаев: философия как русофобская практика
«Туда, туда, на запад…»
Умеренные западники
Русский «Lebenswelt» Василия Розанова
Дмитрий Мережковский: третий завет и две бездны
Иван Ильин: русский патриотизм на прусский манер
Философы эллипса
Глава 4. Как философствуют серпом и молотом
Три особенности марксизма
Русский марксизм как радикальное западничество
Парадокс большевистской победы: произошло то, чего не должно было бы произойти
Антизападническое западничество
Троцкизм и национал-большевизм
Сталин: археомодерн по-советски
Советская философия как токсические отходы
Глава 5. Свято место по-прежнему пусто
Герменевтический эллипс в постсоветский период
Археомодерн Владимира Путина
Глава 6. К русскому arch
Археомодерн и его истина. С грязного листа
Юродство как интеллектуальная стратегия
Архаика и arch
Модерн как завершающий продукт развития западного начала
Версии слияния двух различных культур
Глава 7. Постижение Запада – преодоление Запада – освобождение от Запада
Ничтожность полюса А для западного герменевтического круга
«Тайная гармония» Запада
Отречение в пользу Запада
Философия и горизонты «неглупости»
Последовательность операций по построению русской философии
Значение Хайдеггера для выхода из геремневтического эллипса
Замкнутый цикл русского непонимания
Поверить Хайдеггеру
Альтернативы Хайдеггеру
Основные моменты западной философии
Ничто и катастрофа
Обнаружение Dasein'а и его значение
Часть 2. Очертания русской онтологии
Глава 8. Феноменология русского Начала
Пунктир русского герменевтического круга
Проблема метода
Обнаружение ядра (феноменология)
Подобие Начал и русская феноменология
Краткий обзор феноменологической философии Гуссерля
«Жизненный мир», «структуры», «языковые игры», «коллективное бессознательное»
Русское как позитивный феномен
Dasein Хайдеггера и феноменология
Глава 9. Русский дазайн и его экзистенциалы
Dasein и проблема перевода
Русский дазайн, русский народ и проблема локализации
Русское бытие
Бытие в славянской «языковой игре»
Деривативы бытия
Русское бытие слишком близкое (метафизика вкуса)
Русское пребывание и проблема мира
Пребывание и обратный характер экзистенциалов
Русские не находятся
Бытие-с как интеграция в целое
Догадка о философском значении русского языка в другом Начале
Русская речь
Гипотеза о экзистенциалах «бывания»
Убывание/прибывание
От-бывание
По-бывание/пере-бывание
Добыча
Избывание
Сбывать
Событие
Обывание
За-бытие
Бы и след ничто
Исчезновение связки
Как смеется «есть»
Экзистенциал Sorge и структура европейского Dasein'а
Русская беззаботность
Авось-бытие
Оппозиция экзистенциалов
Dasein и дазайн: пределы аналогии
Фундаменталь-онтология границы
Ассиметрия различий
Заброшенность и кувырок
Проект и воля
Экзистенциал Mit-Sein, гомология индивидуального в западном обществе
Личность как ничто у русских
Аутентичность/неаутентичность (das Man)
«Говорят»: отсутствие проблемы аутентичности в русском дазайне
Глава 10. Экзистениальная аналитика археомодерна
Этапы выяснения европейско-русского экзистенциального дуализма
Экзистенциальные истоки русофобии
Экзистенциальная эмиграция в европейский Dasein
Пожрать Запад
Переосмысление покорности
Дазайн взаймы
Двойная онтология индивидуума
Русский диагноз
Мармеладов и путь нищеты
Не есть ли отсуствие философии само по себе философия?
Глава 11. Русская Хора
Raum и этимология
Пространственное время
Констраст (не противоречие) с пространственностью европейского Dasein'а
Кто Вы, Хора?
Dasein и al-nafs/Dasein ибн Бизри
Начала в философии Платона
Фрагмент о хоре
Явление хоры
Хора-Женщина
Хора- Материя
Хора-Пространство
Хора-Сновидение
Вера в хору и область филофоской тени
Хора и европейский Dasein
Русская хора
Горизонты Ксенофана
Страна бытия. Онтология нивы
Введение хаоса
Хаос пробивается сквозь философский разум
Взгляд на хаос со стороны порядка
Глядя из хаоса
Пролегомены к философии хаоса. Нулевое Начало
Диалектика включений
Пограничный хаос
Последний шаг вниз (телеология космогенеза)
Русская философия возможна только как философия хаоса
Глава 12. Четверица в структуре русского Начала. Русские, феноменология и Er-Egnis
Схема Четверицы
Небо-Welt и Волотомон Волотомонович
Бытие Земли
Земля будущего и судьба Welt (мира?)
Русской Четверицы нет
Божественное и человеческое в русском взгляде
О месте Божественных
Этимология высшего из имен
Три взгляда на неведомого Бога
Имя человека
Пропавший человек
Проблематичность легких богов
Бог мыслит русских
Структуры интенциональности
Феноменология и интенсивный этап развития европейских наук
Философия как экзорцизм
Феноменология духов
Феноменологический анализ Зова и Дыма
Философские горизонты светлого Неба
Стрела человеческая
Русские как перевернутая структура интенциональности
Четверица русского Начала (теперь известна)
Другое Начало по Хайдеггеру
Место русских в другом Начале
Суррогат Er-Eignis'а в русской истории. Великое Предчувствие
Для русских Er-Eignis не принципиален
Значение Er-Eignis'а для возможной русской философии
Русские и новое Начало философии
Окинуть взглядом выводы
Два основания возможной русской философии
Достоверность существования именно философии хаоса
Пересечение русской философии и русской теологии
Часть 3. Взгляд из родимого хаоса
Глава 13. Русская теология и Православная вера
Греческая и русская линии в Православии
Влияние русского Начала на христианство и иррелевантность языческого фактора
Греко-византйиское западничество и первые признаки археомодерна
Бог как Слово
Топика европейской теологии
Русский дазайн и Церковь
Философия Пречистого Имени
Антропоцентризм западной теологии
Фундаментальный зазор между значением греко-римского и славянского религиозного текста
Вселенский смысл христианства. Керигма
Греко-латинское толкование христианства
Русско-славянское толкование христианства
Схема смысловых множеств
Смешение трех множеств
Методология деконструкции семантических множеств
Открытая экклесиология
Русское Начало в ранней церковной истории (до XVI века)
Третий Рим
Ранее западничество (грекофилия)
Семантика раскола
Невнятность оценки Московского периода в официальной истории РПЦ
Западничество и славянофильство XIX века
Богословие в советский период
Структура русской церковной истории
Русская святость
Глава 14. Русское Начало и темы русских философов (пересмотр отношения)
Врачи и пациенты
Сквозь текст к русскому Началу
Снова к Соловьеву
София: поиск денотата
София в неоплатонизме
София и русское Начало
Русская София как другая София
София и хаос (Тютчев и Блок)
Коррекция социологии и русская философия
Экзистенциальное толкование Всеединства
О. Сергий Булгаков: проблемактика Творения
Монотеистический неоплатонизм и проблема «третьей природы
Шекина в каббале и разбитые вазы
Суфизм и платонизм в исламе
Проблематичность неоплатонизма в христианстве
Опыт русскости
Герметизм и русская София
Прорывы и пределы софиологии
Федоров и бессмертие в хоре
Человеко-мир и оживающая техника
Бастардный логос
Общество деревни
Всеобщее включение
Славянофильская и евразийская броня русского дазайна
Русские философы и горизонты их нового прочтения
Часть 11. Русское начало и Советская эпоха (наброски)
Русское и советское: тема не разработана
Фазы советской истории
Национал-большевизм
Русская вера Николы Клюева
Посол от медведя
Красный рык
Магический большевизм Андрея Платонова
Русско-советский брак: осознание фатальной ошибки
Сталинизм как философия
Брак не расторгнут
Умственное разложение
Советский «жизненный мир»
«Диалоги» с Западом в 60-70-е годы ХХ века
Прорастающее русское
Конец советской философии
Постмодерн не может способствовать «модернизации
Нулевой цикл
Заключение. Явление русского Начала
Разметка философского поля
Задание номер 1: демонтаж археомодерна
Задание номер 2: корректное постижение Запада
Задание номер 3: развертывание философии хаоса
Явление русской философии
Библиография
Монографии автора
Дугин А.Г. Пути Абсолюта. М.: Арктогея, 1991.
Дугин А.Г. Гиперборейская теория, М.: Арктогея, 1993.
Дугин А.Г. Конспирология/ М.: Арктогея, 1993, 2-е доп. изд., М., 2005.
Дугин А.Г. Консервативная Революция. М.: Арктогея, 1994.
Дугин А.Г. Мистерии Евразии. М.: Арктогея, 1996.
Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея, 1-е изд., 1996, 2-е изд., 1997, 3 изд. (дополненное) 1998, 4 изд. (дополненное), 2000.
Дугин А.Г. Метафизика Благой Вести. М.: Арктогея, 1996.
Дугин А.Г. Тамплиеры Пролетариата. М.: Арктогея, 1997 .
Дугин А.Г. (под ред.) Конец Света (альманах по истории религий) М.:Арктогея, 1997.
Дугин А.Г. (под редакцией) Наш Путь. М.: Арктогея, 1998.
Дугин А.Г. Абсолютная Родина. М.: Арктогея, 1999.
Дугин А.Г. Русская Вещь. В 2 т. М.:Арктогея, т.1, т.2., 2001.
Дугин А.Г. Евразийский Путь. М.: Арктогея-Центр, 2002.
Дугин А.Г. (под редакцией) Евразийский Взгляд. М.: Арктогея-центр, 2002.
Дугин А.Г. Философия традиционализма. М.: Арктогея-Центр, 2002.
Дугин А.Г. Эволюция парадигмальных оснований науки. М.: Актоегя-центр, 2002.
Дугин А.Г. (под ред.) .Основы Евразийства. М.: Евразийское движение, 2002.
Дугин А.Г. Философия политики. М., 2004.
Дугин А.Г. Проект Евразия. М.: Яуза, 2004.
Дугин А.Г. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева. М., 2004.
Дугин А.Г. Философия войны. М.: Яуза, 2004.
Дугин А.Г. Поп-культура и знаки времени. СПб.: АМфора, 2005.
Дугин А.Г. Обществоведение для граждан Новой России. М.: Евразийское движение, 2007.
Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. СПб.: Амфора, 2007.
Дугин А.Г. Знаки великого Норда. М.: Гардарика, 2008.
Дугин А.Г. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
Дугин А.Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М.: Евразийское движение, 2009.
Дугин А.Г. Четвертая политическая теория. СПб7: Амфора, 2009.
Дугин А.Г. Логос и мифос. Социология глубин М.: Академический проект, 2010.
Дугин А.Г. Социология воображения. М.:, Академический проект, 2010
Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер: философия другого Начала. М.:, Академический проект, 2010.
Дугин А.Г. Социология русского общества. М.: Академический проект, 2010.
Дугин А.Г.Конец экономики. СПб.:, Амфора, 2010.