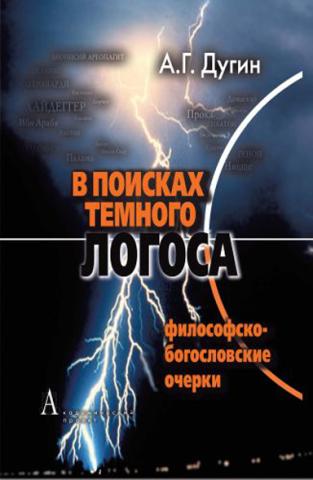
В поисках темного Логоса
Часть 1. Момент русской философии
Глава 1. Герменевтика русских языков
Перевод как антропологическая проблема
Вопрос «перевода» централен для культуры, т. к. он немедленно вовлекает проблематику универсализма и строит на том или ином ее разрешении все остальное. Переводчик имплицитно вынужден проделать грандиозную работу, над которой в течение всей жизни — от концепции «атомарных фактов» до теории «языковых игр» — бился Л. Витгенштейн. Номинализм, заложенный в доминантной эпистеме европейского Модерна, предполагает «перевод» через апелляцию к означаемому (значению). Два языка дублируют «имена» для одного и того же предмета; поняв, к какому предмету относится знак (означающее) одного языка, мы будем готовы отыскать — через этот предмет! — аналог в другом языке. Цепочка: «имя – предмет – имя». Но каково значение слова «значение»? Эта проблема взломала позитивистский оптимизм раннего Витгенштейна и привела его впоследствии к контекстуальному решению вопроса о «значении», т. е. собственно к «языковым играм».
С другой стороны к той же проблеме подошли структуралисты, вслед за Соссюром, рассмотрев как главный источник смысла не соотношения денотанта и денотата (или, на ином уровне, означающего и означаемого), но места означающего в общей структуре других означающих в контексте языка, langue (а не дискурса, parole).
И наконец, знаменитая гипотеза Уорфа-Сепира о невозможности перевода строится на антропологическом плюрализме Ф. Боаса, эмпирически зафиксировавшего несопоставимость между собой архаических культур и невозможность постижения одной из них через другую.
Переводческий номинализм может быть и пригоден (да и то относительно) при документальном описании конкретных материальных предметов, но как только мы подходим к более сложным вещам — описанию действий, состояний или процесса мышления, то он постепенно утрачивает свою релевантность в принципе.
Тут ему на помощь приходит «западный универсализм», основанный на едва завуалированном гносеологическом расизме. В его основании лежит презумпция того, что история западного общества построена на движении от частного к всеобщему и нацелена на выявление универсального Логоса. На этом пути к универсальному Логосу она преодолела последовательно основные стадии раньше других культур, расположенных в окрестностях Запада (являясь его историческими и географическими пригородами или провинциями). И поэтому структура западноевропейского языка (научного и культурного) может быть взята как общая референтная матрица для всех типов переводов. Сходство какого-то элемента (знака, символа, означающего, денотанта) с западноевропейским (мнимым или реальным) аналогом или отличие от него становится базовым критерием перевода. Но эта аналогия мыслится как апроксимация только применительно к незападному языку и высказанному на нем (или переведенному на него) дискурсу. Западный язык (=культура) есть сам универсальный Логос в своей постоянно уточняющейся форме, т. е. фундамент переводческой референциальности.
Но этот гносеологический расизм, дополняющий собой номинализм (если тот оказывается несостоятельным) и присущий также уточняющим (непозитивистским) эпистемам, таким как феноменология Гуссерля (а ведь Гуссерль тоже писал о «европейском человечестве» как о философском синониме всего человечества в целом), может быть оспорен с позиции того антропологиче-ского плюрализма, который обосновал и развил К. Леви-Стросс, объединивший в своей структурной антропологии школу Ф. Боаса, лингвистический и философский структурализм и дюркгеймовскую социологию (особенно через М. Мосса). Постмодернисты довели эту линию до логического предела, распознав номинализм как наивную форму более глубокой расистской стратегии, отождествляющей язык Запада (научный и культурный) с универсальным языком, а западную рациональность с рациональностью вообще. Первой жертвой стал сам язык, обвиненный в том, что «он и есть фашизм»[1]. Р. Барт утверждает однозначно: «Язык… не реакционен и не прогрессивен; это обыкновенный фашист, ибо сущность фашизма не в том, чтобы запрещать, а в том, чтобы понуждать говорить нечто». Под языком тут понимается «западноевропейский язык», а другие «языки» по инерции располагаются «в его окрестно-стях» — вполне в духе того «фашистского» мышления, которое постмодернисты стремятся изжить. Получается, что проблема перевода — это возможность перевести нечто «с одного фашизма на другой».
Здесь мы имеем дело с очень показательным форсажем, который представляет собой самое слабое место постмодерна: опознав (совершенно справедливо) расистский характер западного Модерна, скрытые за ним иерархичность, эксклюзивизм, империализм, апартеид, колониализм и соб-ственно расизм, постмодернисты остались полностью под его суггестивными чарами и продолжали переносить свойства западного Логоса и логоцентризма на то, что все еще продолжало оставаться «окрестностями Запада», в их понимании, т. е. на все остальные культуры и языки, которые оказывались лишь «недо-фашизмами». Это, кстати, характерно для критической марксистской идеологии, которая при всей своей революционной направленно-сти предполагает, что все культуры и общества должны проделать один и тот же исторический путь, строго повторяющий по своему социальному и историческому смыслу путь западноевропейских обществ. По-этому даже марксизм, будучи западным по своим корням и уходя корнями в парадигмы Модерна, остается в своем ядре исключительно расистским явлением, основывающимся на презумпции универсальности западного Логоса и западной истории. «Другое», столь важное для постмодернистов, они не могут понять, снова и снова воспроизводя репрезентации «этого» или пытаясь найти это «Другое» где-то в самом себе (пролетариат, бессознательное, шизо-массы и т. д.). Другими словами, стремясь выйти за свои пределы, постмодернизм лишь имитирует этот жест на самой границе, там, где начинается перевод, делая резкий шаг назад или изгибаясь в извращенном жесте двусмысленной складкой. Поэтому, разочаровавшись в себе и стремясь перевернуться в себе, Запад в лице постмодернистов снова ни в грош не ставит незападные общества и культуры, полагая, что в них он не найдет ничего для себя ценного, кроме запоздалых и бессодержательных карикатур на свои собственные духовные движения. Если не только западная культура и ее язык, но и все остальные культуры есть фашизм, то «перевод» не только невозможен, но и совершенно ненужен. Надо, напротив, прорываться к аутичному и индивидуальному языку расчлененных атомов, смешанному с какофонией случайных природных и технических звуков в фоновый гибрид (Б. Латур).
Однако К. Леви-Стросс, и даже Ф. Боас, а до них немецкие романтики, такие как И.Г. Гердер, убедительно и наглядно продемонстрировали радикальную инаковость Другого в конкретности незападных (например, архаических) или «не совсем западных» культур и обществ. Но вход на эту территорию прочно забаррикадирован для тех, кто несет в себе прививку западного универсализма во всех его формах — от откровенно расистских (в духе ранних антропологов-эволюционистов типа Э. Тэйлора или Л. Моргана, не говоря уже о Ж. Гобино) до либеральных, марксистских и даже постмодернистских. Поэтому ученики Ф. Боаса Сепир и Уорф столь категоричны в отношении невозможности перевода: чтобы перевести с одного на другое, надо иметь глубинный опыт другого, а это требует, в свою очередь, схватывание своего как чего-то арбитрарного и релятивного, допускающего конкретные альтернативы. По Ф. Боасу, эта способность есть базовое требование к профессиональному антропологу, который должен быть прежде всего полностью свободным от всякого универсализма, т. е. от расизма. Антрополог становится в таком случае чем-то исключительным; но даже при соответствии этому требованию он все же, скорее всего, рано или поздно проявит западный этноцентризм — например, в теориях прав человека, в призывах к толерантности, в мультикультурализме или индивидуализме. Ризома тоже есть западный концепт, равно как и Dasein[2].
Итак, перевод начинается там, где наличествует такое отношение к двум языкам (культурам, обществам), которое проистекает из глубокой включенности в оба из них и искусно сопоставляет метафорические, контекстуальные и морфологические структуры, довольствуясь уровнем креативных аналогий и не претендуя ни на какую строгость. Перевести корректно текст с языка на язык столь же трудно, как описать словами музыку или передать живопись музыкальной мелодией.
Первый шаг к переводу — отказ от ложной убежденности в существовании универсального разума. Разум всегда локален и представляет собой конкретную рациональность. Рациональность плюральна и воплощена в культуре, обществе, языке. Между различными рациональностями нет общей меры — нет ни универсальной матрицы, ни набора внеязыковых предметов, т. к. само представление о внешнем мире, о субъекте и объекте суть социокультурные и исторические концепции. Поэтому перевод должен строиться на тщательной «густой дескрипции»[3] (К. Гирц) конкретной рациональности, локализованной в истории и в культурном пространстве. Язык, на который (или с которого) мы переводим, всегда есть моментальный срез, имеющий прошлое и будущее (поддающиеся семантическому анализу), находящийся в окружении других языков, которые, в свою очередь, представляют собой моментальные срезы, также имеющие семантические измерения по диахронической шкале.
Перевод же есть попытка компаративного сопоставления, усилия по нащупыванию эвристической аналогии, которая должна мыслиться открытой для уточнений, поправок и коррекций в ходе ее выстраивания. Перевод — это открытый процесс, он не может иметь начало и конец, он длится, пока длится культура.
Значение труда В.В. Колесова
Это чрезвычайно затянувшееся и громоздкое вступление было необходимо для того, чтобы подойти к рассмотрению некоторых филологических, лингви-стических и философских концепций современного российского ученого Владимира Викторовича Колесова, изложенных им в серии книг под общим названием «Древняя Русь», и конкретно к четвертому тому этой серии, имеющему подзаголовок «Мудрость слова»[4]. В ней автор проделывает труд колоссальной значимости, т. к. пытается выстроить картину основных закономерностей развития русского языка на разных исторических этапах с особым акцентом на русскую древность и Средневековье. Работа Колесова беспрецедентна по своей строгости и глубине и в высшей степени актуальна для постижения языка, на котором мы говорим сегодня, а также для того, чтобы понять, как он семантически, морфологически и лексически стал тем, что есть, и как он соотносится с другими (в первую очередь, западными) языками, его окружающими. Работы Колесова совершенно необходимы всем современным переводчикам, т. к. лучше всего помогают точно определить и «густо описать» тот моментальный срез, который представляет собой современный русский язык в диахроническом контексте его истории и в синхроническом соседстве с другими языками. При этом именно четвертый том названной серии имеет особое значение, т. к. в нем автор сосредоточен на наиболее важных философских понятиях и их семантических и морфологических трансформациях, а кроме того, эксплицитно описывает пласты русского языка в его развитии.
Без внимательного изучения работ Колесова ничего по-настоящему осмысленного нельзя сказать ни о нас, ни о других или тем более что-то перевести с русского или на русский.
Рассмотрим лишь некоторые моменты книги В. В. Колесова, которые имеют, на наш взгляд, принципиальное значение для понимания этапов эволюции русской рациональности в ходе нашей истории.
Вначале был перевод
Не следует забывать, что начало современный русский язык берет в конкретном историческом моменте осуществления переводов христиан-ских текстов с греческого языка и учреждения тем самым восточно- и южно-славянской письменности. «Письменности и культуры» — совершенно справедливо на одном дыхании произносим мы, т. к. привнесение письменности было колоссальным культурным деянием, радикально изменившим базовые корневые структуры древнеславянской рациональности и социальности.
Церковнославянский язык (основанный на чешско-моравском диалекте, правда, претерпевшем значительные изменения) был калькой с греческого языка. Более того, он создавался во многом искусственно для передачи значительного числа понятий, вещей, отношений, фигур, ролей, сюжетов, действий и смыслов, которым в культуре древних славян вообще не было места. Вместе с переводом создавалась реальность, соответствующая мгновенному введению множества новых предметов, явлений и связей. Это был практически скалькированный заново, искусственно сконструированный мир. Но не совсем…
Калька греческой христианской рациональности накладывалась на предсуществующее поле древнеславянской рациональности, имеющей свою собственную структуру и семантику, свои правила и законы. Новое создавалось не из ничто, но из элементов старого, уже существующего. Поэтому древнерусская культура после Крещения Руси должна быть проинтерпретирована как двуслойная рациональность, в которой необходимо выделить как минимум дохристианский, догреческий, пласт и тот пласт, который был на него спроецирован и на его основе оформлен.
Перевод Кирилла и Мефодия — это был перевод на… И на что именно он был осуществлен, каким был язык южных и восточных славян до христианизации, имеет для всех последующих этапов русской культуры принципиальное, ключевое значение.
Почему это так важно? Потому что в церковнославянском языке мы имеем дело не с греческим и не со славянским языками, а с результатом сложнейшего синтеза. В процессе перевода конструировалось нечто новое во всех смыслах — это было не просто механическое производство концептов, строго повторяющих греко-православные, и не передача одних концептов через другие. Все еще более сложно — было и то, и другое, и еще создание новых концептов, отсутствующих как в греческом, так и в старославянском и получивших с того момента собственную судьбу. Мы имеем дело со сложнейшим процессом, с тремя лингвистическими порядками: греко-христианским (со своей сложной и динамической, развивающейся морфологией и семантикой — от досократиков и Платона до догматов Вселенских соборов и развитой православной теологии), архаическим древнеславянским и синтетически вновь созданным на основании комбинации этих пластов. При этом каждый из этих порядков имел разную динамику:
• первый (греко-христианский) развивался самостоятельно в экстерриториальных условиях, подпитывая собой русскую церковную элиту, формирующуюся как из свиты греческих митрополитов, назначаемых на Киевский (позднее Владимирский и Московский) престол, так и из русских клириков, усердно осваивающих греческий язык и греческую христианскую культуру;
• второй продолжал смутное бытие, идущее на угасание в простонародных массах; это собственно древнерусский язык — тот, в котором, звук «ч» стоит на месте возвышенного церковнославянского «щ» («мочь», «ночь», «свеча» по-древнерусски, «мощь», «нощь», «свеща» по-церковнославянски и т. д.);
• третий развивался отчасти автономно в церковной богослужебной практике, в хрониках, в монастырском обиходе и в деловом стиле древнерусских книжников.
Три порядка, три языка, три рациональности. Между ними уже требовался перевод. Причем каждый порядок не был раз и навсегда фиксированной реальностью и также следовал в русле своей динамики. Этот и так довольно сложный комплекс многократно трансформировался в ходе русской истории, представляя собой ее филологическую базу — плотную, основательную, но подвижную и комплексную, состоящую из хитросплетений, узлов, комбинаций и двусмысленностей. И на эти языки еще и переводилась определенная иноязычная литература — пусть в довольно ограниченном составе, но хроники и дипломатическая переписка сами по себе представляют собой обширное поле для исследований.
Выделение трех порядков языка в исторический момент христианизации Руси показывает синхроническую картину, значение которой сохраняется еще очень долгое время. Если на уровне диахронической стрелы времени мы четко отличаем дохристианский период русской истории от христианского (до 988 года и после 988 года), то на уровне реального общества, рациональности, языка и культуры, на уровне социальной семантики такой точки нет. И после 988 года второй порядок языка никуда не исчезает, но продолжает существовать и развиваться параллельно. Это иногда называют «двоеверием» или инерциальным сохранением политеизма в древнерусском обществе. На самом деле это не что иное, как глубинная культура и связанная с ней рациональность, воплощенные в структурах языка. И процессы, протекающие на уровне этого порядка, чрезвычайно долгосрочны и часто слабо поддаются изучению, т. к. вытесняются с уровня эксплицитного дискурса новой доминирующей идеологией, претендующей на эксклюзивность и опирающейся на политическую мощь государства и главенство правящей элиты.
Но что означает наличие такой резидуальности для общего контекста русской рациональности? Ни больше ни меньше как наличие параллельной системы интерпретации, существование особой семантической решетки толкования, которая может наличествовать даже там, где формально о ней нет и речи. Народность связана именно с этим вторым языком, который, конечно, тоже развивается и трансформируется со временем, но по своей собственной, присущей только ему логике. А значит, в некотором смысле, «двоеверие» можно истолковать не просто как исторический феномен, завершающийся, как иногда считают историки, к концу XV века, но как состояние раздвоенной рациональности, свойственное нашему обществу и его языку вплоть до самого последнего времени. Не является ли советское «двоемыслие» далеким отголоском древнего «двоеверия»? Народ до сих пор остается областью малоизученной, чему препятствуют подчас совершенно неадекватные и чаще всего скалькированные с западноевропейского общества методы, с помощью которых его пытаются изучать. Народ — это Другой для официальной, подражающей Западу, «переводной» русской культуры, и чтобы понять его, необходимо научиться практикам трансгрессии. Русским мало быть, им надо стать, и это требует больших усилий и огромной работы.
Эквиполентный язык русской архаики
Работа В.В. Колесова помогает систематизировать эти пласты рациональности на уровне языка и соответствующих ему параллельных уровней. В книге «Мудрость слова»[5] мы находим принципиальные ключи для подобной интерпретации.
Отталкиваясь от систематического изучения древнерусских текстов самого разного жанра, Колесов пришел к чрезвычайно интересной систематизации трех уровней концептуализации самого строя языка, наблюдаемых в многочисленных памятниках старины и выводимых в ходе лингвистического анализа.
Эти три уровня определяются Колесовым на основании фонологии, созданной выдающимся русским лингвистом Н.С. Трубецким[6], как эквиполентность, градуальность, привативность.
Колесов пишет:
«Эквиполентность помогала выделять конкретные предметы, данные во всей их конкретности (мужчина — женщина, день — ночь, верх — низ и т. д.). Градуальность вводила в рассмотрение идеи (представления) о вещах, а представить можно вполне фантастические предметы, лица и всякую тварь вообще в бесконечности ее проявлений. Привативность же служит не образу и символу, но понятию как наиболее строгому и в научном отношении точному содержанию словесного знака. (…)
Эквиполентность существует в режиме подобий и тождеств, градуальность — сходств и подобий, привативность — сущностных сходств и различий».[7]
Первым уровнем, является эквиполентный строй языка.
Это состояние соответствует наиболее древнему славянскому социокультурному слою и идентифицируется Колесовым как комплекс языческого миросозерцания.
Термин «эквиполентность» образован от латинского «equi-», «равный», и «pollens» (от «pollere», «быть сильным», «мочь», «быть в силах»). Этот термин в научной литературе имеет четыре значения:
1) равный по силе, значению, эффективности;
2) (в логике) валидно выводимый из другого, дедуктибельный;
3) равнозначный, эквивалентный;
4) (в математике и математической логике) класс, имеющий одинаковую кардинальность с другим классом.
Понятие эквиполентности применяется к характеристике различаемых пар и соответствует первым трем значениям. Эквиполентной парой является такая пара слов, которые связаны между собой по смыслу, соотносятся друг с другом (выводятся одно из другого), при этом находятся на одном онтологическом уровне (одинаково есть, наделены бытием), но при этом занимают противоположные полюса в конкретной ситуации.
Колесов пишет[8]: «Самый простой способ идентификации вещи, попавшей в поле нашего зрения, — сравнить ее с другой вещью того же рода. (…) Таково «языческое» понимание классификации вещного мира путем попарного сравнения «тел» общего основания. Мужчина и женщина — совместно «человек», верх и низ — совместно это пространство и простор и т. д. (…) Древнерусская эпоха времен христианизации и долго после того, почти до XIV века, — это время господства эквиполентной оппозиции, обусловившей многие особенности нашей истории и культуры.» И далее: «Свет и тьма противопоставлены друг другу и воспринимались как равнозначные, одинаково существующие, не сводимые друг к другу сущности. Они объяснялись одно через другое».[9]
Давайте вдумаемся глубже в смысл парадигмального толкования пары. Речь идет о том, что такая пара строится на основании двух конкретных сущностей, наделенных самостоятельным бытием, одновременно связанных между собой и разделенных, причем их связь и их разделенность тонко перетекают друг в друга. Они разные — поэтому чаще всего обозначаются разными корнями, но связаны семантической симметрией, вскрытие и фиксация которой в языке является колоссальным когнитивным инструментом, настолько важным, что вполне может быть рассмотрен как основа целого класса рациональности, выстраиваемой на ее основе.
Различение является свойством жизни как таковой и присуще даже минералам. Даже одноклеточные организмы реагируют на изменение среды — тепло/холод, свет/тень, а, следовательно, способны различать. Способность к различению у животных уже чрезвычайно развита, а фиксация различений в эквиполентных парах представляет собой пик этого качества, развитого до своих пределов. Однако эквиполентные пары остаются в рамках восприятия окружающего бытия как единой нерасторжимой ткани, в которой все полюса обладают присущим им конкретным бытием[10]. Это когнитивный дуализм, принципиально включенный в структуру мира. Это общее свойство бытия, которым наделены оба полюса эквиполентности, имеет значение на трех уровнях:
1) полюса в равной мере принадлежат к бытию, т. е. в равной мере есть;
2) полюса принадлежат к одному и тому же слою бытия, что и делает возможным их сопоставление и противопоставление (они объединены принадлежностью к общему таксону и «склеены» бытием этого таксона);
3) полюса, объединенные на уровне форм, интегрированные, складываются в нечто новое, что и позволяет увидеть их онтическую и онтологиче-скую общность).
Так, мы выявили уникальную ментальную операцию по различению, которое, с одной стороны, чрезвычайно остро, а с другой стороны — включено в ярко воспринимаемую и выражаемую ткань онтологического единства. Эквиполентные противоположности целиком и полностью позитивны[11]. Если читать мир сквозь такие пары, то, удаляя мужчину, мы получаем не нечто отрицательное, не немужчину, но конкретную и онтологически насыщенную бытием и смыслом женщину. Зачеркивая верх, мы получаем низ, не какой-то абстрактный «не-верх», а низ как конкретную землю с ее пейзажем, растительностью, животным миром, человеческим обществом.
Колесов показывает, что сама частица «не», ставшая позднее признаком чистой привативности, изначально имела эквиполентный характер. Он пишет, что слова « (…) клен и неклен[12] передают сходство двух предметов при отсутствии тождества между ними; растения одного вида, но разной «материальности» — дерево и кустарник. Это эквиполентность, поскольку противопоставление строится по двум признакам: по качеству и размеру. Люди/нелюди не отрицание человеческих свойств (как в современном языке), а утверждение особого качества общего свойства: это тоже люди, но мелкие, лесные существа, принимающие облик и форму человека».[13]
Теперь попробуем применить принцип эквиполентности к паре жизнь/смерть. И получаем не просто смерть как отсутствие жизни, а какую-то другую жизнь, симметричную, отличную, но, самое главное, конкретную и бытийно нагруженную, если угодно, эмпирически фиксируемую самой структурой эквиполентности. Отсюда теперь легко понять отношение к предкам, покойникам, душам у древних славян и связанные с ними ритуалы: в эквиполентной системе нет никакого символизма — ушедшие столь же реальны и чувственны, как и оставшиеся, а, следовательно, их можно видеть, им нужно отдавать дань, кормить (оставляя на погосте обрядовую еду), поминать и т. д. Так же обстоит дело и с богами, духами, мифологическими персонажами — любое слово есть член эквиполентной пары, где второй (всегда подразумеваемый) член является семантическим и онтологическим гарантом первого. Поэтому между собой связаны не просто означающее и означаемое (как полагают номиналисты), но сразу четыре момента.
Означающее 1 Означающее 2
Означаемое 1 Означаемое 2
Если мы вдумаемся в эту схему, то поймем, как строится энантиосемия[14] архаической рациональности, являющаяся предельным случаем синкреты[15] (об этом тоже подробно рассуждает Колесов). Энантиосемия предполагает сочетания в одном и том же означающем отсылок к двум противоположным (с точки зрения симметрии) означаемым. Колесов показывает, что корень «ин» в древнеславянском был как раз такой энантиосемией, разложившейся позднее на противоположные понятия — «этот» (откуда «единый») и «иной» («другой», «не этот»). Каждая эквиполентная пара осознается именно как связанная между собой и отличается от другой эквиполентной пары наличием этой связи. В предельном случае эта внутренняя связь настолько сильна, что возможна перестановка означаемых, т. е. энантиосемия.
Еще одна особенность архаической рациональности: это отсутствие строго выделенного субъекта в предложении, и как следствие — отсутствие прилагательных как частей речи и двусмысленность управления. Примеры таких форм сохранились до нашего времени в языке. «Светает». «Смеркалось». «Темнеет». Такие формы описывают процессы, состояния и действия при отсутствии актора или действующего лица, что создает объемную картину живой реальности, где субъектность разлита во всем, еще не стянута к точке и не противопоставлена внешнему миру. «Светает» — это особое состояние-делание самой жизни, которая пронизывает и наблюдающего, и сообщающего, и все остальное, омываемое всеобщей силой рассеянного бытия, замкнутого само на себя, т. к. «темнеет» видится и передается не как «умаление света», но как «наступление тьмы», т. е. приход иной бытийной сущности, пронизывающей и наблюдателя/повествователя и все вокруг влажной нежностью онтологического мрака.
Еще одна черта архаического языка — отсутствие повелительного наклонения. Переводы этих форм составляли большие трудности в силу их отсутствия в древнеславянском языке. Императив предполагает ярко выделенную субъектность того, кто отдает приказания. А такого не было даже отдаленно. Нельзя сказать тому, что «темнеет», чтобы оно «темнело» — «темней!» (такой формы нет). Выход был найден с помощью модальности. Вместо приказа — пожелание, просьба, осторожная надежда, что выйдет именно так. Эта модальность действия широко развита в русском языке, причем изначальные формы именно мягкие, желательно-просительные, из которых только постепенно развивается долженствование.
У архаической рациональности эквиполентность распространяется на все, в том числе и на категорию времени. В древнеславянском языке, согласно Колесову, мы встречаем только прошлое и настоящее время. Прошлое представляет собой, в целом, закрытое, содержательное и насыщенное. Настоящее — открытое, неопределенное, незаконченное. Это снова типичная эквиполентность: оба времени есть, но по-разному. Прошлое есть, поскольку его содержание известно. Настоящее есть как пронзительное ощущение наличия. Вместе они составляют структуру архаического времени — времени/верчения, где прошлое постоянно обменивается с настоящим своей содержательностью, а настоящее актуализирует прошлое через содержательность наблюдений и действий. Пиком этой диалектической энантиосемической игры является речь, в которой в настоящем проговаривается прошлое, откуда и понятие «рок», «судьба», а «рiк» в украинском означает «год».
Речь есть воспроизводство вращения колеса времени, поэтому она есть нечто сакральное, миф, чарующий нарратив, басня, т. е. то, с помощью чего можно «обаять», околдовать, поместив внутрь игры эквиполентности прошлое/настоящее. Эта игра замкнута, т. к. время вращается сезонами и сутками, повторяя то, что было, актуализуя это, придавая содержательность настоящему, а прошлое снова делая реальным и ощутимым. В таком времени нет накопления и нет события, есть только баюкающая экстатическая игра.
Как и в случае императивности, будущее заменялось модальностью, причем вначале мягкой и просительно-ожидательной, позднее волящей. В любом случае это условное будущее есть не что иное, как модальное измерение настоящего, намерение, интенция, включенная в живое переживание здесь и теперь. Будущее — это модальное измерение настоящего, его аспект, его рефлексия.
Собственно, будущее как таковое появляется только на следующем этапе и поначалу представляет собой либо обособившееся дополнение к настоящему в его волевой, модальной функции, либо четко фиксированный возврат в прошлое (пророческое время, реставрация).
В первом случае, правило эквиполентности нарушается тем, что настоящее изменяет своей открытости и непредопределенности, делающей его пронзительным. Тем самым настоящее омертвляется, окостеневает, становится рутинным воспроизводством одного и того же. Во втором случае, напротив, прошлое настолько актуализируется, что утрачивает свою содержательность и внятность. Будущее время — в любом случае искаженное время, время болезненное и даже извращенное. Апелляции к нему и его грамматическое оформление (довольно позднее у русских) свидетельствует об утрате искусства эквиполентной диалектики, остывание потока жизни.
Колесов совершенно справедливо указывает на то, что еще в XVII веке русские староверы сохраняли чуткость к употреблению будущего времени и возмущались никонианской заменой в «Символе Веры» выражения «Его же царствию несть конца» на «Его же царствию не будет конца». По смыслу разница не велика, но вопрос в том, что форму «будет» чуткое русское ухо понимало как оскорбление, как навязчивую патологию, нарушающую эквиполент-ность священных слов, где все выстроено в настоящем времени («верую», «исповедую», «чаю», и «несть конца», а остальные отсылки к временным актам даны через аорист («Им же вся быша» или субстантивы — «рожденна», «не сотворена», «страдавша», «погребенна», «глаголившаго», а «будущий» век — это не век, который наступит, а тот, который по настоящему «есть»).
Русский ноктюрн
Отсылки к энантиосемии и интегрирующий характер эквиполентной рациональности, неоднократно подчеркиваемые В.В. Колесовым в структуре архаического русского языка, отсылают нас к риторическим фигурам эвфемизма и одной из наиболее радикальных его форм антифразе, к высказыванию, где вещи называются противоположным образом. Кстати, таким приемом пользовался иранский поэт Хафиз Ширази, называвший отрицательных персонажей своих газелей «святыми», «пророками», «ангелами», а положительных — «нищими», «бродягами», «негодяями», «пьяницами», «разбойниками» и т. д. Антифразу мы видим и в некоторых русских словах, ставших широко распространенными. Например, слово «больной» происходит от корня «болий», «большой», что раньше означало не только размер, возраст или статус, но и наличие физического здоровья. Таким образом, «больного» называли не тем, кем он был, но противоположным именем, с одной стороны, обходя молчанием тревожные и зловещие имена реальных болезней (трясовиц, огневиц и т. д.), а с другой — призывая выздоровление по методам натуральной магии аналогий.
Эквиполентные пары в целом сопрягаются в эвфемистические комплексы уже фактом своего противопоставления другим эквиполентным парам, своим тяготением к полноте и общностью онтологии — как таксономиче-ской, так и содержательной (ведь оба полюса такой пары — есть, наделены бытием). Энантиосемия выражает это в полной мере, а синкрета — частично. Но именно эквиполентность показывает наглядно, как устроена архаическая рациональность древних славян: в ней все тяготеет к «совпадению противоположностей», coincidentia oppositorum, к склеиванию пар в синкреты и диалектическому оперированию с ними.
Это приоритетное использование эвфемизма связывается в социологии глубин Ж. Дюрана[16] с особым режимом бессознательного — мистическим ноктюрном. Именно для него характерно отношение к восприятию мира как к непрерывно склеиваемым парам, как к преодолению различий в изготовлении новых и новых синкрет и энантиосемий. Самое главное в режиме мистического ноктюрна — это ликвидировать появление таких радикальных оппозиций, которые строились бы на необратимом и жестком разрыве, порождая тем самым дискретности, окончательно выпавшие из всепримиряющей целостности, из мира (в древнеславянском понимании корня «мира» как общины заложен тот же смысл, что и во втором, сегодня отделившемся, омониме «мир» как покой или отсутствие войны, а если учесть третий омоним «мир» как Вселенная, космос, то мы получаем не нечто искусственное, но как раз изначальную синкрету, описывающую как нельзя лучше разные оттенки режима мистического ноктюрна[17]).
Это сближение эквиполентного уровня языка/рациональности с работой режима мистического ноктюрна в бессознательном чрезвычайно значимо для более глубокого понимания архаического дохристианского мировоззрения наших предков. А учитывая резидуальную устойчивость этой семантической системы вплоть до настоящего времени, на что постоянно обращает внимание Колесов, это становится важнейшим ключом при структурном анализе русского общества.
Градуальность: тринитарные системы языка
По В.В. Колесову, эквиполентный слой является базовым уровнем архаи-ческой рациональности, на который и наложился перевод греко-христианских священных текстов, породивший церковнославянский. Теперь мы уже имеем некоторое предварительное представление о структуре этого перевода: у нас есть два языка: греческий византийский язык IX века, от которого отталкивались Кирилл и Мефодий, и эквиполентный архаический язык древних славян. Каждому из этих языков соответствовала самостоятельная структура. И здесь чрезвычайно важно, что греческий язык, который послужил парадигмой для языка первых письменных памятников славянства, в течение тысячи лет подвергался усиленной философской рефлексии грамматиков и систематизаторов, строивших на нем свои отточенные рациональные системы. Филология, лингвистика и философия свободно переходили от одной сферы в другую в массиве греческой семантики. В этом процессе огромное влияние оказали неоплатонические тексты и теории, отразившиеся как на общем строе греческого философствования, так и на структуре христианского Никейского и Халкидонского богословия, фундаментально аффектированного оригенизмом и неоплатоническими учениями каппадокийцев.
Одним словом, греческий язык Библии и богослужебных текстов, а также и святоотеческой литературы, закладывающий нормативы церковнославянского языка, был высоко отрефлектированным, структурированным и систематизированным неоплатонизмом.
Колесов считает, что в IX веке начинается медленный процесс вступления русского общества в эпоху Средневековья, что сопровождается параллельной трансформацией языка. Эта трансформация может быть описана на разных уровнях:
1) создание и развитие (с семантическими и морфологическими сдвигами) церковнославянского языка, что можно назвать процессом «перевода на славянский платонизма и аристотелизма» с параллельным конструированием искусственной терминологии;
2) влияние этого официального языка на народный язык, в целом остающийся в парадигме эквиполентности, но меняющийся под этим воздей-ствием;
3) появление смешанной формы языка политических и социальных элит, состоящего из сочетаний искусственно церковной и народной речи (язык летописей, поэтических произведений, указов, деловой переписки и т. д.).
Показательно, что Колесов считает переломным моментом в этом процессе XV век, когда на Руси широко распространяется сделанный монахом Исайей Сербом славянский перевод творений Дионисия Ареопагита, где христианский платонизм выражен в своей наиболее эксплицитной и законченной форме. По Колесову, это граница, отмечающая собой фундаментальный сдвиг ко второй рациональности, которую он называет «средневековой» (в отличие от первой рациональности — «архаической» или «языче-ской»). Весьма показательно, что мы имеем дело с огромным 600-летним периодом, в ходе которого идет постоянная и интенсивная прививка древнеславянской эквиполентной парадигме греко-платонического строя мышления. Время от Крещения Руси до XV века можно обозначить как первый период платонизации древнеславянского языка и создания собственно рус-ского языка как конструируемого в контексте христианского платонизма с постоянным излучением в толщи народных сред, инерциально тяготеющих к эквиполентной структуре языка.
Налицо смена мировоззрения, которая отныне может быть тщательно и детально осмыслена, описана и проанализирована с помощью филологиче-ских и философских методов.
Итак, средневековое русское мировоззрение. В чем состоит его суть? В.В. Колесов предлагает выделить в качестве его основополагающей черты принцип градуальности.
Градуальность, по Колесову, представляет собой тройственную модель, построенную на совершенно иных принципах, нежели эквиполентное мировоззрение. Эта градуальная, тройственная схема предельно эксплицитно выражена в «Ареопагитиках» и представляет собой неоплатоническую схему, спроецированную на язык. В некотором смысле, тот греческий византийский язык, с которого осуществлялся изначальный и конститутивный для церковнославянского перевод Библии и других христианских текстов, был именно градуальным по своей структуре. Поэтому шесть веков между принятием христианства и распространением «Ареопагитик», т. е. шесть веков бытия русского общества вместе с церковнославянским языком, постепенно входившим все глубже и глубже, можно представить себе лингвистически как инсталляцию градуальности в эквиполентную среду.
Тройственность градуальной симметрии и принципиальное отличие от эквиполентности состоит в том, что:
1) выделяются не два члена, а три;
2) члены располагаются не горизонтально, а иерархически, вертикально;
3) семантика построения трех членов градуальной триады ведет к постепенной энтропии содержания первого, верховного термина.
Здесь мы видим уже принципиальную неравнозначность трех членов градуальной конструкции. Есть главный член, он расположен вверху, и есть ступени удаления от него в условную сторону, которая конституируется самой этой симметрией.
По этой логике «зло есть умаление добра» и, значит, не существует само в себе, являясь простым недостатком добра. По этой же схеме строится и онтологическое утверждение: «небытие есть умаление бытия», не нечто противоположное ему, но самостоятельное и наделенное бытием (как свет и тьма в эквиполентных системах), и просто «бывающее бытие», бытие градуально стремящееся к недостижимому аналитически пределу.
Можно уподобить эту фигуру трем мирам платоновского «Тимея»:
мир идей (образцов) мир копий (икон), мир пространства (хоры/материи)
Колесов приводит фрагмент из довольно поздней грамматики XVI века, где эта градуальная иерархия связана со структурами русского языка[18].
|
что свято |
что посредне |
отпадшо |
|
Бог (ангел) |
человек |
беси |
|
мужской род |
средний род |
женский род |
|
единственное число |
двойственное число |
множественное число |
|
имя |
причастие |
глагол |
|
аорист |
имперфект |
перфект |
|
(он бысть) |
(он бяше) |
(он — былъ) |
Эта тройственная модель определяет многочисленные триады — такие как:
(мораль) благо – добро – зло;
(звучание) гласъ – звон – звукъ;
(освещение) свет – тень – мрак;
(таксономия) родъ – видъ – собьство;
(части колоса) стьбло – корень – зерно;
(степени сравнения) широкъ – шире – широчайший/хороший – лучшей – наилучший;
(степени иерархии) сан – чин – ряд /порода – место – должность;
(указательные местоимения) сей – той – оный.
(модальности воли) быть – хотеть – мочь / желати – волити – хотети;
(ментальные свойства) ум – разум – мысль;
(виды речи) сказати – рещи – глаголати (позднее, говорити).
Мы имеем дело с совершенно новой симметрией, нежели в случае эквиполентности. Здесь даже невозможно провести параллелей. Триадическая градуальность не просто привносит средний промежуточный термин в эквиполентную пару и меняет горизонталь на вертикаль. Это совсем иная картина мира, где бытие не разлито по всему зримому «чуюемому» пространству равномерно, но сконцентрировано в определенном центре, где пребывает в изобилии, и распространяется оттуда в разных направлениях, постепенно исчезая и растворяясь, теряя плотность и насыщенность. В эквиполентной паре бытие гарантировано любому члену и в любых положениях. Градуальность привносит нехватку, недостаток, привацию. Мир становится намного более проблематичным и тревожным.
Цикл начало/конец, жизнь/смерть, прошлое/настоящее размыкается. В мире возникает негативное измерение, разверзается некая бездна, куда стремглав падают земные реки (как в эсхатологическом видении Сократа из «Федона»). Градуальность — не смягчение архаической дуальности введением посреднического пункта, но переход к каскаду, к катарактам, к резкому дисбалансу и незамкнутым цепям.
Градуальная симметрия влияет на развитие тройственной системы сравнительных степеней — включая сравнительную и превосходную. При этом некоторые триады сохраняют следы эквиполентности, что выражается в том, что подчас сравнительные степени образуются от иных корней: плохой – хуже, хороший – лучше и т. д.
Вместе с тем появляется и будущее время, которое в такой картине становится из циклического линейным. Отныне оно не есть повторение сезонов, но священная история, начатая в раю и завершающаяся Апокалипсисом. Рай – изгнание – конец света составляют три момента линейного времени в христианской перспективе. Правда, в эту картину вторгается Рождество Христово и его Второе Пришествие. В этом проявляется милость Пресвятой Троицы. Но чтобы понять смысл Вочеловечивания Бога, надо предварительно впитать в себя всю топику линейной истории от Адама и до последних времен. А для этого надо иметь соответствующий язык. Христианство может быть изложено корректно только на градуальном языке, хотя оно и не совпадает с этим языком, являясь в его рамках чем-то дополнительным и исключительным, но оно должно иметь его в качестве своего предварительного и необходимого условия. Поэтому построение искусственного платонического языка в форме церковнославянского было необходимой стадией для подготовки русского общества к полноценной христианизации: в топике эквиполентности изложить христианскую доктрину нет никакой возможности. С чем-то аналогичным столкнулись многие христианские миссионеры у архаических племен: для проповеди христианского учения им фатально недоставало лингвистических возможностей местных языков. Впрочем, там, где проповедников это не останавливало, мы получили довольно экстравагантные, экзотические синкретизмы типа гаитянского вуду или бразильского кондомбле.
Если эквиполентность архаического языка некогда (до христианизации) существовала как единственная языково-мифологическая парадигма древнеславянской рациональности, уходящей корнями в глубины индоевропейской общности, то градуальная тринитарность так до конца и не стала основой ни языка, ни доминирующего сознания. Она оказалась этажом, надстроенным над эквиполентностью, притом что сила эквиполентных симметрий (и это прекрасно показывает Колесов) со временем не иссякала и постоянно работала на уровне русских народных масс, и особенно крестьянского населения, как параллельная интерпретационная матрица, генерирующая иные смыслы и иные формы в номинально тринитарных градуальных структурах.
В.В. Колесов справедливо пишет: «Именно то, «что посредне», для русского человека оказывается неприемлемым и в сфере нравственной жизни. Важны только крайности: червь или Бог! «Посредне» как явленность добродетели на контрасте с пороками крайностей неосуществимо в народной этике. Аристотелевская идея «золотой середины» не находит отклика в традиционной русской культуре с манихейской ее закваской»[19]. Это значит, что растянувшаяся на много столетий эллинизация и платонизация русского мышления не смогла до конца вытеснить архаическую эквиполентность и полностью заменить ее новой градуальной рациональностью. Работа Средневековья, как выясняется, далеко не закончена, и до сих пор идет в русском обществе с переменным успехом. Русская неприязнь к тому, «что посредне», метко схваченная филологом, несет в себе маркер колоссальной значимости: мы не просто не вышли до конца из Средневековья, мы в него еще как следует не вошли. И если высшим слоям Киевского общества, например, славянскому митрополиту Иллариону или первым монахам Киево-Печерской лавры, летописцам и книжникам греческая форма мысли, а также изложенная на эллинской ментальной основе христианская весть была более или менее внятна еще в XI веке, то до глубоких народных («манихейских», по выражению Колесова) масс ни сам этот строй, ни то, что на нем основано в виде православной Благой Вести, вероятно, до конца так и не дошли как следует. Поэтому-то первый заход на создание самобытной русской философии начался именно с платонизма и его осмысления русской интеллигенцией, результатом чего стала общепритягательная софиология, в которой угадывается, впрочем, глубинная работа эвфемизации, вплоть до антифразы (например, у А. Блока) и мистического ноктюрна. Попытка русских корректно осмыслить самих себя, во-первых, сделала актуальным Платона и его осмысление (что на Западе произошло давным-давно), а во-вторых, вскрыло гигантский пласт мистического ноктюрна, который дал о себе знать в коммунистическую эпоху с ее доведенной до последних пределов антифразой: «кто был ничем, тот станет всем».
Можно признать, вместе с Колесовым, что знакомство с «Ареопагитиками» в славянском переводе существенно модернизировало русскую ментальность и повлияло на структуры языка. Но едва ли это было достижением точки необратимости. Скорее всего, платоническая топика филологического эллинизма опустилась на одну ступень вглубь русского общества, в среде монашества и священства, а также высшей боярской аристократии. В результате мы получили русский XVI век, «Третий Рим» и Грозного, что является, безусловно, решительным шагом в сторону полноценной градуальной вертикальной иерархической культуры — с присущей ей эсхатологичностью, драмой и травмой от разрыва эквиполентных замкнутых петель (отсюда жестокость и насилие этой кровавой эпохи). Но и это затронуло лишь элиту. Народ продолжал жить в ином мире, поколение за поколением воспроизводя уютную логику эквиполентных мистико-ноктюрнических грез.
Драматический ноктюрн и градуальность
Заметим, что градуальность в теориях Ж. Дюрана может быть соотнесена с режимом драматического ноктюрна[20]. Этот режим воображения предполагает диалектическое снятие противоположностей, но не через антифразу, свойственную эквиполентности, а с помощью иных средств примирения противоположностей. Одной из стратегий драматического ноктюрна является акцентирование средней, промежуточной инстанции, подчеркивающей градиент перехода от одного полюса к противоположному. Таково происхождение фигуры андрогина, который представляет собой гендерную версию того, «что посредне» и играет такую большую роль в различных мифологических конструкциях.
Сам нарратив как жанр, сопряженный с постепенным развертыванием ткани произведения, т. е. собственно миф («μύθειν» по-гречески означал «рассказывать», «повествовать о чем-либо»), и есть прямое применение принципа градуальности, поскольку связки между мифами осуществляются как раз с помощью обязательной медиации, посредничества. Отсюда выделяемый В. Проппом (и подробно изученный Д. Греймасом[21] и Е. Cурио[22]) необходимый актант волшебной сказки — «помощник». Введение фигуры «помощника», «посредника», «медиатора» (варианты «спасителя» или «психопомпа») — отличительный знак тринитарной градуальности как особой структуры языка[23].
Еще одной классической фигурой драматического ноктюрна является метод дублирования, т. е. собственно механизм репрезентации и, в частности, кантовская репродукции в суждении фигур чувственной апперцепции. Отсюда стилистическая «редондантность», разнообразные плеоназмы, которыми насыщены священные и культовые тексты, мифы и сказки.
Однако признаки градуальной структуры языка в его Средневековой фазе, рассмотренные Колесовым, не включают в себя дублирование или редондантность, а также саму нарративность, кстати, развившуюся в исторических хрониках и эпических былинах как раз в эпоху русского Средневековья. Если это сопоставление драматического ноктюрна Ж. Дюрана с градуальностью корректно, то схему Колесова можно было бы развить целым рядом дополнительных и весьма важных признаков.
Привативный строй
Третий тип языка складывается в Новое время и определяется В.В. Колесовым как «привативность». Здесь мы имеем дело с современной новой симметрией мышления, соответствующей современной философской и научной картине мира. Прототипом физики Нового времени могут служить идеи древних атомистов от Левкиппа и Демокрита до Эпикура и Лукреция Карра, в Возрождение подхваченные Галилео Галилеем, позднее Гассенди, Гольбахом, и постепенно ставшие основной современного научного мировоззрения. В основании атомизма лежит представление о существовании атомов и пустоты. Эти два принципа можно взять за основу иллюстрации того, чем является привативная симметрия в языке. Она состоит из пары 1/0, утверждение/отрицание, идентичность (самотождество)/чистая негация. В философии гносеологическим центром позитивности является «понятие» — на значении и семантической эволюции этого слова в русском языке Колесов подробно останавливается.
«Сегодня, пожалуй, уже всем известно, что понятие — слово одного корня с глаголом по(н)яти «поймать, схватить, завладеть». Заметим эти деликатные скобки, в которые поставлен звук -н-. Разница между глаголами поняти и пояти существенна. Древнее форма пояти, в ней приставка и корень исконного расположения в слове. Поняти вторично, это форма могла возникнуть лишь после того, как образовались глаголы вън-яти, сън-яти, вън-иматьи, сън-имати, в которых приставки вън-, сън — исконны. В слове пон-яти наращение -н- возникло по аналогии, причем очень поздно».[24]
Колесов видит в истории слова «понятие» развернутое на столетия описание структуры рассудочного суждения в духе «Критики чистого разума» Канта.
Эквиполентная симметрия оперирует с образом — в еще нерасчлененном энантиосемическом толковании: одновременно и как прообраз и как изображение. Образ эквиполентного строя онтологичен, симметричен и горизонтален своей паре, столь же онтологичной, симметричной и горизонтальной. Здесь «понятия», как «взятия внутрь», «присвоения», «собственнического захватывания», «ассимиляции» просто не может быть, и мы остаемся на уровне кантовской «трансцендентальной эстетики».
Градуальность дает нам вначале образное понятие, затем понятийный образ, по выражению Колесова. То есть в иерархической и неравновесной тринитарной модели мы движемся от эстетики к рассудку, и, соответственно, к концепту, понятию. Эта стадия градуальности чрезвычайно важна, т. к. в ней впервые размыкается автореферентная структура эквиполентности и создаются предпосылки для того, чтобы помыслить будущую сингулярность (как свойство привативности), вообще лишенную семантически необходимой пары. Градуальность предполагает наличие на одном полюсе и стремление к избыванию, погашению, исчерпанию наличия — на другом. Но в силу постепенности тринитарных моделей и их семантической геометрии это избывание не может достичь предела, остается всегда только стремление к нему. Поэтому «отпадшо» никогда не преобразуется в нечто самостоятельное, как было в эквиполентной модели языка. Градуальность постулирует непрерывность, связность, драматическую опосредованность любых процессов. Если в эквиполентной симметрии мы имеем дело с бытием добра и зла, света и тьмы, то в градуальной симметрии тьма есть умаление света, а зло — умаление добра. В этом случае бытие тьмы (зла) утверждается по причастности (по касательной), но отрицается как что-то самостоятельное. Мир и язык становятся множеством, потоком открытых непрерывных лучей, изливающихся в периферийную, недостижимую актуально неопределенность. Эта картина эманации (апофатического) Единого детально и наглядно иллюстрирована неоплатоническими текстами (Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл, Дамаский и т. д.). Это вечный открытый мир перманентного излияния… Но вертикальность градуальных иерархий делает такой мир хрупким и травматичным (по меньшей мере с предельной устойчивостью эквиполентных структур). Пары разомкнуты, намечен путь от образа к понятию.
Луч градуальности разрывается до отрезка в эпоху Нового времени. Здесь осуществляется скачок к понятию, к философскому атомизму, который создает совершенно новую пару: это и не эквиполентность и не полюса опосредованной градуальности; это конкретное бытие сингулярной вещи, резко противопоставленное ее отрицанию, на этот раз радикальному и полностью лишенному бытия (и собственного и по причастности). Привативная оппозиция основана на позитивных точках или узлах (понятиях, атомах), окруженных границей пустоты как чистого отрицания. Добро и свет — это субстанции, чье бытие дается через их самотождество, а их пределы касаются ничто на всем своем протяжении. Каждая понятийная сингулярность может сталкиваться с любой сингулярностью с большей или меньшей степенью вероятности, но в своей структуре она не сталкивается ни с чем, ни от чего не зависит и представляет собой чистую индивидуальность, помещенную в вакуум. Новая пара — это нечто и ничто, атом и пустота. Именно такую привативную модель институционализирует Лейбниц на заре Нового времени в знаменитом вопрос: «Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?» («Почему есть нечто, а не ничто?»). Геометрия этого вопроса немыслима ни в градуальной (тринитарной), ни в эквиполентной топиках языка. Вместе с этим вопросом Лейбниц приводит к бытию философскую картину Модерна. Seiendes — это концепт, атом, субстанция, впервые вырванная не только из эквиполентной пары, но и из градуальной иерархической шкалы, и противопоставлена она очень точно именно Nichts, как по настоящему симметричной в новой топике паре. Каждый индивидуум, каждая субстанция в такой картине мира строго уникальны, отрезаны и от дедуктивной пары и от градиентной иерархической шкалы. Это делает законы логики абсолютными и радикальными и вместе с тем открывает возможность для многообразных (и даже эвристических) таксономий. Мы получаем систему вещей, чье сведение к видам и родам является не более чем инерциальной традицией, сохраняемой для удобства в уже строго номиналистской (постоккамовской) и позитивистской зонах.
Привативность впервые делает законы аристотелевской грамматики по-настоящему строгими, хотя и ведет к упрощению многих языковых форм, отмирающих в силу того, что несут на себе слишком большой груз прежних семантических топик — архаической эквиполентной и средневековой градиентной.
Приватный строй языка фиксирует такое мироздание, где аристотелевская логика наложена на демокритовскую физику. Аристотель учил о наличии в любом сущем формы и материи, а также об энтелехии и существовании естественных мест, предопределяющих природу движения. То есть его физика имела ряд характерных градиентных и даже остаточно эквиполентных черт. Но логика (да и грамматика) были построены на принципах, близких к привативной системе. В целом это и создавало средневековую картину мира, предельно наглядно отраженную в схоластике, где мы видим и инерцию эквиполентности (чаще всего либо имплицитную, либо вынесенную в особые герметические и платонические идейные течения, мистику и секты), и преобладающую тринитарную градуальность (собственно классический реализм и томизм), и зародыши будущей привативной системы (францисканцы, номиналисты и т. д.).
Привативность решает проблему Другого вполне оригинальным способом. В ней эта фигура лишается всякого содержания и самостоятельного (как в эквиполентности) и относительного, по касательной (как в градуальности). Другой есть ничто. Абсолютизация бытия сингулярного атома или концепта (в любом случае индивидуума!) конституирует его и в центре самого себя, и на периферии. За пределом его ничего нет. Это картина чистого «L’être et le néant» («Бытие и ничто») Ж.-П. Сартра. А другие? «А другие суть ад», совершенно логично уверяет Сартр. У других нет места. Чтобы быть, они должны быть теми же самыми, что и данный субъект (отсюда «трансцендентальность» разума, апперцепции и т. д. у Канта, и еще более откровенное «трансцендентальное я» в феноменологии позднего Гуссерля). Все атомы в том, что они есть, равны между собой, являются братьями, но при этом остаются абсолютно свободными, т. к. окружены непроходимой пустотой, которую Паскаль совершенно справедливо опо-знал как бездну. Если другой есть тот же самый, то значит, другого (как другого!) нет. А если другой не тот же самый, то снова его нет, т. к. собственного другого нет вообще. Отсюда социальный и этноцентрический солипсизм Модерна и современного Запада. Она заложен в самой грамматике, в самом языке.
В такой картине негативность получает свое максимальное воплощение, что Ф. Ницше опознал в явлении европейского нигилизма. «Пустыня ширится; горе тому, кто несет в себе пустыню», — писал он.
Шизоморфные структуры привативного языка
Среди режимов воображения Ж. Дюрана этой привативной модели соответствует диурн или шизоморфные структуры, которые характеризуются радикальным противопоставлением субъекта и объекта[25]. Субъект здесь по-стоянно консолидируется и становится все более и более однородным (атом, концепт, сингулярность, индивидуум, эго), а объект, напротив, все больше членится, делится, крошится и так вплоть до превращение в ничто и замены на воссозданный искусственно из дигитальных наборов конструкт, виртуальный симулякр мира. Вначале природа разлагается на мельчайшие частицы, затем рекомбинируется в виртуальной реальности.
Другой здесь осмыслен как ничто, как смерть или, по меньшей мере, как нечто, подлежащее уничтожению.
Дюран подробно описывает работу риторических фигур и символиче-ских образов диурна, воплощающихся, в первую очередь, в структуры идеально правильной нормативной речи, построенной в соответствии со всеми требованиями грамматики. Диурн абсолютно аффирмативен в отношении позитивного полюса и столь же абсолютно негативен в отношении любого не-, без- и т. д.
Если в эквиполентной паре не- указывало на другое наделенное автономным бытием и дедуктивно связанное с данным бытие (вспомним пару «клен»/«неклен»), если то же самое «не-» означало «недо» в градуальной топике, то в привативной грамматической системе «не-» автоматически вводит «ноль» как «ничто», как «бездну», как «дыру» в ткани бытия, запуская в ткань языка «ужасающую силу негатива» (Гегель).
Шизоморфный режим воображения, систематизированный Ж. Дюраном, дает нам новый взгляд на структуру привативного языкового строя, характерного для самой грамматики Модерна.
Археомодерн
Аристотелевский дух лежал и на самом искусственно созданном церковнославянском языке (через грамматику), а также воспроизводился в многочисленных пересказах — например, в переводах Иоанна Дамаския, и бесчисленных трактатах по космологии, грамматике, риторике и т. д., которые привлекает в своем исследовании В.В. Колесов. Это означает, что и древнерусский язык, и соответствующая ему культура также имели с самого начала письменного периода вкрапления зачаточной привативности.
В период X–XVII веков на официальном уровне преобладала градуальность. А начиная с Алексея Михайловича, раскола и особенно с эпохи Петра Первого русская аристократия совершила рывок модернизации и стала активно и массированно копировать западноевропейское понятийное мышление, т. е. чистую и развитую к тому времени в Европе привативность. На первых порах (да, в некотором смысле, и до конца царской эпохи — 1917 года) несоответствие привативного научного мышления Нового времени и средневековой природы русского языка решалось через активное насаждение в дворянской среде иностранных языков. Но постепенно с начала XIX века европейская концептуальность Нового времени стала настойчиво проникать сверху и в русский язык, глубоко трансформируя его естественно сложившиеся структуры. Филологи обычно датируют появление современного русского языка (русского языка эпохи Модерна) с Пушкина и отождествляют это с моментом рождения русской литературы.
Но здесь следует снова внимательнее посмотреть на тайминг соответ-ствия трансформаций русского языка в его структурных параметрах и аналогичных процессов в зоне западноевропейских языков.
То, что существует определенная асинхрония между ритмом развития западноевропейского общества и общества русского — это общее место. Это признают все. Но каковы параметры, масштабы и качественные аспе-кты этой асинхронии?
Стартом документально фиксируемой русской истории является IX век, и этот же период есть эпоха появления славянской письменности и первых установочных для всей последующей культуры переводов Библии и других христианских источников с греческого. С этого момента начинается активный и интенсивный процесс привития архаическому эквиполентному языку градуальной семантической, морфологической и синтаксической топики. В тот же период нечто подобное происходит и в Западной Европе, с той, правда, разницей, что в Греции это произошло на тысячелетие раньше, а в Риме — с отставанием от Греции на пару веков. Средневековье вытекает из Античности, но то, что для Северной Европы было принципиально новым, уже много столетий было привычным культурным состоянием для огромного ареала Средиземноморья.
В любом случае славянская культура в ее письменной форме строилась на ассимиляции градуальной неоплатонической языковой структуры, давно и полно отработанной греками и введенной ими в сам строй языка — того самого языка, который послужил образцом и матрицей для вновь создаваемого церковно-славянского. Средневековье началось на Руси в IX веке и… продолжает начинаться до нашего времени. Мы не оговорились — «не продолжается», а именно «продолжает начинаться». Оно, собственно, еще и не началось. Смысл крещения Руси на лингвистическом уровне состоял в подготовке семантического пространства, пригодного для восприятия сложной модели христианского богословия. Это требовало платоновской и аристотелевской структуры языка. В принципе, Кирилл и Мефодий это и осуществили — будучи эллинами, им это было под силу. Далее началось освоение нового языка и нового мышления расходящимися вширь и вглубь слоями русского народа. Но структура русского общества и особенности русской истории были таковы, что этот процесс затянулся на века. Эквиполентность оказалась чрезвычайно устойчивой, мистический ноктюрн режима воображения обладал таким могуществом, что легко подвергал эвфемизации любые более асимметричные системы. Инсталляция новой иерархической платониче-ской топики растянулась на века. И длится до сих пор. Более того, мы можем увидеть на разных этапах подспудные контратаки мистического ноктюрна, подрывающие вертикальность градуальных иерархий и незаметно сводящих тринитаризм к народно-богомильской эквиполентности.
То есть соотношение эквиполентности и градуальности до сих пор не прошло точку необратимости. Трансформация языка все еще идет, и на официальном уровне (надстройка) градуальность утвердилась еще в XI веке, тогда как на уровне базиса до сих пор царит эквиполентный мистический ноктюрн.
Привативный язык является в такой ситуации третьим этажом, который надстроен над градуальным, и захватывает только довольно узкий сегмент политической элиты общества. Привативная симметрия диурна, как мы видели, может возникнуть только в том случае, если мы вначале рассечем кольцо эквиполентной архаической пантонологии, а затем полностью расчленим триадические иерархии, утвердив позитивизм сингулярных индивидуумов, концептов и субстанций. Очевидно, что язык Модерна мог утвердиться в России только в элите, и только элита могла являться и является до сих пор единственным потенциальным мотором модернизации, массы же остаются предельно консервативными носителями эквиполентности и архаики. Автор назвал это явление «археомодерном», и каждый раз убеждается в каждой новой области исследования в методологической значимости этого концепта[26].
Итак, градуальность была делом русских элит, а модернизация и внедрение привативной топики — делом определенного сегмента этих элит. То есть модернизация языка на уровне базовых семантических структур затрагивала по-настоящему лишь очень узкий сегмент общества.
А чем же в таком случае являются массовые движения XX века, революции и подъем народных слоев к вершинам политической власти, т. е. то, что принято однозначно соотносить с Модерном? Это чрезвычайно трудный вопрос, и по-разному мы отвечаем на него в других наших книгах. Здесь же заметим лишь кратко, что успех марксизма, осознававшего сам себя как идеологию, которой суждено доминировать в посткапиталистических обществах, в обществах предкапиталистических (Россия, Китай, Северная Корея, Вьетнам), и напротив, полный провал в обществах капиталистических (все это вопреки прямым предсказаниям Маркса и Энгельса), позволяет допустить, что в самой марксистской идеологии были моменты, которые могли быть истолкованы в совершенно особом ключе именно архаическими обществами, использовавшими его, чтобы сбросить ярмо Средневековья и освободить архаические энергии эквиполентного миросозерцания. Так, по меньшей мере, понимали социализм (правда, не марксистский, а крестьянский) русские народники, а затем эсеры.
В этом очень важны пропорции и качественный анализ: трансформации языка в его семантических основах в русской истории затрагивали слои русского общества неравномерно и неодновременно. В Европе в процесс были включены постепенно критические для всего общества объемы простолюдинов (пиком чего стали буржуазные революции и европейский буржуазный национализм). В России за этими трансформациями следовали лишь элиты — и то с большим отставанием и существенными отклонениями. Но если даже градуальная система не утвердилась полноценно и массово, оставшись достоянием элит, то что же говорить о привативной модели, требующей фундаментальных усилий для осмысления, травматичной для ассимиляции и ориентированной на параноидальный, сверхактивный психологиче-ский тип личности. Естественно, полноценными носителями модернизации в России в такой ситуации были единицы.
И хотя наша современная наука, культура и литература, а также сам язык, его грамматика, его правила и его структуры полностью построены на принципах привативности, это остается лишь социально-филологическим фасадом, за которым стоят намного более весомые и фундаментальные архаические и средневековые интерпретационные матрицы, основанные на радикально ином режиме бессознательного. Не русский день осмысливает русскую ночь (или отрицает ее), но русская ночь перетолковывает русский день, интерпретируя солнце как «очень ярко светящую Луну». В духе эллинского культового выражения: «Дионис — это солнце ночи».
Изучение русского языка
Многоуровневый подход к семантике современного русского языка требует от нас при его изучении знакомства с основными пластами его истории. То есть для корректного понимания необходимо знать одновременно три языка — архаический, средневековый и понятийно современный. Их последовательность в отличие от европейских аналогов не является диахронической (пусть не полностью, а хотя бы в критической пропорции). А это значит, что старая семантика сохраняется и в новом языке. Следовательно, любое (!) высказывание на современном русском языке может быть (и для корректного его понимания должно быть) разложено на трех семантических плоскостях:
• на уровне глубинных народных архаических эквиполентных структур (где преобладает радикальный эвфемизм и антифраза: это ключ к выявлению иронического ядра, столь часто присутствующего в русской речи);
• на уровне градуальных иерархий (где следует искать вертикальную симметрию, онтологический полюс полноты, а также тонкую диалектику, динамическое опосредование и различных медиационных акцентов — т. е. «магического помощника» волшебной сказки);
• на уровне привативных оппозиций и понятий (что соответствует формальной структуре высказываний без учета риторических фигур).
Важно, что это герменевтическое правило касается не только литературных и художественных текстов, но и публицистики, и даже до определенной степени правовых актов и официальных указов.
Если учесть, что прививка неоплатонической иерархичности мышления вплоть до настоящего времени не смогла полностью вытеснить эквиполентность (мистический ноктюрн), т. е. диалектически «снять» его (в гегелевском смысле), то Средневековье окажется не позади нас, а впереди. В этом смысле предложение Н. Бердяева о «Новом Средневековье» окажется не реакционной ностальгией, но единственно реалистичной и социальной ответственной программой футуристической модернизации. В этом смысле изучение древнегреческого, церковнославянского языков и «Закона Божьего» могут стать важнейшим инструментом модернизации российского образования.
Но для того чтобы «снять» глубинные пласты архаики, необходимо их трезво и бесстрашно осмыслить, а значит, необходимо в них окунуться. А это безопаснее всего осуществлять посредством искусства и науки, что, впрочем, мы и пытались осуществить с конца XIX столетия в культуре Серебряного века.
А для того чтобы схватить основание культуры разрывов (западноевропейского Модерна и его привативной шизоморфности), следует шире и интенсивнее изучать европейские языки и европейскую культуру, позволяющие корректно интерпретировать матрицу симуляционного скалькированного Модерна, уже привитого в наш язык и в нашу картину мира. Из самой русской истории такая модернизация никак не вытекает, и для ее постижения нам необходимо внимательнее изучать Запад. Лишь после этого мы сможем задаться вопросом: что нам сохранять, а что нам менять? В чем укреплять идентичность, а в чем идти по пути, по которому до нас прошли другие, и надо ли нам это делать вообще?
Пока же мы отчуждены от самих себя, наш когнитивный аппарат глубоко расстроен, преобладающая картина мира и, соответственно, язык создают впечатление гнетущего делирия.
Такие книги, как великолепная серия фундаментальных трудов В.В. Колесова, помогают нам понять себя самих и приступить к фундаментальной герменевтической терапии.
Глава 2 Момент русской философии
Проблематичность философии у русских
«Русская философия»… Это выражение весьма двусмысленно. Как только мы приглядываемся внимательнее к тому, что обычно принято понимать под этим словосочетанием, то сразу замечаем несколько несообразностей:
1) русская философия появляется в русской истории очень поздно, только в XIX веке, что наводит на мысль, что русские не предрасположены к философии;
2) возникнув, через несколько десятилетий русская философия прервала свое становление и развертывание, и после 1917 года, недолго просущест-вовав по инерции в эмиграции и в СССР в маргинальных условиях, она практически полностью исчезла;
3) русская философия не сложилась в самостоятельное поле, не приобрела отчетливые черты, связность и внятность, что позволило бы выделить в ней ядро, направления, школы, преобладающую тематизацию и приоритетные методологии;
4) острой потребности в русской философии не ощущается и сегодня, даже после того, когда были сняты жесткие идеологические ограничения на оригинальную мысль; более того, о ней современное российское общество вообще не задумывается, в целом отложив область систематического мышления на отдаленную периферию своего внимания;
5) перенимая сегодня западные мотивы философствования (преимущественно философский постмодернизм), философская мысль современных русских довольно легко включается и оживает, несмотря на то, что в силу исторических обстоятельств целый ряд важнейших этапов становления западной философии в ХХ веке был полностью упущен, и, следовательно, мы по объективным причинам не можем понимать содержание ее последних серий (поскольку почти все предыдущие были пропущены). Тот факт, что почти никто не замечает этого и по видимости без проблем берется рассуждать о Делезе, Фуко или Дерриде, наводит на мысль, что здесь имеется простое «мыслеподражание», искусная симуляция процесса философствования, в которой по тем или иным причинам участвуют все «философы».
Итак, русская философия появилась поздно, не превратилась в нечто связное и системное, быстро исчезла со сцены, сегодня почти никому не интересна, а все заинтересованные лица полностью удовлетворяются грубой и пошлой имитацией западной философии. То, что осталось от «русской философии» второй половины XIX и первой четверти XX веков, сумбурно, бессвязно, случайно и, более того, непонятно и не интересно.
Ранее при анализе «русских языков» мы попытались объяснить такое положение дел, исходя из трансформации глубинных семантических структур и показывая суперпозицию одновременно трех уровней интерпретации с большой долей архаических «недорационалистических» стратегий, что, безусловно, препятствует ясному и систематическому логическому мышлению, оперирующему с философскими концептами.
Способность к наукам и неспособность к философии: «исполнительная рациональность»
Здесь нам могут возразить: но ведь рациональная современная наука, имеющая дело с логическими операциями, и особенно естественнонаучные дисциплины, русским даются достаточно легко: среди ученых с мировым именем (как математиков, химиков, физиков, так и лингвистов, филологов, искусствоведов) русские представлены весьма внушительно. Действительно, к науке мы вполне пригодны, вопрос только о способности к философии. Философия не является наукой ни гуманитарной, ни естественной. Она не является и не может ею являться потому, что сама определяет базовые парадигмы, на которых науки строятся, с аксиомами которых они оперируют и принципы которых они развивают. В области философии присутствует и оформляет себя сам Логос: здесь он обретает свои черты, конфигурирует свои первичные структуры, устанавливает базовые интеллектуальные топики, с которыми в дальнейшем, уже как с данностью, оперируют науки. Философия же эту данность наукам дает. Сами науки очень редко (или вообще никогда) способны изменить свои парадигмальные основания. Когда же это случается, ученые так или иначе обращаются к сфере философии, и то под воздействием серьезного кризиса научного метода, когда ничего другого не остается. Т. Кун называет это «научными революциями»[27], в ходе которых происходит смена парадигм. Эта смена осуществляется не на уровне науки, а на уровне философии, к которой в эти критические моменты и обращаются ученые как к последнему выходу. Сами же философы остаются постоянно сконцентрированными на этой парадигмальной проблематике, обращаясь к ней не только от случая к случаю, в момент острого кризиса (как ученые), а постоянно и неотрывно, как к главной области своих занятий. Любые научные открытия и прорывы коренятся именно в философии, где развитие и трансформации осуществляются с молниеносной скоростью по сравнению с областью наук; более того, любое, самое незначительное изменение на уровне парадигм мгновенно меняет до неузнаваемости основанные на этих парадигмах научные системы.
«Способность русских к науке и неспособность к философии» — само по себе содержательное наблюдение. Из него можно сделать вывод, что как только парадигмы нам, русским, даны, отталкиваясь от них, мы довольно легко способны вывести на их основании широкие цепочки следствий, развить, расширить и применить их на практике — причем, вполне рационально и эффективно (хотя и не всегда), достигая серьезных и значимых результатов. Но там, где эти парадигмы только оформляются, структурируются и стоят под вопросом, там, где происходит первое и глубинное обнаружение идей и складывание понятий в сердцевине рискованного и проблематичного проявления Логоса, — там мы демонстрируем свою слабость, отступаем, путаемся и бежим прочь, отделываясь невнятным бормотанием. Скорее всего, здесь речь идет о своего рода «исполнительной рациональности», «служилом типе мышления», которые доказывают свою эффективность и блеск только после получения приказа свыше — приказа, который не осмысливается, не обсуждается, не анализируется, но исполняется. Наука в сравнении с философией и есть такая «исполнительная рациональность». Но если в западном обществе между философами-правителями и учеными-исполнителями развертывается явный или имплицитный диалог (отсюда название кандидатской степени в западных странах — Philosophy Doctor, присуждаемой даже в том случае, если речь идет о защите диссертации по физике, химии или минералогии), то русские ученые суть ученые «par excellence». Философские парадигмы, лежащие в основании наук, они воспринимают как «Откровение», куда кощунственно пытаются проникнуть методами человеческого рассудка. Такое логическое мышление направлено вовне — на природу и людей, но никак не внутрь, где рождается Логос. Логос русские ученые получают уже в готовом виде, как данность, тем самым перечеркивая саму возможность философии как области, где эта данность дается. Это вполне закономерно по историко-социологическим соображениям: служилая иерархическая ментальность, ориентированная на самодержца, формировалась в России веками. Кроме того современная наука (и отчасти философия) пришли в Россию из Западной Европы в готовом виде, она не вырастала изнутри, но была импортирована и адаптирована как нечто готовое и лишь приспособленное к местным условиям. Такое приспособление для науки вполне может являться продуктивным и стимулирующим началом, но оно запирает любую возможность для философии.
Русские прекрасно владеют логикой, в том числе научной логикой, но они довольно далеки от той инстанции (и предпочитают не приближаться к ней), где эта логика рождается, учреждается, впервые получает самостоятельность от Логоса и где в тайне присутствует (или отсутствует — это еще надо выяснить) сам Логос. Поэтому мы так легко переносим самые радикальные смены правящих идеологий — от никоновских реформ до Петра Великого, от большевизма до либеральной демократии 90-х годов ХХ века. Создается впечатление, что мы просто не замечаем глубины перемен на уровне социально-философских парадигм, и как только происходит очередная революция, буднично приступаем к приспособлению к новым условиям и чест-ному служению этим условиям. Тогда становится понятным, почему мы не замечаем ни «смерти Бога» (в 1917), ни его дискретного «оживления» в конце 1980-х, когда атеизм как доминирующая идеология был незаметно упразд-нен. Это не значит, что мы вообще невнимательны к тому, что происходит в истории. Это значит, что мы невнимательны к философии самой по себе (а это значит — и к религии самой по себе, и к идеологии самой по себе и т. д.). И при этом, напротив, чрезвычайно ангажированы в процесс обустройства данности в соответствии с проектом, который никогда не воспринимается как нечто рукотворное, человеческое, в чем можно соучаствовать и на что можно влиять, но что видится как рок, fatum, сама собой разумеющаяся безальтернативная и единственно данная нам реальность, «реальность как таковая». Вместо философии мы имеем дело только с результатами философии, которые воспринимаются как то, что есть и что надо принимать в таком качестве («ничего не поделаешь, такова жизнь»). У нас нет ни малейшего подозрения, что все это искусственный конструкт, которым занимается особый тип людей — философы, планирующие, создающие и внедряющие его в жизнь. Мы рациональны в области следствий, причины представляются нам «богоданными». В такой ситуации, на самом деле, никакой философии мы ожидать не вправе.
То ли «да», то ли «нет» «русской философии»
Если говорить на уровне семантики русских языков, то она дополнительно объясняет, почему так происходит. Общее поле смыслов, как мы видели, создается из дешифровки базовых оппозиций. И хотя сами структуры языка, безусловно, меняются, — от доминации эквиполентных пар через градуальные оппозиции к преобладанию привативности, — в условиях поверхностной модернизации, да еще и с расположенным вовне ее источником, на поздних стадиях языка сохраняются прежние (градуальные и эквиполентные) типы толкования, совершенно не благоприятствующие становлению остро рационального, отточенного философского сознания. Структура Логоса, по меньшей мере, Логоса западноевропейского, тяготеет к радикальной привативности, на которой и основана аристотелевская логика и, шире, вся европейская философия в ее внутреннем зерне. На разных этапах западноевропейской философии эта привативность выражалась по-разному, но так или иначе присутствовала всегда и всегда отчетливо, образуя собой базовую топику того, что и называется «рациональностью» или «διάνοια». Рациональность имеет дело с острыми, четко различаемыми, полярными оппозициями. И чем ближе мы к самому Логосу как к центру философии, тем выше накал противоположностей, перепад уровней, обрыв между «да» и «нет», «бытием» и «ничто» и т. д.
Когда русские прикасаются к философии, они вынуждены иметь дело с глубинным корнем такой привативности — ярко выраженным режимом «диурна». Но укорененность семантических структур «ноктюрна» не просто противодействует этому (хотя и противодействует тоже, отталкивая или, как минимум, отвлекая русских от занятия философией), но подменяет глубинный уровень интерпретации Логоса и его первых структуризаций более мягкой, обтекаемой и смягченной системой объяснения[28]. Так, в самом центре философского импульса вместо «да» и «нет» возникает «то ли да, то ли нет» или совсем уже чистая антифраза «да — это нет». Если бы эта фундаментальная подмена, коренящаяся в ядре русского мышления, была отчетливо визуализирована, она могла бы стать началом поиска альтернативного Логоса, собственно русского Логоса. Но тогда необходимо было бы предварительно выяснить:
• чем является западный Логос, и четко осмыслить природу, структуру и масштаб радикально привативных оппозиций, на которых он основан, не строя в отношении его никаких иллюзий и (самое главное) не пытаясь ему автоматически подражать;
• каковы реальные пропорции основных семантических пар в базовой структуре русского мышления; в каких областях и до какой степени доминирует одна из трех его возможных моделей — эквиполентная, градуальная и привативная (которая тоже, безусловно, наличествует, но только не является ни единственной, ни преобладающей).
И только после этого решиться на утверждение самобытного философ-ского начала, отказавшись от евроцентричной (этноцентричной и колониальной) суггестии относительно универсальности западного Логоса и однозначно заняв позицию нередуцируемой множественности и несопоставимости различных типов рациональности (цивилизационный плюрализм).
Иными словами, осознав, что «русская философия», пытаясь войти на равных правах (хотя и с некоторым отставанием) в поле западной философии как в поле универсальной философии, обманывает себя и других, мы могли бы вплотную подойти к ее истинному началу. Три сформулированные ниже позиции вполне могут рассматриваться как три кардинальных условия русской философии, узловые моменты философской программы по рождению русского Логоса:
1) понять Запад и его Логос;
2) понять структуру и природу предлогической, пралогической стихии русского мышления;
3) отважиться на утверждение самобытного и в корне отличного от западного способа русского философствования.
Понять диурн «значимого другого» (Запад) — значит осмыслить структуру собственного «ноктюрна» и утвердить философское самосознание себя перед лицом другого в той пропорции и конфигурации, которые вытекают из собственной философской идентичности, утверждаемой лишь по мере осуществления предыдущих шагов на практике.
Если такой цепочки шагов не совершать, но все же упорно делать вид, что мы занимаемся именно философией, то получится «философский археомодерн»[29], который сведется:
• к полному непониманию чего-либо в западной философии вообще (т. к. структура западного Логоса останется от нас закрытой) при полной уверенности, что мы прекрасно в ней разобрались;
• к совершенному заблуждению относительно того, кто в нашем случае и как философствует, т. е. к недоступности для нас философской апперцепции, что приведет к тому, что мы будем принимать себя не за тех, кто мы есть, и думать о том, как мы думаем, совершенно не так, как мы на самом деле думаем;
• к производству чего-то своего локального при полной уверенности в участии в универсальном процессе философствования, и воспроизвод-ству чужого с искренней убежденностью в создании исключительного и оригинального.
Русский ноктюрн, саботируя структуру западного диурна, будет производить искаженные гибриды мысли, сходящие с колеи псевдофилософские стратегии, рассыпающиеся на глазах скользкие системы, мыслеподражательные многословные массивы, скрывающие глубинное недоумение относительно того, чем же мы в этот момент занимаемся… Если «да», встреченное нами в области западного Логоса, для русских легко может означать как «да», так и «нет», или «то ли да, то ли нет», если системой станет интеллектуальная миопия, не способная никогда охватить всю картину и путающаяся в деталях, раздуваемых до гигантских размеров, или упускающая из виду основные магистральные пропорции и фрэймы, то совершенно очевидно, что мы на пути создания русской философии далеко не продвинемся.
И надо признать, что до последнего времени мы имели дело именно с «философским археомодерном», поэтому общество в целом не особенно переживало и даже не особенно замечало как рождения «русской философии», так и ее гибели. Одинаково спокойно и равнодушно воспринимало оно внутренние гигантские сдвиги идеологических парадигм в России, трижды за ХХ век менявшиеся на строго противоположные, причем внезапно, без подготовки, радикально, непоследовательно и фатально.
Когда три базовых семантических режима работают одновременно, а не последовательно, и ни один из них не отрефлексирован должным образом, а зона его компетенции и, соответственно, границы с остальными зонами, не очерчены даже приблизительно, мы закономерно и гарантированно получаем то, что имеем. Было бы странно, если бы все обстояло иначе.
Другое дело — искусство, музыка, поэзия, живопись, литература, наука. В этих сферах мало кто решится упрекнуть русских в отсталости — везде, где мы имеем дело с окрестностями Логоса, а не с ним самим, мы историче-ски показывали себя прекрасно, внушительно, убедительно. Но философия, Логос? Видимо, это не наше. Или все же наше?
Попробуем разобраться с этим более основательно.
Первый урок философии: крещение Руси
Для начала выделим исторические слои, на которых мы так или иначе вступали в контакт с Логосом. Без этой ретроспективы всерьез говорить ни о русской религиозной философии ХIX века, ни о перспективах ее нового (или первого?) рождения в начале XXI века говорить бессмысленно. XIX век относится к серии заключительных этапов русской истории, которым предшествовали долгие и насыщенные века.
В зоне прямого влияния философии мы оказались с IX века н. э., когда на Русь стало проникать христианство. Важнейшим переломным моментом был перевод Библии и ряда богослужебных текстов на церковнославянский язык святыми Кириллом и Мефодием и, собственно, само создание ими этого языка на основе южно-славянского (болгарского) диалекта. Христиан-ство есть религия Логоса. Логос, Сын Божий Исус Христос, стоит в центре этого учения. Сама структура христианской религии ориентирована вертикально и строится вокруг оси Логоса, уходящего одной стороной в Небо и вечность, в область Божественного, а другим краем касающегося земного человечества (Воплощение). В этой религии изначально наличествует глубинная и прекрасно развитая богословская система, охватывающая основные узловые моменты в понимании Бога, мира, человека, времени, истории, души, общества, спасения. Греческая философия повлияла на эту богословскую систему самым радикальным образом — догмы формулировались и утверждались в высокообразованном эллинском или эллинизированном мире преимущественно в контексте платонической и неоплатонической философии. И наконец, сам язык, с которого делался перевод, был тщательно осмыслен и систематизирован греческими грамматиками, которые сами были философами и логиками — огромный вклад в лингвистику внесли лично Платон («Кратил») и Аристотель («Грамматика»). Таким образом, создавая церковно-славянский язык, славянские учителя Кирилл и Мефодий, по сути, создавали инструментарий для трансляции славянам Логоса во всех смыслах — и как знание о Боге-Слове, и как совокупность философски упорядоченного вероучения, и как грамматический, семантический, синтаксический и лексический аппарат для системного мышления. Это был первый базовый урок философии, который получили русские.
Значение этого урока трудно переоценить. В культурное поле славян-ских племен был помещен полюс интеллектуальной кристаллизации, открывавший путь к широкому постижению одновременно христианства, грече-ской культуры, философии, логического мышления (διάνοια) и собственно Логоса. Можно сказать, это было началом как христианизации и эллинизации[30] русских, так и отсчетом эпохи прямых взаимосвязей их с философским мышлением и философской культурой.
Перевод Библии и широкого массива святоотеческой литературы и примыкающих к ним разнообразных греческих текстов (как собственно философских, так и географических, исторических, космологических, юридиче-ских, медицинских и т. д.) до сих пор составляет ось, основание для русской философии и выходит на первый план всякий раз, когда мы всерьез начинаем размышлять о том, что такое русский Логос.
Благодаря христианизации русские были включены в идейный и культурный (а вместе с тем и отчасти политический) контекст византизма, где философия играла важнейшую и, можно сказать, центральную роль. Однако вызывает удивление, что никакого самостоятельного философского или богословского движения христианизация среди восточных славян не вызвала. Религия понималась прежде всего на культовом, обрядовом и этическом уровнях. Русские охотно подражали грекам, но, довольно остро ощущая свою особость, не предприняли никаких осязаемых усилий, чтобы эту особость оформить в какие-либо направления самобытной восточно-славянской философии. В IX–X веках нам дали философию (через религию, язык и культуру), мы ее восприняли, но самые центральные и внутренние ее измерения — те, где философия становится самой собой, достигает уровня саморефлексии, — мы отложили в сторону на неопределенный срок. Киевские митрополиты были практически всегда (за исключением митрополита Иллариона и еще нескольких редких случаев) греками, прибывали в окружении греков: самостоятельных славянских богословских кругов ни вокруг них, ни в монашеской среде не возникало. Русское осмысление византизма проходило на почтительном расстоянии от сути византийского Логоса, затрагивая периферийные области. И уже в этот ранний период, возможно, начинала формироваться та «исполнительная рациональность», та «служилая философия», о которых мы говорили ранее. Парадигмы были греческими и неприкосновенными. Следовательно, свобода и самобытность могли быть легитимно реализованы лишь в прикладной области, где эти парадигмы адаптировались к историческим, культурным и социальным условиям древнерусского общества.
Конечно, теоретически, это могло бы быть и не так: от огня византизма могло бы зажечься славянское философское пламя и в Киевский период, т. к. предпосылки для этого были созданы. Но этого, тем не менее, не произошло, и на то должны были быть веские основания: например, описываемая В.В. Колесовым[31] устойчивость эквиполентных семантических оппозиций в древнеславянской культуре. То есть причины того, что после прививки философии в форме византийской православной культуры на Руси не началось полноценного философского процесса, могут быть, теми же самыми, что и причины проблематичности русской философии на всех этапах русской истории вообще:
– невнятное понимание западного (в данном случае греческого) Логоса;
– отсутствие адекватной рефлексии относительно преобладающей восточно-славянской ментальности (все реформы, в том числе и Крещение Руси, шли, как правило, исключительно сверху, со стороны великих князей и боярской родовой аристократии);
– неспособность и нежелание осознать и конституировать особенность русского общества в контексте других народов (попытки этого есть у первого славянина среди Киевских митрополитов Иллариона, который в «Слове о законе и благодати» намекает на наличие у русских особой исторической миссии, но это направление после смещения Иллариона и поставления на Киевскую кафедру вновь византийского грека, опять исчезает на несколько столетий).
Итак, на первом этапе русской истории (с IX по XV века) философии или ее аналогов на Руси создано не было, хотя религиозные и культурно-лингвистические предпосылки для этого уже имелись. Постепенное освоение византийского наследия, его систематизация и новые переводы, вкупе с собственно русскими житиями святых, патериками, палеями, хронографами, апокрифами и «отреченными книгами» и т. д., в этот период продолжали готовить почву для появления собственно русской философской традиции, которая в духе того времени и с учетом религиозного контекста могла быть только православной.
Второй урок философии: «Москва – Третий Рим»
Второй момент, предполагавший возможность и вероятность появления собственно русской философской традиции, приходится на XV век, когда Русь, с одной стороны, освобождается от Орды а с другой — от пристального контроля в церковных делах со стороны Константинополя (после того, как он сам начал склоняться в Унию с Римом, а позднее пал от рук турок-османов). Московская Русь одновременно осознала себя и мощным, быстро набирающим силу самостоятельным государством, и последним оплотом православия в мире, стремительно движущимся к апостасии и приходу антихриста. Русские оказываются перед исторической необходимостью философии — для того, чтобы сформулировать ответ на новые исторические вызовы. До этого парадигмой православия, а значит священным центром местонахождения Логоса, была Византия. После Унии и последовавшим за ней падением Царьграда ситуация в корне изменилась. То, что предчувствовали первые русские христиане (в частности, митрополит Илларион Киев-ский) как особую миссию русского народа и русского царства, начинало на глазах сбываться. Москва оказалась в положении последней могущественной и свободной державы, исповедующей православие. Но поскольку в соответствии с историко-философским учением православия после отпадения Рима все христианство полностью сосредоточилось именно в православии (а «папежство» есть не что иное, как ересь), то русские обнаружили себя один на один со временем и пространством в качестве единственного полноценного православного субъекта. Это вытекало напрямую из византийского учения о симфонии властей (сочетание власти духовной и светской в рамках империи) и о роли катехона (κατέχον) (удерживающего) — как фигуры, препятствующей приходу антихриста и конечному отступлению (апостасии) и отождествлявшейся с православным императором. Соответственно, миссия катехона после падения Константинополя (и после уклонения самого Вселенского патриарха в унию, что было важнейшим символическим моментом для русского религиозного самосознания) переходила на последнее, оставшееся независимым и одновременно православным, царство — Москов-скую Русь.
В таких условиях рождается русская православная философия истории (кульминацией которой является теория псковского инока Филофея, изложенная им в ряде посланий), известная как учение о Третьем Риме. Это была именно философия, т. к. в ней в сжатом виде давалась картина исторического субъекта как носителя духовного мессианского начала, а значит, Слова, Логоса. Логос проявлялся сквозь священную историю и представал как ее содержание. Через ветхозаветных иудеев, через новозаветную церковь, через византийское православие, как ее прямое продолжение (при отпадении сухой ветви католицизма) эстафета исторической субъектности, осознанная и описанная как «богоносность» (θεοφόρησις), передается русским. Русские (как государство, народ и церковь) становятся приоритетными носителями Логоса, они отныне λογοφόροι.
Эта философия истории тесно связана с политической философией уже потому, что симфония властей и фигура катехона имеют дело со структурой государственной власти и функцией императора, царя. Поэтому выражением этой философии становится эпоха правления Ивана IV Грозного, когда великий князь Московский принимает на себя титул царя (то есть императора, василевса), и Московская Русь в сознании ее народа и политической верхушки (как минимум) становится Третьим Римом, т. е. последним эсхатологическим проявлением в истории нормативного религиозно-политического устройства, своего рода русским православным воплощением «идеального государства» (понятого в соответствии с византийской парадигмой). Иван Грозный представляет собой фигуру царя-философа, эсхатологический аналог первого христианского императора Константина, устанавливающего церковный и политический порядок в царстве как исполнение божественной воли. Так же, как и Константин, Иван Грозный составляет вопросы духовной иерархии Русской Церкви, на которые даются ответы на знаменитом Стоглавом соборе, задуманном как русский аналог Вселенских соборов.
Но тогда мы имели дело с началом христианского византийского цикла, а сейчас с его концом. Отсюда драматические, тревожные стороны эпохи правления Ивана Грозного: Третий Рим восстал непосредственно накануне последнего отступления, перед лицом приблизившегося антихриста, на пути которого стоит только православный царь (катехон), русская церковь и русский народ. В этой философии довольно мало национального эгоизма, а исторический оптимизм вообще отсутствует. Это острое ощущение того, что русским выпало лицом к лицу встретить последнее испытание и сыграть главную роль в финальной драме истории. Это эсхатологическое, апокалиптическое избранничество, поэтому и философия, оформленная в теории и реализованная в политической практике в ту эпоху, также носит ярко выраженные эсхатологические и апокалиптические черты.
Здесь мы имеем дело со вторым уроком философии, напрямую вытекающим, впрочем, из первого урока, основанным на нем. Через крещение Руси, создание церковнославянского языка и разработку соответствующего богословского и философского тезауруса, благодаря переводу священных текстов и сопутствующих фрагментов греко-византийской культуры, спустя шесть веков последовательной расширяющейся и углубляющейся христианизации русские в XV веке оказались в положении главного (а в социо-историческом смысле — единственного) носителя всей этой традиции, вбирающей в себя как ветхозаветную и новозаветную историю, так и греческую философию. Русский царь виделся продолжателем византийских монархов (морганатический брак Ивана III с Софией Палеолог, бабушкой Ивана IV), а значит, предстоятелем Рима (Византия и была прямым продолжением Рим-ской Империи и ее жители называли себя «ромеями», римлянами») и защитников вселенского христианства, которое после раскола 1054 года самими православными отождествлялось исключительно с православием. Если раньше русские были соучастниками византийского Логоса, то теперь они становились его эксклюзивными носителями; если раньше они были «одними из», но теперь превращались в «единственных наследников». Принятое наследие требовало глубинной ассимиляции и вступления в права Логоса, т. е. рождения русской философии.
Суть второго урока философии состояла в том, чтобы взять на себя полную и единоличную ответственность за усвоение первого урока. Русским предстояло сдать исторический экзамен на православную субъектность перед лицом конца времен.
Как был усвоен этот урок? Это очень трудный вопрос. Если мы внимательно присмотримся к той эпохе и к смыслу событий последующих за ней эпох — Смутного времени, первых Романовых, раскола и реформ Петра, — то обнаружим множество признаков напряженной работы духа, которая шла в русском обществе в период от Ивана III до конца царствования Ивана IV и в примыкающие к нему непосредственно годы правления Бориса Годунова (вплоть до установления на Руси Патриаршества в 1589 году). Напряженный и насыщенный спор иосифлян с нестяжателями, подъем ересей, поиск места России в истории, политическая философия Ивана Пересветова, реформы и особенно письма Грозного, а также сложенные им стихиры, его коронация в царя, деяния Стоглавого Собора, опричнина, интеллектуальные усилия рус-ского монашества, выяснение отношений между царством и священством, весь эсхатологический стиль искусства и зодчества той эпохи и, наконец, установление Патриаршества — все это фрагменты становления русской философии, напряженное освоение второго урока, воплощение его жизни. Так как мы сегодня, при нашей полной исторической и философской дезориентации, просто не знаем, чего искать в этой эпохе, то мы ничего там и не находим. Стоит только четко уяснить, что стоит в центре этого периода, осмыслить его как попытку русских освоить Логос, начать философствовать, принять на себя историческую субъектность, как мы немедленно распознаем логику, связь и когерентность этого времени, без труда усмотрим, как между собой были связаны, на первый взгляд, разрозненные и хаотические ее элементы — в богословии, политике, обществе, культуре, войне и дипломатии. Это был рывок русских к субъекту, решительный и чрезвычайно трудный, окрашенный в тревогу и кровь бросок к русскому Логосу.
Но, с другой стороны (и это тоже надо признать), мы имеем слишком мало достоверных источников, текстов, свидетельств, хроник, произведений искусства той эпохи, чтобы составить себе полную картину о том, как проходило становления русской философии. В любом случае, в полном смысле слова, эксплицитно, по всей видимости, ее до конца так и не сложилось, поскольку отсутствует некий безусловный и убедительный полюс, благодаря которому мы безо всяких колебаний могли бы ответить: вот доказательство того, что второй урок философии был полностью освоен и экзамен сдан. Такого свидетельства, по меньшей мере, в форме корпуса текстов, философского направления, богословского кружка, яркой интеллектуальной фигуры хотя бы одного выдающегося русского мыслителя той эпохи (именем которого мы могли бы ее назвать — как мы говорим об эпохе Гегеля, Ницше, Хайдеггера, или Декарта и Ньютона), нет.
И кроме того, все дело усугубляется еще и тем, что в последующие эпохи по разным причинам это важнейшее в русской истории время и ее главные герои, процессы и события многократно интерпретировались столь пристрастно и искажались столь настойчиво, что исторический материал (который как таковой не существует сам по себе, вне интерпретации) Москов-ской Руси находится в ужасающем состоянии. Его осмысление и в эпоху раскола XVII века, и в период реформ Петра, и в XVIII веке и в веке XIX, и особенно после большевистской революции в советский период, и после западнических либерально-демократических преобразований 90-х годов ХХ века накладывало всякий раз трактовки и оценки правящих идеологий, которые, сами будучи противоречивыми и конфликтующими между собой, в равной мере были чужды и даже враждебны исторической философии Москвы — Третьего Рима. Это привело к тому, что одна карикатура накладывалась на другую до такой степени, что сегодня рассмотреть оригинал сквозь наложение слоев намеренной и идеологически мотивированной лжи представляется почти невозможным. Есть только три исключения из этого правила:
• старообрядческие круги, видевшие в Московской Руси конкретный исторический идеал (Святую Русь);
• славянофилы XIX века, полагавшие, что реформы Петра и западничество разрушили красоту и гармонию древнерусского народного уклада;
• евразийцы ХХ-XXI веков, продолжающие эстафету славянофилов и настаивающие на «евразийском» характере этого периода русской истории, на смену которому пришло «романо-германское иго» и отчуждение России от своих духовных и культурных корней[32].
Но вес этих духовных и интеллектуальных сред в общем контексте русской и советской культуры с XIX века никогда не был решающим, а в некоторые периоды вообще сходил на нет. Поэтому преобладающей точкой зрения осталось, в целом, обобщенно негативное и карикатурное толкование.
Поэтому вопрос и является чрезвычайно трудным и требующим тщательного и выверенного изучения. На него пока просто нет ответа.
Здесь можно было бы только сделать одно предположение. Второй урок философии русские получили. Все историко-культурные и богословские предпосылки для его освоения были налицо. Русский Логос дал о себе знать — на сей раз недвусмысленно и однозначно. Его зов, его призыв уже нельзя было не расслышать. И совершенно очевидно, что инок Филофей, Иван III, Иван Пересветов и, самое главное, Иван Васильевич Грозный его, этот зов, вне всяких сомнений, расслышали и на него отозвались. Первый русский царь мыслил себя царем-философом, а Русь — своего рода Платонополисом, только в византийско-православной и эсхатологической форме. Опричники были задуманы как платоновские стражи (отсюда символизм песь-их голов, постоянного эпитета стражей в идеальном государстве Платона, и воспроизведение фигуры воина-монаха, тамплиера, — откуда странные обряды опричнины, иерархия, повторяющая церковные чины и т. д.).
Но вместе с тем присущий Логосу радикализм, доминация привативных (эксклюзивных) связей, жесткая дифференциация — одним словом, элементы режима «диурна», безусловно наличествующие в ту эпоху, — оттенялись, а подчас и полностью поглощались мощным выбросом ноктюрнических энергий, интенсивной работой антифразы, колебаний, смысловых соскальзываний, аберраций, искривлений, материальных и телесных прорывов нижних интерпретационных этажей. Попытка родить русский Логос, схватки его рождения привели в движение все донные, материнские энергии Руси, взвывшие от боли. Кровь, телесность, ужас, насилие и ярко выраженное безумие той эпохи можно расшифровать как резонанс снизу, как пробуждение к защитной резистентной активности эквиполентных и градуальных этажей языка, мышления, которые встали стеной против попытки порвать непрерывную дрему русского бытия, попытки пробуждения к холодному, опасному, дневному и полностью мужскому миру — к миру полноценной философии.
Мы видим в ходе этого второго урока, как безусловный стук Логоса (на сей раз) изнутри русского общества, заходящего на орбиту субъектного (богоносного) исторического бытия, и отчаянное сопротивление этому со стороны еще более глубинных слоев русского начала, противящихся травме рождения и резкости подступающего света. Это мы совершенно точно фиксируем на уровне исторической феноменологии. А вот определить, каковы были пропорции этого сложнейшего и болезненного процесса, какова была его объемная и содержательная драматургия, мы пока достоверно не можем. Вероятно, это связано с тем, что мы вообще пока еще не достигли определенности относительно того, что такое русская философия, и даже возможна ли она вообще. Здесь корни отмеченной нами трудности.
Философия русского раскола
XVII век прошел под знаком осмысления идеи «Москвы — Третьего Рима». Так обстояло дело до эпохи раскола, когда мы достигаем очевидного предела этого этапа русской истории. Московская идея в этот момент расщепляется (раскалывается) на две составляющие: никоновскую (новообрядческую) и аввакумовскую (старообрядческую). Русская философия в форме историко-философского мышления о сути русской миссии и ее практиче-ского воплощения в политике Московского царства разделяется на две все более антагонистические формы.
Первая форма находит свое выражение в патриархе Никоне. Он трактует идею о миссии Руси и конце света в духе религиозно-политической эсхатологии, где горизонтом является создание «вселенской» православной империи под эгидой русского Царя, вплоть до амбициозных проектов отвоевания Константинополя у турок. Успехи Алексея Михайловича на западных рубежах и освобождение широких масс православных от католического господства интерпретируются Никоном как реализация подобных имперских эсхатологических ожиданий. Кульминацией всего должно стать прямое ни-схождение Небесного Иерусалима. Строительство под Москвой Нового Иерусалима — прямое выражение философской программы Никона. Судя по всему, сам Алексей Михайлович вполне разделяет эту программу.
Но для достижения этой цели — создания единой православной империи под державой русского царя, куда будут включены все православные народы — Никон идет на унификацию русских переводов и «книжную справу» (исправление старых текстов Библии и священных книг по греческим образцам). Это и становится камнем преткновения с партией старообрядцев. Справа делается с прицелом на православное население Украины и Беларуси, чтобы облегчить их интеграцию, а также чтобы сблизить русскую версию православного обряда с греческой, которые несколько разошлись с XV века, (в греческой церкви Иерусалимский устав вытеснил ранний Студий-ский, укоренившийся на Руси). Новогреческие книги, напечатанные в Венеции, взятые за образец при осуществлении новых переводов священных текстов; малороссийский состав «справщиков», в которых чувствовалось влияние Киевско-Могилевской академии и даже униатства; отказ от привычных древнерусских формулировок и обрядов (метания на Мариино стояние, хождение посолонь вокруг алтаря и крещальной купели и т. д.) и наконец, замена двуперстия троеперстием — все это было интерпретировано как ожидавшаяся и давно предсказанная апостасия теми представителями русской исторической философии, которые сгруппировались вокруг протопопа Авва-кума. Так из общего корня учения о «Москве — Третьем Риме» развилась альтернативная Никону консервативная и оппозиционная идейная группа старообрядцев, выступившая против книжной справы и обрядовых реформ. Староверы настаивали на том, что и особенность древнерусских текстов и незначительных отличий в уставе и порядке богослужения, и обычай креститься двумя перстами являются зримым выражением избранности Руси и богоносности русского народа в эсхатологических условиях. Старообрядцы развили учение о том, что Русь не пала в отличие от Византии и других народов, оказавшихся под властью иноверцев или еретиков («папежников»), в силу того, что строго держалась изначальных заветов христиан-ства и отвергала любые реформы (в частности, Унию). Если же теперь, следуя за Никоном, отказаться от этой позиции, это будет означать предательство Третьего Рима и, соответственно, приход антихриста. Так они и интерпретировали «никоновские новины», что и привело их постепенно к оппозиции не только Патриарху, но и царю, эти реформы поддерживавшему. Сила была на стороне Никона, и по всей стране начались жестокие преследования и казни старообрядцев. Сторонники Аввакума и других вождей старообрядчества восприняли их как подтверждение своих мрачных предчувствий и совершившийся конец «Третьего Рима». Они отказывались идти на компромисс с господствующей церковью и постепенно превратились в особую социально-религиозную группу русского населения, живущую по своим законам и в соответствии со своей философией, выдержанной в крайне пессимистических тонах: Святая Русь рухнула, ушла в небытие и живет только в памяти самих старообрядцев, сохраняющих ей преданность, а вокруг царит мерзость запустения.
Так из субъекта Московской философии в ходе раскола выявилось два новых субъекта: в «никонианстве» произошло расширение до масштабов империи, а в старообрядчестве сужение до масштабов самих старообрядче-ских согласов и течений, которые довольно быстро умножились и вступили друг с другом в ожесточенную полемику.
От никонианства через постепенную и последовательную акцентуацию светской государственной составляющей мы двигались к Петру и его реформам, где русский политический Логос все больше сближался с европейской политической философией того времени, и далее — к импорту западноевропейской философии.
Старообрядческий Логос: «все в тобi»!
В старообрядчестве же мы видим активный всплеск самостоятельного и продуктивного самобытного русского мышления, оторвавшегося от массивности религиозно-государственной мысли и открывшего путь к формированию особого русского рационализма, где личное мышление человека активно привлекалось для обоснования богословских позиций. Это происходило всегда с опорой на православную традицию, но тем не менее требовало глубокого личного опыта философского мышления, т. к. полное и заведомое доверие церковным иерархиям (тем более, что у староверов довольно быстро иссякло собственное священство) было дискредитировано всей историей никоновских реформ. Старообрядец в решении вероучительных вопросов мог опереться только на письменную традицию, мнение общины и собственный разум. Тем самым мы получили уникальный опыт философствующих русских, остающихся в контексте как первого урока философии (христианизация), так и второго (Московская идея), но интериоризировавших эти уроки в эсхатологических условиях до индивидуального и общинного уровней.
Старообрядчество представляет собой неоценимое сокровище русского Логоса, которое, однако, остается совершенно не познанным и не исследованным в силу того, что это движение было маргинализировано на всех этапах русской истории от XVII до XX века, хотя всякий раз на основании разных идеологических аргументов. Для серьезного исследования русской философии необходимо этот пробел восполнить, отдав должное старообрядческой философии как уникальному явлению. В старообрядчестве и их апокалиптическом видении мы имеем дело с одним из возможных пределов становления русской философии, когда Логос, доверенный русским на первом этапе и ставший их почти исключительным достоянием на втором, еще более сужает свои границы и соотносится лишь с маленькой общиной старообрядцев того или иного согласа, вынужденных отвечать от имени Логоса перед всем отпадшим миром. В случае наиболее радикальных беспоповских согласов (нетовцы, филипповцы, бегуны и т. д.) это приобретало самые драматические и изумительные формы философского мистицизма — вплоть до известной фразы бегунского наставника «все в тобi!», повторяющей смысл философской надписи над входом в Дельфийский оракул. Логос на сей раз проходил исторический кенозис, пройдя все этапы сужения от ветхозаветного избранного народа, через церковь Нового Завета, православную живую ветвь, Московскую Русь и вплоть до крохотной общины преследуемых бегунов, лишенных всего — дома, бумаг, денег, какого-бы то ни было социального статуса — и, наконец, вплоть до отдельного старообрядца-странника, к которому и стянулось все человечество — к его внутреннему миру, к его сердцу, содержащему бесконечное бытие царство божьего. «Все в тобi!»
Импортированный Логос Петра Великого
Если сам Патриарх Никон вдохновлялся именно Московской идеей в ее универсалистском и экспансионистском понимании, то пришедшие ему на смену после его конфликта с царем Алексеем Михайловичем и смещения с патриаршего престола грекофильские и малоросские круги были настроены вообще против любых намеков на богоизбранность Руси в любом толковании. Православие они толковали только как религию в полном отрыве от какой-то бы то ни было политической составляющей, и в таком случае Вселенский Патриарх, находившийся под политической юрисдикцией Османской Порты, превращался только в духовного главу, а значение, местных патриархов и митрополитов, в том числе и русского, существенно умалялось. На Соборе 1666–1667 годов одновременно был низложен и патриарх Никон, и подтверждены и ужесточены «клятвы» (проклятия) на старообрядцев, и весь Московский период, в том числе и деяния Стоглавого Собора как его символа, были «вменены яко не бывшие», т. е. дезавуированы. Здесь завершается Московская Русь и начинается новый этап русской истории.
Здесь же заканчивается и второй урок русской философии как мысли об историко-религиозной миссии русских как субъекта. И никоновская и аввакумовская линии были отвергнуты, и доминирующей идеологией становится секуляризм, западничество и этатизм. Симфония властей уступает место абсолютизму. Государство начинает открыто доминировать над церковью. Происходит десакрализация политики.
Кульминацией этого становятся реформы Петра Первого, который рассматривает Россию как одно из европейских государств, а не как особый и наделенный исключительной миссией субъект мировой истории. Здесь происходит разрыв с той русской философией, которая медленно зрела на Руси в течение долгих столетий — с IX по XVIII века. В этот период начинается фундаментальная реформа языка, мышления, религии, политики, культуры, искусства, быта, обрядов, традиций, образования, нравов и т. д. Меняется вся парадигма русского общества. Это время начала русского западничества, т. е. импорта западной философии, западного Логоса. Для самого Петра и его сподвижников это копирование Запада мыслится как начало Новой России, причем почти с чистого листа. Новая парадигма воссоздает не только будущее, но и прошлое. Для этого в Россию Петром и его последователями завозятся европейские (преимущественно немецкие — например, Г. Миллер) ученые, историки, математики, филологи, которые по привычным для них западным образцам конструируют логику русской истории. В церковной сфере византизм упраздняется окончательно: отменяется патриаршество, преобладающими моделями церковной экзегетики становятся уже не просто новогреческие комментаторы, но криптокатолики (линия Стефана Яворского) или криптопротестанты (Феофан Прокопович), т. е. западничество[33] начинает доминировать и в области христианской религии и богословия.
Новая парадигма строится во европейским стандартам Нового времени, где античное наследие, общее и для западноевропейской, и для византийской ветвей христианства, получило уже с начала Средневековья совершенно иное толкование и развитие. В западной Европе через католичество, схоластику, Возрождение и протестантизм оно пришло к модерну и Новому времени — с соответствующими философскими моделями, с субъект/объектной топикой Декарта, ньютоновской механикой, научной программой покорения природы Фрэнсиса Бэкона и т. д. На Западе в Новое время эксклюзивизм Логоса, привативная модель оппозиций привели к доминации радикального рационализма на основании свойственных именно европейскому обществу культурно-исторических и социологических особенностей, тогда как в зоне распространения восточного христианства (в частности, православия) ничего подобного не сложилось. В Россию же при Петре I был импортирован именно западный тип философии — модернистский Логос Нового времени, где в центре стоял не просто разум, но человеческий разум, а все тенденции были направлены к тому, чтобы уточнить понятие человеческий разум дополнением — индивидуальный человеческий разум, что получило свое законченное выражение в философии либерализма.
Таким образом, новая парадигма России представляла собой абсолютизм, опирающийся на западноевропейскую философскую топику Нового времени. Очевидно, что при отсутствии каких бы то ни было предпосылок в самом русском обществе этот европейский модернистский Логос не мог органично прижиться и быть корректно ассимилированным русским народом при всем давлении сверху. Этому противоречили все уровни культурной реальности: инерция как византийской православной традиции, так и Московской идеи, а также ноктюрнический, избегающий жестких привативных оппозиций характер русского мышления.
Это мы называем «археомодерном»: наложением парадигмы западноевропейской современности на архаический остов русского общества, совершенно для этого не готовый, не пригодный и ничего подобного не желающий. Соответственно, импортированный Логос никакой самостоятельной философии породить не мог и не породил. В XVIII веке русские имитировали Европу, выписывали оттуда специалистов, копировали научные и интеллектуальные институции (Академия наук, Университет), но к самостоятельному мышлению все это не только не приближало, но лишь отдаляло даже предпосылки для того, чтобы получить еще один урок философии или разобраться с результатами первых двух.
Русское общество оказалось под гнетом западного Логоса, и именно это русские философы-евразийцы называли «романо-германским игом». Русские стали смотреть на себя, на свою историю, на свое прошлое, настоящее и будущее чужими (европейскими) глазами, и от этого стало накапливаться множество аберраций, недоразумений, противоречий, несходимостей, фрустраций и разрывов. Высшие европеизированные классы окончательно перестали понимать простой народ, часто говорили на другом языке или просто были завезены из Европы.
Тем не менее с этого момента русские стали знакомиться (принудительно) с западной философией, хотя органичного ее освоения или хотя бы корректного понимания ожидать в таких условиях было невозможно.
Славянофилы и рождение религиозной русской философии
Спустя сто с лишним лет после начала Петровских реформ и усиленной модернизации России в XIX веке мы сталкиваемся с первой по-настоящему значимой рефлексией относительно того, что такое русский Логос. Этот вопрос поднимают славянофилы (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин и т. д.). Они подвергают критической рефлексии интеллектуальное и культурное состояние русского общества первой половины XIX века, приходят к убеждении о противоестественности и неадекватности Петровских реформ с точки зрения цельности народного духа и вслед за немецкими романтиками предлагают строить философию, укоренную в народе и его глубинном мировоззрении. Они же обнаруживают, что под спудом формалистичной и «католико-протестантской» экзегетики официального синодального православия живет древняя духовная московско-византийская традиция с ее удивительным и многомерным богат-ством. Иными словами, славянофилы в XIX веке открывают для себя и для русского общества философию, прерванную в XVII веке. Это ставит их в оппозицию как западникам (которые видят выход в дальнейшей модернизации, европеизации и вестернизации России, т. е. в освоении западноевропейского модернистского Логоса), так и позиции официального царизма, вполне довольствующегося «археомодерном», т. е. болезненной и противоречивой смесью народной архаики с высокомерным и неглубоким западничеством почти колониальной элиты.
На интуициях славянофилов, на их призыве обратить внимание на народ и русскую старину, на Московский период и православную традицию, основана русская религиозная философия, начатая Владимиром Соловьевым и Николаем Федоровым.
Принято считать, что это и было началом русской философии. В каком-то смысле это так, но мы совершенно ничего не поймем в этом явлении, если не учтем всей предварительной истории, всей диалектики русского Логоса, той исторической и идеологической базы, с которой начинают Соловьев и Федоров. Эта база состоит из следующих пластов:
1) русское православие, церковно-славянский язык и корпус базовых религиозных текстов;
2) Московская идея и выделение русских как субъекта священной истории (народ-богоносец) в ее эсхатологическом сегменте;
3) импортированный, не прижившийся органично, но тем не менее оказавший огромное влияние на язык, культуру, формы мышления западноевропейский Логос XVIII–XIX веков;
4) славянофильская критика западничества и приглашение вернуться к историческим корням;
5) процветающий и все заполняющий собой археомодерн царизма;
6) глубокая ноктюрничность (интеллектуальный сон) русских народных масс.
При этом первые русские философы осознают, что нигде мы не имеем никакой последней и четко сформулированной версии русской философии, к которой можно было бы обратиться как к окончательной парадигме, что эту парадигму только еще предстоит создать. И они приступают к этому невероятно трудному заданию — приступают как могут. Они встают на путь рождения русского Логоса, точнее, майевтически готовятся принять его роды. Исторически момент выбран самым верным образом: чистое западничество в России захлебнулось; консервативная природа русского общества и русского государства становится очевидной; просвещение народных масс и подъем разночинцев (в определенном смысле, и Соловьев и Федоров сами разночинцы) привносят народный дух в науку и культуру; революционные тенденции в Европе и нарастание социальных противоречий в России требуют новых решений. Россия ждет чего-то принципиального, фундаментального, нового и вместе с тем изначального. Этим и попыталась стать русская религиозная философия.
Н.Ф. Федоров: материнское целое
Николай Федоров в попытке сформулировать русский Логос обращается почти открыто к области русского бессознательного, откуда он черпает свои радикальные интуиции о воскрешении мертвых предков (без помощи Бога) с опорой на новейшие инженерные изобретения, о превращении храмов в музеи, об управлении погодой и переносе с «далеких гор останков арийских предков» — т. е. о необходимости полностью восстановить в изначальном виде утраченное расчлененное целое. Вопрос о целом для Федорова, как и для славянофила Хомякова, имеет первостепенное значение. Целое он воспринимает не как целое идеи, Логоса, световой ноэтической формы форм, но как всеохватывающую материнскую тьму; это ноктюрническое целое, болеющее от своей раздробленности, стремящееся соединить все части воедино, склеить их, вобрать в себя операцией радикальной инклюзии. Это утвердительная материнская философия мистического ноктюрна, радикального эвфемизма.
Опыт попытки философствовать у Федорова чрезвычайно ценен тем, что он нащупывает само русское начало, корни русской нерасчлененности в домыслительном состоянии и пытается отрефлексировать их, придать им статус мысли. Если отделить в философии Федорова эти примордиальные интуиции, действительно вскрывающие суть русской основы, от экстравагантно и несколько нелепо толкуемого христианства и вовсе неуместных апелляций к западным философским концептам и фетишизированным техническим приборам (которые Федоров отчасти истолковывает в теургическом ключе, отчасти на ходу придумывает — например, «фото-, термо-, электроход»[34]), мы получим достоверную и красноречивую карту русского бессознательного как той матрицы, откуда предстоит появиться русскому Логосу, рождения которого сама эта матрица и хочет и страшиться, и способствует и препятствует одновременно.
В.С. Соловьев: София и Логос
Владимир Соловьев, которого многие называют «первым русским философом», идет в направлении рождения русского Логоса намного дальше. Важно, что он также чрезвычайно внимателен, как и Н. Федоров, к русскому бессознательному, которое у него постоянно прорывается (иногда упорядоченно, иногда нет, вызывая, в частности, нервные срывы и припадки экстравагантного поведения). В. Соловьев, сын видного русского историка вполне либерально западнического толка С. Соловьева, получивший прекрасное европейское образование, происходит из рода мелкого деревенского священ-ства и вполне сохраняет культурную память, свойственную человеку из народа. Поэтому В. Соловьев мыслит гораздо более упорядоченно и строго, нежели Н. Федоров, стараясь облечь свои интуиции в рациональную форму в соответствии с практиками западной философии.
В. Соловьев занимается переводами трудов Платона, и это в высшей степени показательно. Платон лежит у истоков всей западной (и не только) философии, и встреча с ним вполне может быть подлинной встречей с сами Логосом, причем в его свежей древнегреческой форме, намного более ранней, нежели точка разделения западноевропейской и восточноевропейской традиций. Кроме того, христианство так или иначе строится вокруг платонической интеллектуальной топики, и обращаясь к Платону, В. Соловьев, таким образом, движется к ядру самого православия в его философском и богословском измерениях. В. Соловьев кладет начало систематическому русскому платонизму, и в этом его величайшая заслуга. Только с переводов и осмысления Платона и комментариев к нему (а «заметками на полях Платона является вся западная философия», по замечанию Уайтхэда) может и должна начаться русская философия.
Далее, В. Соловьев изучает западную классическую (в первую очередь, немецкую) философию и довольно быстро понимает, что его в ней интересует далеко не все, но преимущественно немецкие диалектики Шеллинг и Гегель. И снова В. Соловьев делает абсолютно логичный шаг, т. к. именно эти авторы создают новую немецкую философию из сочетания общеевропей-ской христианской интеллектуальной традиции, фрагментов философии Нового времени (Декарт, Кант, Лейбниц, Фихте — и особенно Гете), глубоких мистических интуиций и народных мотивов. Немцы XIX века отстают от современности и считают, что это запаздывание надо использовать двояко: сделать интеллектуальный рывок, который поставил бы германскую мысль на высшую ступень общеевропейской философии, а с другой стороны, найти в особенном положении немцев в истории, в том числе и в факте их отставания от Модерна, глубокий исторический и метафизический смысл. Реализация этих проектов превзошла все мыслимые ожидания, и философские системы Фихте, Шеллинга и Гегеля на самом деле смогли стать настоящим и беспрецедентным философским прорывом. Кстати, и на Шеллинга и на Гегеля влияние платонизма и неоплатонизма было предопределяющим. В. Соловьев видит множество параллелей между положением русских и немцев (фактор «отставания» от Модерна) и принимает их идеи как приглашение к созданию оригинальной русской философии.
На базе глубинного изучения Платона и освоения Шеллинга и Гегеля В. Соловьев обращается к органически близкой православной традиции, которую кладет в основу своей религиозной философии. Огромное место в его размышлениях занимает историческая судьба и миссия России, которую он считает «третьей силой»[35] между унитарными (деспотическими) обществами Востока, и плюралистическими (анархическими) обществами Запада. Иными словами, Владимир Соловьев на личном уровне проходит основные уроки философии, включая важнейший «нулевой», но чрезвычайно важный уровень — постижение платонизма, первый урок — осмысление христианского богословия, второй урок — постижение смысла России в мировой истории. Далее к ним он добавляет немецкую классическую философию как наиболее созвучную русским XIX века и все это основывает на личной «генетической» укорененности в русской народной среде. С учетом того, что сама историче-ская ситуация подталкивает русский Логос к рождению, мы видим, что все объективные предпосылки для этого в лице Владимира Соловьева налицо.
Основными силовыми линиями философии В. Соловьева являются три идеи:
• учение о Софии;
• учение о всеединстве;
• учение о богочеловечестве.
Для того чтобы привести определенные параллели, можно сказать, что все они прямо или косвенно имеются у Шеллинга и составляют особенность его философии. Но Соловьев излагает и интерпретирует их весьма оригинально и самобытно, а его применение этих идей к русской истории и рус-скому обществу, так же, как и к более масштабным вселенским процессам, встречается только у него.
София: женский Логос как русский Логос
Образ Софии является квинтэссенцией мысли Владимира Соловьева. Конечно, если рассматривать контекст западноевропейской философии XIX века, то такая прямолинейная концентрация философского внимания на архаико-мистическом образе не могла не показаться странной: ведь в случае Соловьева речь шла не об исследовании Софии, например, в истории христианской традиции и мистики, но о прямом призыве мыслить о ней в качестве основного и приоритетного объекта философского внимания. Усвоение уроков Платона и отчасти русской религиозной традиции, вполне усвоенные Соловьевым, а также знакомство с философией немецкого идеализма, никак не приблизили первого русского философа даже к предварительному понимаю того, что происходит в философском пространстве Запада и какие процессы там активно развиваются. А ведь Соловьев был современником Ницше, и если не знать этого хронологического зазора, можно подумать, что их разделяют века.
Анахронизм Соловьева сразу бросается в глаза, когда он начинает говорить о Западе, где, впрочем, он неоднократно бывал и посещал философские лекции и диспуты. Может сложиться впечатление, что он представляет Запад как продолжение католического Средневековья — только с некоторыми добавлениями свободных (либо мистических, либо индивидуалистических) течений мысли. В. Соловьев не замечает Модерна, не обращает внимание не пропорции и этапы трансформации западного Логоса. Иногда можно подумать, что он грезит либо бредит. Столетия рационализма, научная картина мира, субъект/объектная топика картезианства, кантианский скепсис, позитивизм и утилитаризм, секулярность, либерализм и индивидуализм, давно уже составляющие норму западноевропейского общества, проходят мимо внимания Соловьева. Он перебирает эти явления отстраненно и мечтательно, игнорируя, что они предельно конкретно и агрессивно, безапелляционно и холодно направлены против самой возможности строить философию на мистической интуиции и тем более на прямом видении образа Святой Софии. Соловьев даже не особенно активно полемизирует с Западом, видя в нем лишь абстрактную множественность, рассеянность, которую необходимо собрать в нечто цельное и единое. Это напоминает то, как мечтательно грезит теленок, которого ведут на убой.
То, что Запад ядовит и убийственен для платонических созерцаний, то, что его Логос низвергнут до крайнего нигилизма, превращен в жестокую волю к власти и манипуляцию ценностными системами, Соловьев игнорирует. Игнорирование Модерна, безразличие к его посланиям и непонимание этого послания составляют важнейшую черту философии Соловьева. Вяло отмахиваясь от предельно серьезного вызова Запада, Соловьев мечтательно строит русский Логос вокруг фигуры Софии.
Чтобы отчетливо понять соловьевскую софиологию, необходимо учесть это игнорирование Запада. Иногда слова Соловьева, излагающего свои взгляды, можно принять за доброжелательное отношение к современности, либерализму, прогрессу, наукам и т. д. На самом деле, он совсем не смотрит в эту сторону и поэтому выносит часто наивные суждения, которые не далеко ушли от чистого делирия Николая Федорова. Соловьев не продумал Запада, не осознал исходящего от него философского импульса, не почувствовал опасности. Это приводит его к непониманию гораздо более чуткого и интуитивного Ф.М. Достоевского, а также придает его теориям характер «археомодерна». Соловьев осваивает истоки западного Логоса, платонизм и его отзвуки в более поздние эпохи. Остальное проходит мимо его внимания, он не чуток к западной истории и ее логике. Это сказывается на всей его философии. Поэтому, чтобы внятно говорить о Софии у Соловьева, надо постоянно осуществлять коррекцию его взглядов с учетом невнимания к актуальному состоянию западной мысли.
После этого необходимого пояснения можно перейти собственно к Софии. Эта фигура совершенно принципиальна для русской философии и является для нее ключом. Соловьеву она является как интуиция женственности, присущей Божественному началу. Бог открывается Соловьеву в созерцательном платоническом опыте как женщина. Если мы примем, что именно Соловьев был (как это считается) «первым русским философом», то это обстоятельство должно быть для нас фундаментальным и основным. Соловьев, как мы видели, как никто другой, готов к встрече с Логосом, готов к тому, чтобы соучаствовать в его рождении. И что же?… Соловьеву Логос открывается в виде женщины. Не физической женщины: мы знаем, что Соловьев был аскетом и умер девственником. Женщины метафизической, воплощающей в себе саму стихию философии. Соловьев всячески старается подчеркнуть, что для него речь идет не о метафоре и не о сравнении. София нечто намного большее, это сама философия, ее глубинное ядро, это то, что стоит в центре мышления. Для платоника и православного христианина таким глубинным ядром не может быть ни «cogito» Декарта, ни воля Шопенгауэра, ни субъект, ни трансцендентальный рассудок Канта, ни монада, ни абсолютное «Я» Фихте, но только вечный Бог. Но Бог в христианской догматике мыслится как фигура мужского рода — все три Лица Пресвятой Троицы упоминаются в мужском роде. Так возникает определенная коллизия между Соловьевым-философом и Соловьевым-христианином: он не может настаивать на еретических толкованиях, но не может и отказаться от интенсивного духовного и философского опыта, в процессе которого от отчетливо и с предельной контрастностью воспринимает Логос в женском обличии. Логос — мысль, София — мудрость. Логос догматически отождествляется со Вторым Лицом Троицы, Богом-Сыном, Исусом Христом. О Софии говорится в Книге Притчей Соломоновых (Гл. 8):
«Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?
Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях;
она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери:
«К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!
Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые — разуму.
Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда;
ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих, все слова уст моих справедливы; нет в них коварства и лукавства;
все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знание.
Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, нежели отборное золото;
потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею.
Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.
Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу.
У меня совет и правда; я разум, у меня сила.
Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду;
мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли.
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда;
плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра.
Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. [Когда я возвещу то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века.]
Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони;
от века я помазана, от начала, прежде бытия земли.
Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою.
Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов;
когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной.
Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны;
когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны;
когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли:
тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время;
веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими.
Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути мои!
Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него.
Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!
Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа;
а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть».
Владимир Соловьев воспринял эти библейские строки как глубокое подтверждение собственного интенсивного созерцания: Логос открывается ему как нечто предвечное и женственное одновременно. Выражение «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони», по всей видимости, обосновывает правомочность такого подхода без прямого противоречия с христианским вероучением. Соловьев, в отличие от продолжавших его софиологию отцов Павла Флоренского и Сергия Булгакова, не стал развивать богословские аргументы относительно правомочности фигуры Софии как женского аспекта вечности, как предвечного замысла Божьего о мире — о природе и человеке. Для него достаточно было того, что такая мысль возможна в рамках христианства, и пример средневековых католических мистиков (таких, как Генрих Сузо), а позже протестантских богословов (таких, как Яков Беме или Франц Баадер, строивших свои учения вокруг фигуры святой Софии), был подтверждением легитимности воззрений самого В. Соловьева.
Тот факт, что русский Логос открылся Соловьеву в образе женщины, имеет колоссальное значение. Здесь Соловьев предельно честен и прозрачен, как подобает быть философскому пророку: он старается передать все как есть, все как он видит, а не то, как он думает или комбинаторно складывает в своем мышлении. И он свидетельствует: вижу женский Логос.
Это принципиальное свидетельство можно толковать с самых разных сторон. Но до этого его надо принять как абсолютную аксиому. Русский Логос если и есть, если и может быть, то это будет женский Логос, София. Это не произвол отдельного мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева, не результат его субъективных психологических переживаний и специфических состояний: это фундационный факт, на нем основывается русская философия.
Сразу можно сделать несколько замечаний (предположений).
1. Русский Логос не является мужским. Западноевропейский Логос, напротив, является радикально и жестко мужским. Следовательно, русский Логос должен иметь иную структуру, нежели западный, а русская философия должна представлять собой нечто совершенно оригинальное и самобытное.
2. Возможно, Логос как София еще не есть Логос в полном смысле, а только процесс его рождения. Это еще не нечто, полностью оторвавшееся от материнской матрицы дофилософского мышления, но то, что находится в промежуточном состоянии. Это не столько настоящее рождение, сколько предвосхищение рождения, родовые схватки. Или иначе: это процесс рождения, видимый со стороны матери.
3. Суммируя оба положения, получаем: особость русского Логоса в том, что он иначе конфигурирует единство и различие, т. е. разделяет, не разделяя.
Если эти три положения в достаточной степени отрефлексированы, взвешены и учтены, мы, на самом деле, находимся вместе с В. Соловьевым в точке рождения русской философии. Если бы не археомодерн и не игнорирование сущности современной Соловьеву западноевропейской философии, ее онто-исторического (seynsgeschichtlische) момента, то так бы оно и было.
Женский Логос по своей структуре иначе трактует все оппозиции, нежели Логос мужской. С радикально мужской точки зрения (привативная оппозиция), Бог и мир жестко раздельны, у них разные природы. Бог есть, а мир создан Им из ничто. И никогда и ни при каких обстоятельствах одно не может по природе перейти в другое. Разрыв природ — догматическая основа монотеизма. София есть нечто божественное. Она вечна, она есть до мира и после него. Значит ее природа относится к Богу. Но она есть замысел Бога о мире, «Художница». Значит, она всегда и до и после мира несет в себе нечто от мира, его замысел. А раз так, то природа Софии несет в себе и замысел о земле и о человеке. Поэтому София говорит о себе: «Веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими». Когда земля и человек (мир) есть, то София и вне его (у Бога) и в нем. Когда мира (земли и человека) нет, они все же в каком-то смысле есть — в Софии. Поэтому между Богом и миром есть иная связь кроме той, что дана в Творении, Завете, Боговоплощении и Страшном Суде: это софийная связь, которая пронизывает все бытие на всех этапах, делая его не только самим собой (creatio ex nihilo), но и не собой (Софией). Это веселье Софии, парадоксальное наличие ее на всех уровнях бытия.
Софийность, таким образом, есть постулирование третьего элемента между Творцом и творением, это «вечное творение», божественный процесс, ноэтическое просветление космоса. Начиная с базового соотношения Бог–мир, Соловьев развивает тему софийности применительно и ко всем остальным уровням бытия: иногда удачно и убедительно, иногда с натяжками. Но это совсем не принципиально: намного важнее, что он основывает особую топику женского русского Логоса, описывает в самых основных чертах ее структуру, прочерчивает ее фундаментальный ноэтический философский маршрут. Софиология В. Соловьева есть, действительно, единственный точно схваченный маршрут русской философии. Это вполне осознали почти все последующие русские философы, которые обязательно так или иначе откликались на софиологические мотивы, либо прямо продолжая и развивая (С.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, и т. д.), либо глубоко и всесторонне обдумывая и учитывая их (В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, В.И. Иванов и др.).
Всеединство как разрешение противоположностей
Идея всеединства у В. Соловьева, с одной стороны, заимствуется у Шеллинга из его диалектики, а с другой, представляет собой применение прин-ципа Софии к решению проблемы единства и множественности. Шеллингианская модель связана с представлением о процессе, развертывающемся внутри Божества, что вполне созвучно интуициям самого Соловьева. Этот аспект более относится к интерпретации истории. Метафизически же все-единство является характерным ответом женского Логоса на то, как единство первоначала может соотноситься с множеством вещей мира, т. к. между единственностью Бога и множественностью его творения остро ощущается определенный диссонанс. София, снимающая напряженность между Творцом и творением в принципе, снимает и эту оппозицию между единством и множественностью. Этим снятием и является всеединство, которое мыслится не как математическое складывание всех вещей и не как утверждение строгой трансцендентности единого далекого Бога, но как особое измерение мира, в котором мы можем на опыте увидеть вечные корни временных вещей. Это все тот же вечный замысел о времени.
Диалектика всеединства призвана вскрыть софийность мира и, в частности, объединить Восток и Запад, православие и католицизм, Римского Папу и русского царя. На всеединстве основана новая наука и новая политика, новая общественная система и новая культура. Любое противоречие, любая жесткая оппозиция, любой разрыв исцеляется философией всеединства через отсылку к световой онтологии общего знаменателя, чьей эмпириче-ской реальностью является сама София.
Богочеловечество и радость Софии
Учение о Богочеловечестве у Соловьева относится к тому же самому типу размышлений. С одной стороны, это не что иное как развитие классического христианского тезиса о Боговоплощении и спасении через него человечества. В православной традиции, кроме того, в традициях отцов-каппадокийцев по-стоянно подчеркивалась симметрия: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом». Таким образом, симметричным ответом на Боговоплощение становилось «обожение», аскетическая практика движения монаха к божественной реальности. Кульминацией этого направления в восточной аскетике стало течение исихазма. Это мистическое измерение христианской монашеской практики в католицизме было периферийным или вообще отвергалось. Но в православии, в том числе и в русском старчестве, напротив, сохранилось в полном объеме и в XIX веке и сохраняется до нашего времени. Таким образом, антропология Соловьева вполне вписывается в русло православной ортодоксии.
Вместе с тем в теории Богочеловечества есть и еще один, собственно философский, аспект. Он вновь связан с фигурой Софии. Вечный замысел о мире в Боге может быть сведен к замыслу о человеке, к идее человека, которая присутствует в Боге до и после собственно творения мира. И с этой инстанцией и связан факт исторического Воплощения Исуса Христа. Хотя тварный человек конечен, смертен, грешен, ничтожен и относителен, у него есть световой двойник — вечный, бессмертный, но уже содержащий в себе свободу, которую нельзя однозначно причислить к святости или безгрешности, свойственным самому Богу. Это не допускает возможности греха в Боге, это допускает возможность потенциальной свободы в Боге, которая, став действительной, способна привести человека ко греху, но уже вне Бога. Тем не менее в самой этой свободе есть элемент двойственности. Эту двой-ственность нельзя отнести к Богу и его природе, к его Лицам. Но она может быть намечена в фигуре Софии с присущей ей структурной двойственностью и парадоксальностью. Так через Софию человеческое именно как человеческое во всем его объеме и со всей его свободой (в отношении выбора добра и зла, чистоты и падения) проникает в область вечности. Световой двойник человека — это снова сама София, дева. В этом мистерия жен-ственности: через Еву человек падает, через Пречистую и Пренепорочную Деву Марию он спасается. Падение и спасение выражают собой сущность человеческой свободы в двух ее пределах. Поэтому секрет человечности следует искать в женственности, в женщине, а не в мужчине[36].
Но если человеческое присутствует в вечной божественной Софии, то в земном человечестве присутствует софийное начало, соединяющее его с вечностью. Здесь снова можно вспомнить фрагмент из Притч Соломоновых: «и радость моя была с сынами человеческими», эта «радость» есть всегда открытая возможность для человека обратиться к божественному и бессмертному измерению, как бы параллельному его тварной и смертной природе. Богочеловечество — это человечество, увиденное в области третьей природы, в «промежуточном мире», т. е. софийное измерение антропологии.
Русская миссия – триумф Софии
Вполне в духе русских мыслителей, как славянофилов, так и представителей более ранних этапов русской истории, В. Соловьев видит Россию как страну и народ, наделенных вселенской миссией. На сей раз эта миссия состоит в учении о Святой Софии. То есть сама русская религиозная философия, основателем которой был Соловьев, и представлялась новым изданием Русской Идеи. Русская Идея есть идея о Софии.
И здесь снова можно заметить, что В. Соловьев пытается обосновать это положение весьма спорными проектами: он то ли переходит, то ли собирается перейти в католичество (об этом до сих спорят его биографы), папство полагает формой универсального христианства, к которому православие должно присоединиться на основе унии, толкует социальный прогресс как движение в сторону богочеловечества, как прогресс духовный. Он видит в Западе потенциал философского развития, а Восток представляет себе в виде плоской карикатуры (в конце жизни он увлекся теорией «желтой угрозы», исходящей из Китая и Азии). Демократию и капитализм он расценивает как позитивные тенденции, а развитием современных точных и социальных наук восхищается. Все это помещает глубокие и пронзительные интуиции о Русской Идее в путаный и противоречивый археомодернистический контекст. Конкретные проекты реализации русскими мировой вселенской миссии у него подчас наивны и даже гротескны. Но ядро его интуиции от этого не теряет своего значения: Соловьев ясно и пронзительно ощущает, что у русских есть уникальное предназначение, что оно отлично от культурных форм как Запада, так и Востока, и что оно связано с Русским Логосом, т. е. с Софией — и соответственно, с всеединством и Богочеловечеством.
Сквозь несколько запутанные формулы В. Соловьева можно увидеть его основную мысль относительно Русской Идеи: русские должны родить свой собственный Логос, в этом их предназначение и их цель. Это будет «третья сила», между Западом и Востоком, это будет открытие Софии человечеству. Русские суть носители ее Света.
Является ли философия Соловьева русским Логосом?
Подведем итог философскому жесту Владимира Соловьева. Было ли это началом русской философии в полном смысле слова? Началом было, но не в полном смысле. То, что это было началом, вытекает из предыдущего анализа: у Соловьева были предпосылки, чтобы сделать новый третий шаг в русской философии, и он эти предпосылки реализовал. Отсюда фигура Софии, женского русского Логоса, которая была обнаружена его усилиями. Эта жен-ственность многосторонне осмысливалась всей культурой русского Серебряного века, полностью предвосхищенного и направленного Соловьевым. В этом проявилась и рефлексия относительно ноктюрнической составляющей русского мышления, что принципиально важно для подлинного рождения русской философии как самобытной философии.
Однако это начало было «не в полном смысле» началом на основании следующих соображений:
1. В. Соловьеву и последующим за ним русским религиозным философам (быть может, только за исключением поздних славянофилов — К. Леонтьева и Н. Данилевского) не удалось адекватно оценить и осмыслить то состояние, в котором находился западноевропейский Логос в эпоху Модерна. Западную философию русские поспешно интерпретировали в своем особом ключе, то сбиваясь на брезжущий русский Логос, то сбиваясь на ноктюрническое перетолковывание, то некритически принимая те или иные стороны этого дискурса. В результате Соловьев не дал полноценной картины философии Запада, не понял его в должной мере, а поскольку он и его последователи были вынуждены использовать еще и термины и концепты, почерпнутые из этой философии, то это привело к предельному археомодернистскому сумбуру. Не поняв Запада и его историко-философской структуры, перейти к полноценному оформлению русского Логоса невозможно.
2. Частично по соображениям, изложенным в первом пункте, частично в силу других причин, Соловьев не смог придать своим основным и верным, глубочайшим пророческим интуициям должной языковой теоретической формы. Он не построил ни системы, ни полноценной теории, ни яркой мозаики афоризмов и замечаний, что могло бы компенсировать отсутствие цельности изложения. Он не нашел должной формы для своей философии. В том виде, в котором она изложена, она не может быть адекватно воспринята или освоена, т. к. содержит в себе слишком много аберраций и погрешностей самого разного толка. Принципиально ситуацию не исправили и другие софиологи: хотя у П. Флоренского и С. Булгакова целый ряд соловьевских интуиций получили блестящее и квалифицированное развитие, они постоянно сбивались на какую-нибудь вопиющую неадекватность, а кроме того, их священнический сан и стремление формально примирить софиологию и православную ортодоксию ставили их в затруднительное положение — практически, на грань «ереси» (так, взгляды С. Булгакова на Софию как «четвертую ипо-стась» в Боге были формально признанными несоответствующими православному учению и обличены).
3. Возможно, женская природа Русского Логоса, в свою очередь, была ответственна за то, что его рождение приобрело особый характер — он отчасти родился, а отчасти нет. Если бы он полноценно и бесповоротно родился, то: а) приобрел бы четкие и строгие формы (которых он в дей-ствительности не приобрел); б) не смог бы так легко забыться в ХХ веке (он проступил бы сквозь коммунистическую диктатуру и эмигрантский декаданс); в) был бы мужским Логосом, более похожим на тот, который возобладал на Западе (но тогда он не был бы русским).
Эти соображения подводят нас вплотную к важнейшему моменту: русская философия, начавшись в софиологии В. Соловьева, прервала свое начало в самом процессе его начинания. Русский Логос начал рождаться как София. Его предчувствовало все мыслящее русское общество. Это предчувствие было тонко и глубоко проработано и прожито в культуре Серебряного века. Серебряный век был продолжением того же длящегося рождения, начинающегося начинания русской философии. В этот насыщенный смыслами, озарениями и интуициями плодотворнейший период русской культуры длилось начало русской философии, но… точка необратимости пройдена не была. Логос уже показался из-под археомодерна, из ноктюрнической глубины русского бессознательного, русского сумеречного мышления, лучи Софии ощущались почти телесно, сопрягались с тайной Руси, с ее историей, насыщали воздух начала ХХ века предчувствием и близостью События (Ereignis). Но вместо момента настоящего рождения пришел 1917-й год, а через пять лет философский пароход увез на Запад тех, кто были ответственны за это рождение, а остальные постепенно сгинули в кровавом кошмаре революции, гражданской войны и строительства социалистического мира.
На этом трагическом аккорде завершился третий урок философии, который получила Россия. На этот раз к рождению полноценной русской философии мы подошли как никогда близко. Вплотную. Но история повернулась таким образом, что Русский Логос, почти родившийся, почти вышедший на свет, оскользнулся и снова скрылся из виду в бесконечной и охранительной утробе народного интеллектуального сна.
Бронзовый век и философская ночь
Интеллектуальный сон русских длился все советское время, когда большевики установили идеологическую плиту своеобразно истолкованного марксизма над русским обществом, ввергнув его в новые изощренно изматывающие практики археомодерна. Но на сей раз западничество было представлено в форме экстремистской версии левого гегельянства, смутно резонирующего, впрочем, с некоторыми интеллектуальными вибрациями, разбуженными русской религиозной философией. Русская стихия перетолковала марксизм в своеобразном холистско-эсхатологическом ключе, но это также не нашло никакого систематического выражения, и интуитивный национал-большевизм 1920-х и начала 1930-х годов не был оформлен в нечто целое — ни в эмиграции, ни в СССР. Попытки русских философов софиологического толка (П. Флоренский, Л. Карсавин и т. д.) или федоровцев сотрудничать с большевиками, ища компромиссов с марксизмом, успехом не увенчались. Через семьдесят лет этот интеллектуальный кошмар, не лишенный, впрочем, некоторых самобытных и даже героических моментов, исчез, не оставив никакого серьезного следа в духовной жизни народа, кроме трех поколений безнадежно загубленных для мысли ментальных инвалидов. В начале 1990-х поголовно прошедшее марксистскую подготовку население страны не могло вспомнить или применить на практике ни одного тезиса или постулата марксизма: абсолютный авторитет Маркса и Ленина без малейшего сопротивления были заменены на столь же абсолютный авторитет Адама Смита и учебника по маркетингу. Практически никто очередной радикальной смены идеологических вех на прямо противоположные в России вновь не заметил: те, кто возмущались реформами, поступали так по материальным соображениям, из консерватизма или по инерции. Марксизм исчез, как исчезает дым.
Но конец большевистской идеологической диктатуры в 90-е годы ХХ века вновь не поставил вопроса о русской философии. Он даже не освободил для этого места. Ни у кого в постсоветском обществе не возникло ощущения, что чего-то не хватает, что исчезновение коммунистической идеологии породило вакуум, и что конец преследований за свободное и не согласованное ни с кем мышление может и должен быть использован как раз для пробуждения и становления этого мышления. Как это ни странно, но ни малейшего движения в среде русской интеллигенции в этом направлении не было заметно и не заметно до сих пор. И хотя формально книги дореволюционных авторов, в том числе философов, а также произведения русской культуры Серебряного века были все досконально и в полном объеме переизданы, исторические, биографические и библиографические материалы подняты и достаточно систематизированы, никакого движения духовной жизни, никакой даже отделенной попытки вернуться к проблематике русской философии, жестоко оборванной «философскими пароходами», репрессиями в СССР и прозябанием изгнанных из страны в эмиграции, не было и нет. Легкий подъем интереса к этой проблематике в конце 1980-х полностью сошел на «нет» с началом либеральных реформ. И с этого времени этот интерес уверенно стремится к нулю.
Поэтому в философской среде мы наблюдаем сегодня следующую картину:
1. Главный фактор — тотальный ноктюрнический сон широких масс, интеллектуально двигающихся к предельно упрощенным формам мышления, сопряженным с выполнением простейших телесных функций, связанных с жизнеобеспечением и получением узкого набора примитивных эмоций и ощущений. Такое далеко нефилософское состояние народа усердно культивируется правящими политическими элитами, в свою очередь, экстремально далекими от любого намека на философ-ское мышление.
2. Сохранение в кругах образованной интеллигенции позднесоветских интеллектуальных клише, от которых за вычетом марксисткой диалектики и антикапиталистической критики остался только бытовой материализм, скептицизм в отношении духа, некритическое доверие к статус-кво и историческому процессу в целом, т. е. совершенно неотрефлексированный нигилизм, агрессивный по отношению к любой попытке задаться всерьез тем или иным философским вопросом.
3. Насаждение политическими элитами реформаторов упрощенной либеральной эрзац-идеологии, наспех скопированной с примитивных западных образцов и переплетенных с совершено неосмысленными культурными клише Постмодерна (за вычетом содержащейся в ней антибуржуазной критики). Речь идет не о заимствовании западного Логоса (который на самом Западе за столетия активной работы нигилизма превратился в пыль), но о неупорядоченном импорте его бессвязных фрагментов.
4. Ростки консервативного (религиозного, славянофильского, евразийского) сознания, пробивающиеся сквозь эту густую толщу естественно сложившейся и искусственно культивируемой бессмыслицы, пробиваются с трудом, а там, где это им удается, подвергаются нарочитой маргинализации, остракизму, замалчиванию со стороны либеральных элит, при пассивном невнимании озабоченных далеко не интеллектуальными проблемами тихо бредящих масс.
Так мы получаем интеллектуальную картину современного российского археомодерна, в котором наличие открытых возможностей для свободного философского поиска купируются отсутствием какого бы то ни было интереса к нему в критически значимой среде людей. Сегодня, как никогда, свободны горизонты для возвращения русских к философии, для осмысления того, где мы находимся в отношении Русского Логоса. Перед нами открыты источники церковно-славянского языка и все обширное духовное наследие Древней Руси. Мы можем свободно изучать исторические материалы XV–XVII веков, и никто не будет подвергать нас репрессиям, если мы выдвинем оригинальную и расходящуюся с общепринятой точку зрения на эту историческую тему (тем более, что такой общепринятой точки зрения нет, т. к. это вообще никого по большому счету в обществе не интересует). Мы можем познакомиться с наследием славянофилов, осмыслить их спор с западниками, взвесить аргументы сторон и проследить, кто оказался более точен в своем историческом анализе. Мы можем прочитать всего В. Соловьева и труды всех его последователей-софиологов. Ничто не мешает нам проработать наследие Серебряного века — как в области чистой философии, так в примыкающей к ней сфере искусства, поэзии, литературы, живописи и т. д. И наконец, нам открыта возможность восполнить пробел в знании западной философии ХХ века, особенно тех авторов и течений, которые критически относились к Модерну, оплакивали «Закат Европы» (О. Шпенглер) и искали альтернативу «кризису современного мира» (Р. Генон). Одним словом, мы имеем все перспективы зайти на четвертый виток русской философии, восстанавливая связь с предыдущими тремя уроками. Но по какой-то причине мы этого не делаем…
Русской философии сегодня не существует. У нее есть предпосылки. У нее есть базис. У нее есть предыстория. У нее есть даже почти удавшаяся попытка рождения. Во всем этом можно вполне увидеть очертания завета русской философии, контуры возможного Русского Логоса. Мы знаем, что он будет православным, платоническим, скорее всего градуальным, отличным от западного и женским. Мы знаем даже его имя — «София». И знаем, что это имя Русской Идеи и русской миссии.
Здесь остается допустить следующее: по циклам заходов на осуществление возможности русской философии и в соответствии с условной градацией культурных эпох России мы пребываем в ситуации четвертого витка возможности русской философии (четвертый урок) и в культурном пространстве Бронзового века. Но этот виток и этот век относятся к чистой потенции — нет ничего или почти ничего, что давало бы основания полагать, что мы стоим на пороге нового исторического, духовного и интеллектуального рывка. Время пробуждения показано четко, но сон, кажется, еще никогда не был так крепок и беспробуден. Мы не то что не взлетаем к Логосу, мы теряем на глазах последние признаки человечности.
Остается предположить, что разгадка кроется в словосочетании «Бронзовый век». По Гесиоду, это век героев, т. е. тех, кто идет к вечности, бессмертию и Олимпу не благодаря своему божественному рождению, а вопреки своей ограничивающей человечности, вопреки всем обстоятельствам, вопреки року. Героя не останавливает, что против него все и все. Это только его подбадривает. Он идет к своему горизонту с опорой только на центр, который находится в нем самом, а не вне его.
Если мы находимся в русском Бронзовом веке, то рождение (нас сей раз окончательное) русского Логоса есть дело героев. Сегодня философом в России может быть только герой. Тот, кто философствует, не обращая внимания на свист, храп и самовлюбленную демагогию невежд. Абсолютная тьма героя только вдохновляет. Гераклит говорил: «Когда наступает ночь, люди зажигают огонь».
Сегодня русская ночь. Философская русская ночь.
Часть 2. Человек и его Бог
Глава 3. Три теологии
Религия, религиозность, тотальность
Структуры любой религии представляют собой сложные комплексы, состоящие из многих уровней — символического, мифологического, философского, культового, обрядового, морального и т. д. Изучение этих комплексов осложнено тем, что они очень редко выступают строго маркированными пластами, расположенными точно на одном уровне или в одном секторе, а чаще всего причудливо пронизывают все структуры, подчас заходя на соседние сегменты, углубляясь в область подразумевания или, напротив, пробиваясь на поверхность, в зону рационального (официального) дискурса. Кроме того, внутри этих пластов развертывается сложная динамика, которая, хотя и не является стремительной и длится, как правило, веками и даже тысячелетиями, все же аффектирует религию в целом и ее строй. И наконец, меняются пропорции и соотношения между этими пластами в рамках одной и той же религии, что может происходить также довольно незаметно и давать о себе знать только в периоды радикальных религиозных реформ или иных трансформаций, подготавливаемых, впрочем, заранее без того, чтобы эту внутреннюю работу можно было бы заметить. Здесь вполне применимы те рассуждения о «циклах большой длительности» (la longue duree), на которых построены исторические концепции Ф. Броделя и в целом школы анналов.
Но при этом религиозный комплекс чрезвычайно сложен, и по определению включает в себя фундаментальные метафизические, философские, мифологические и психологические составляющие, без тщательного изучения которых одни только социокультурные и историко-социологические реконструкции будут неполными и редукционистскими. Религии являются «тотальными явлениями» и их вполне можно рассмотреть как имплицирующие матрицы социальности. Это предполагает, что нам следует при их изучении перевернуть пропорции социологии Дюркгейма и его школы, истолковывающие религии через общества и признающие «тотальными» социальные факты (М. Мосс). В каком-то смысле социология, начиная с О. Конта, сама претендовала на роль «секулярной религии», а, следовательно, стремилась свести к своему методу и к себе самой множество изучаемых ею феноменов, в том числе и религии. Это было весьма в духе времени (конец XIX — начало XX веков) и, соответственно, вполне оправдано структурой исторического состояния научных знаний. Релятивизация Модерна и его парадигм в последние десятилетия XX века и в наше время позволяет нам обращаться с социологией более свободно, и, заимствуя ее колоссальный интерпретационный и герменевтический потенциал, использовать его в новых комплексных контекстах. В некотором смысле это будет развитием любезного приглашения Эдгара Морена к изучению комплексных явлений комплексными методами.
Иными словами, при изучении религии мы можем рассмотреть ее как базовую структуру, порождающую многообразные формы, т. е. как фундаментальный язык, предшествующий любому дискурсу. В таком случае само общество откроется нам как явление религиозное, что является эксплицитным в случаях общества традиционного, но имплицитным в случаях общества современного и постсовременного. Религия как форма безусловно отрицается в качестве матрицы социальных нормативов в Модерне. Но это порождает, в свою очередь, контр-религию, выражающуюся в нормативизме секулярности, атеизма и идеологии «прав человека», обретающих статус принудительного императива, воплощенного в юридические корпусы, педагогику и информационный ценз почти с такой же строгостью, как религиозные догматы в традиционном обществе. Контр-религия секулярности и религия в обычном смысле этого слова проистекают из более глубоких структур, слабо поддающихся рефлексии и ускользающих от прямолинейного внимания, которые допустимо назвать «религиозностью». Это можно представить следующей схемой:
Эти предварительные замечания необходимы нам для того, чтобы точнее описать методику нашего анализа «трех теологий». Без этих пояснений особенности нашего подхода были бы не столь прозрачны.
Сакральное как базис и теология как надстройка
В данной работе мы не станем исследовать крайне интересную саму по себе тему «контр-религии» и ее соотношения со структурным уровнем «религиозности», надеясь вернуться к ней в другой раз в отдельном тексте. Пока же сосредоточимся только на соотношении «религиозности» и «религии как формы» в контексте традиционных обществ, где религии носят эксплицитный характер и открыто предопределяют доминирующий дискурс. Но при наличии различения двух вертикальных зон в рамках общей топики, мы сразу же наглядно видим, что имеем дело с комплексным явлением, с определенной диалектикой формального/предформального или осознанного/неосознанного в структуре общего религиозного комплекса.
Таким образом, схема, с которой мы станем сейчас работать, будет выглядеть следующим образом:
Даже такое, редукционистское само по себе, схематизирование этих двух срезов оказывается необозримым для работы того масштаба, который нас интересует в данном случае, поэтому (с необходимостью жертвуя полнотой «плотного описания», «thick description», если использовать термин американского антрополога К. Гирца) мы вынуждены еще более упростить рабочую модель и найти для двух этажей нашей топики обобщающие понятия. В качестве таковых предлагается взять два термина: «сакральное» для базиса и «теология» для надстройки.
Под «сакральным» мы понимаем, вслед за Р. Отто и М. Элиаде, базовый опыт ужаса/восхищения, возникающий на глубинных этажах человеческой психики и еще нерасчленимый на конкретные фигуры, чувства, ощущения, образы и символы. К. Г. Юнг называет это «нуминозностью» как ядром «коллективного бессознательного». В социологическом ключе мы в другой работе («Этносоциология») идентифицируем это с наиболее архаическими типами общества и с уровнем этнической идентичности. Более подробно мы рассматриваем это с точки зрения социологии воображения и режимов бессознательного в отдельной книге, построенной на развитии концепций и подходов Ж. Дюрана.
Под «теологией», в свою очередь, мы понимаем рациональное (философское) оформление базового импульса сакрального, поднимающегося из бессознательных глубин к зоне интеллекта. Теология предполагает наличие Логоса, упорядочивающего структуры сакрального в систему — символиче-скую, мифологическую, обрядовую, юридическую, социальную и т. д. В отличие от других форм развития рационального мышления теология (в нашем понимании) сосредоточена на том, чтобы приоритетно упорядочивать именно сферу сакрального, оперировать с продуктами сакрального, а не чего-то еще. Теология связана именно с сакральным и взаимодействует с его содержанием и его эмпирической базой, черпая оттуда достоверность, наглядность и свой основной предмет.
Сразу следует заметить, что сакральное может существовать в некоторых обществах и без теологии, представляя собой автономное явление, не восходящее к уровням теологических конструкций. Таковы некоторые архаические племена, у которых наличествуют сакральные структуры, но отсутствуют какие бы то ни было их систематизации и рефлексии. Такие общества чрезвычайно редки. Показательно, что классик современного религиоведения Мирча Элиаде на протяжении своей научной деятельности постоянно тяготел к исследованию именно таких обществ: начав с исследований духовных традиций с развитыми теологическими системами (индуизм, буддизм), он закончил австралийскими аборигенами, культам которых посвящена его последняя книга. Кстати, тем же австралийским аборигенам посвящена и последняя работа Э. Дюркгейма. Однако сегодня антропологи доказали, что существуют и еще более архаические комплексы, где сакральное не оформлено даже в рудиментарных мифологиях и примитивных культах: например, южно-американское индейское племя «пирахан», изучавшееся Д. Эвереттом.
Структуры сакрального и культы Великой Матери
Поэтому одной из самых сложных задач при исследовании структур сакрального является их отделение от зачаточных рационализаций, присущих даже вполне архаическим культурам.
Ближе всего к этим структурам стоят не столько мифы, сколько мифемы — отдельные элементы, наделенные в архаических обществах свойством выделенности, обособленности. Чем более разрозненными и бессвязными являются группы таких мифем, чем меньше они сопряжены в рациональные системы или таксономии, тем прозрачнее они выражают структуру сакрального.
Тем не менее даже у самых архаических обществ спонтанные проявления сакрального все же группируются между собой в определенные серии. И анализ этих серий позволяет прояснить сакральные структуры.
Наиболее частым случаем первичного оформления сакрального являются культы Великой Матери или религиозность Земли. Психоаналитики легко нашли бы прямые соответствия с перинатальной стадией созревания плода, испытывающего в материнской утробе такую степень комфорта, которая недостижима после появления младенца на свет и остается устойчивой ностальгией на всех последующих этапах. Отсюда валоризация regressum ad uterus, свойственная многим матриархальным культам и в целом преобладающему сценарию инициаций в самых разных религиях (в том числе и вполне развитых). Ж. Дюран называет это режимом «мистического ноктюрна», когда работа бессознательного организована по принципу антифразы, полного примирения противоположностей, снятия всех оппозиций, растворения вещей и предметов, выделенных при свете дня (и только поэтому опасных, тревожных и несущих угрозу разрыва), в стихии убаюкивающей и сытой материнской ночи.
Великая Мать представляет собой тело сакрального, его субстанциальное выражение, где психика касается своего глубинного дна, мягко погружаясь в едва шевелящийся ил души.
Великая Мать нуминозна в тот момент, когда она снимает напряжение жизни, и тем самым ноктюрническая сакральность разливается свободно и беспрепятственно. Здесь сакральное представляет собой максимум релаксации, вбирающий в себя экстатическую агонию смерти. Это растворение в протожизни, в ее дооформленной стихии, строго совпадающей со стихией смерти. Архаическая сакральность не знает дуализма жизнь/смерть, который заведомо снимается нуминозностью Великой Матери, культ которой отметает саму предпосылку развития дуалистических пар и основанных на ней таксономий. Любая назревающая оппозиция немедленно и часто превентивно (то есть еще до ее появления) снимается умиротворяющим блаженным парадоксом антифразы.
Самое важное здесь — это отсутствие фигуры Другого, мгновенное снятие малейшего поползновения ее оформления. Сакральность Великой Матери проявляет себя через снятие Другого, через недопущение Другого в самом дальнем приближении. Но поскольку способность к различению характерна не только для людей, даже самых примитивных, но и для животных и, кроме того, для растений и минералов, то вся ткань жизни наполнена угрожающими процессами, способными обострить отношения между различаемыми парами и, соответственно, конституировать Другого. Против этой дифференциации и направлена интегрирующая работа всематеринской земной сакральности, распыляющей противоположности сразу после того, как они только намечаются, или даже до этого.
Дюран объясняет эту операцию работы мистического ноктюрна как по-стоянный выбор намечающегося субъекта (протосубъекта, начально различающей человеческой единицы) в пользу гомогенизации объекта, его «склеивания» в резком антифразийном усилии, состоящем в стремлении отказаться от различения в пользу неразличимости и в становлении на сторону Другого, чтобы препятствовать его фиксации в качестве Другого. Если это становится Другим, то Другое перестает быть Другим. Так материнская сакральность постоянно трудится над восстановлением парадизиакального бытия фетуса, укачиваемого питательными утробными водами.
Такая сакральность концентрируется:
• в еде и сытости;
• в жилище/убежище (синоним утробы);
• во сне (синоним созревания плода);
• в вещественности мира, интуируемой как облегчение под угрожающим многообразием сингулярных предметов;
• в ласке и в сладости, в неконфликтном и не требующем усилий наслаждении;
• в радостном и доверительном придании себя внешнему полюсу притяжения (девоция);
• в ощущении безопасности и комфорта;
• в опьянении, снимающем гнет отдельности и т. д.
Все эти моменты составляют общую ткань сакральной структуры Великой Матери и пронизаны специфической нуминозностью Ночи. Эта структура является не просто дологической, но и контр-логической, поскольку она основана не на простом незнании Логоса, а на устойчивом стремлении не допустить его как угрожающего опыта; Логос здесь предчувствуется и превентивно отвергается через его заведомое растворение в иррациональном. Великая Мать знает о Логосе, но делает все от нее зависящее, чтобы не допустить его Рождения. И в этом как раз и состоит сущность сакрального — в снятии даже отдаленных предпосылок для ригидной фиксации различения в антагонистических парах, в заведомой ликвидации самой возможности проявления Другого. Бесконечность Матери бдительно охраняет ее перинатальный домен до угрозы появления Предела.
Общества, построенные на сериях мистического ноктюрна, в чистом виде чрезвычайно редки. Поэтому в большинстве случаев такая сакральность представлена в более смешанных комплексах, вплетенная в усложненные модели мифов и символов. И тем не менее для исследования топики религии и религиозности выявление сакральности в ее чистоте чрезвычайно важно как стартовый Idealtypus (М. Вебер), позволяющий наметить полюс и границу, общие для всех религиозных систем. Антифраза Великой Матери, нуминозная работа растворяющих чар Земли и Ночи лежит в основе всей религиозной картины, служит ей субстанциальным основанием, базисом. В полноценном структурном религиоведении этот уровень выполняет функцию, сходную с функцией «базиса», «инфраструктуры» в марксизме.
Молния Логоса и рождение теологии
Появление теологии связано с фундаментальной катастрофой в лоне сакрального. Здесь мы имеем дело с уникальным опытом необратимого разрыва в ткани имманентного, с фактом Вторжения, радикально нарушающим циклическую замкнутость механизмов антифразы Великой Матери. Внутри земной нуминозности предпосылок для «рождения Логоса» нет. Более того, работа утробной жизни, основанная на функциональной эквивалентности утробы и могилы, появлении и исчезновении не предполагает фиксации неснимаемых пар и заведомо ликвидирует даже отдаленные предпосылки. Вещий сон Великой Матери чрезвычайно действенен и не несет в самом себе никаких завязей пробуждения. Ужас смерти в лоне сакрального неведом, равно как пронзительное переживание жизни. Смерть и жизнь склеены непрерывной протяженностью женского оргазма и размеренного пищеварения, увлекающих в свою дрему всю тьму вещей. Ничто не предвещает беды. Более того, ее приход исключен.
Но это исключенное тем не менее случается, вопреки устойчивости антифразических структур. Это событие — нечто не запланированное в замк-нутой структуре сакрального в его чистом виде. Можно сравнить это с ударом молнии. В поле, где Другой невозможен, этот Другой вторгается. Это — рождение Логоса, непредсказуемое вторжение.
Этиология данного явления может быть объяснена тысячами способов. Сами религии объясняют это через обращение к Откровению (монотеизм) или к аватарической/сотериологической реализации (индуизм, буддизм). Имманентисты объясняют это «логикой эволюции видов». На уровне социологии это может быть описано как переход от этноса к народу (λαός) через структуру завоеваний или вторжения пастухов-кочевников в уделы оседлых земледельцев[37]. Ж. Дюран обращается к постуральному рефлексу и диурническому режиму работы бессознательного. Ж. Делез говорит о «территориализации». Но все эти объяснительные концепции исходят из того, что вторжение произошло как факт. Логос с его эксклюзивистской структурой ударил в замкнутое поле сакрального, разомкнув его. Фигура Другого утвердилась в поле Великой Матери, создав принципиальную оппозицию. Тем самым обнаружило себя трансцендентное измерение, греческое επέκεινα. И все объяснения, к которым мы апеллируем, уже развертываются в поле геометрии, оперирующем с двумя полюсами, включающем в себя вертикаль как основную конститутивную характеристику. Мы объясняем происхождение Логоса через обращение к самому Логосу и его комплексным философским или мифологическим производным, и оказываемся, таким образом, в замкнутом круге.
Все наши объяснения и этиологии тавтологические: молния ударила, потому что ударила, потому что молния, потому что должна была ударить, потому что таков порядок и т. д.
Поэтому корректнее подойти к этому феноменологически: Логос явил себя, Другой обнаружился и это является фактом, т. к. мы имеем дело с картиной, предполагающей его наличие в качестве основной предпосылки. Мы — животные, обладающие Логосом, согласно Аристотелю. Хотя вопрос обладания запутан; кто кем обладает — мы ли Логосом, или он нами, не столь очевидно. Отсюда понятно, что в эпоху великих географических открытий перед испанскими и португальскими конкистадорами остро стоял вопрос, обращенный ими к Папе: можно ли причислить «дикарей», явно лишенных того, что европейцы Возрождения и Нового времени понимали под «Логосом», к разряду «людей»? И хотя ответ был дан Папой положительный, но скорее в кредит — Католическая Церковь сделала допущение, что мы имеем дело с «начинающими людьми», поддающимися обучению Логосу (как оно происходило, мы знаем на примере иезуитского государства в Парагвае), но пока с ним практически не знакомыми.
Чтобы избежать такого отталкивающего и высокомерного гносеологического расизма, рудименты которого мы встречаем и сегодня в отталкивающих глобалистских притязаниях Запада на универсализм своих ценностных систем и на антропологическую нормативность гуманизма, искусственно созданного исключительно по образцу homo occidentalis, стоит сформулировать антропологическую топику иначе: человеком является то существо, которое знает чувство сакрального, т. е. относится как минимум к базису религиозной топики. При этом оно может как иметь опыт Логоса (таково большинство людей, знакомых с надстройкой), так и не иметь его (таковы некоторые чрезвычайно архаические племена). Человек есть носитель сакральности, и наоборот, тот, кто является носителем сакральности, — человек. А вот какова эта сакральность, является ли она ноктюрнической (утробно матриархальной, антифразийной) или нет, это вопрос другой.
Трансцендентная топика
Траектория удара молнии, явление Логоса и обнаружение полюса Другого порождают геометрию религии, которую мы уже описали ранее. Теперь это можно представить схемой:
Самое принципиальное здесь — размыкание мистического ноктюрна, появление травмы, опыт катастрофы, разрывающий автономную самореферентность утробного парадиза. Внутрь сакрального проникает нечто иное. Выстраивается новая геометрия, в основе которой лежит дуальность, то непоправимое разделение, на снятие и превентивное недопущение которого была направлена нуминозная работа ноктюрна в структуре культа Великой Матери.
Момент Логоса сакральным переживается как изгнание из рая, и появление в этой связи символа Древа Познания в библейском контексте не случайно. Познание, знание, Логос размыкают топику ленты Мебиуса, замыкающую в непрерывности жизнь/смерть. После вторжение Логоса жизнь и смерть, верх и низ, мужчина и женщина, право и лево более не совпадают. Антифразийное усилие уже не в силах предотвратить инсталляцию строго дуальных симметрий.
Отныне различение входит в полные права и реорганизует мир.
Здесь начинается трансцендентная топика. И, следовательно, теология.
Теология есть вся зона надстройки над сакральным, которая определяет отношение к сакральному со стороны Другого и отношение к Другому со стороны сакрального. Теология требует наличия двух несовпадающих полюсов и развертывается между ними. Дистанция отмеряется Логосом. Мышление обретает опору в несводимой асимметрии, в перманентно воспроизводимом нетождестве. Сакральное из всего становится одним из, проблематизируется. Его ноктюрническая материнская очевидность отныне требует обоснования, апологии. В дело вступает война как «отец вещей», тем самым у вещей появляется «отец» — конфликт, нетождество, причина боли и разрыва.
Ж. Дюран называет такую структуру «шизоморфной», т. е. основанной на расколе сознания, причем такого раскола, который в естественном состоянии имеет тенденцию к еще большему усугублению.
Субъект здесь консолидирует себя и членит внешний мир. Отныне он не плывет в нем, а стоит перед ним. Травма разлуки с миром подталкивает субъекта к тому, чтобы причинять боль этому миру, экстериоризируя ее. Отделенный отделяет, крошит. Так, по выражению Гераклита, одному из первых описавшему структуру Логоса, «молния правит всем».
Философия рождается как систематизирование стремления описать теологическую топику. Отчетливее всего это удается Платону, который навсегда фиксирует в учениях об идеях («Государство»), в космогонии и космологии «Тимея», в диалектике «Единого» «Парменида», в дуализме «предел»/«беспредельность» «Филеба», в теории о «вертикальном Эросе» «Пира» и т. д., — фундаментальные черты дневной (диурнической), солярной, аполлонической реальности. Платонизм оформляет вертикальную топику в особой терминологии, практически универсально применимой для описания любой теологии. Поэтому он и наделен столь уникальной судьбой в самых разных культурах и до сих пор сохранил свое значение и свою релевантность.
Введение «трех теологий»
Теперь попробуем рассмотреть, как оформляется в конкретных религиях их теологическая часть. Ось теологии остается везде одинаковой, она натянута между имманентной данностью и гипотетическим источником молнии, причинившей боль.
Пара это/Другое является константой любой теологии, но осмысляется этот дуализм и эта антагонистичность по-разному.
Мы предлагаем свести все версии существующих теологий к трем фундаментальным моделям и рассмотреть их поочередно. Эти «три теологии», интерпретированные структурно, предполагают три магистральных обобщающих способа описать (и тем самым инсталлировать) отношение между сакральным (религиозность) и Другим. Другое в большинстве религий, хотя и не во всех, фигурирует под именем «Бога», θεός греков, а отношение «Бога» к имманентной данности (сакральному) описывается при помощи разума, Нуса или Логоса, что и дает нам θεολογία, «теологию». Если мы интерпретируем «Бога» как интеллектуальный топос, как фигуру, расположенную «по ту сторону Молнии», то мы сможем спокойно говорить о «буддистской теологии» или о «даосской теологии», хотя эти религии и не пользуются в своих оформлениях термином «бог» или его аналогами. Другое есть в буддизме и даосизме, как оно есть в иудаизме, христианстве, индуизме или политеизме. «Теология» это не «рациональное осмысление Бога», это форма мышления и бытия, постулирующих Другого по ту сторону от «этого» и тем самым конституирующее Бога или его аналог (пустоту в буддизме, Дао в даосизме).
«Три теологии», таким образом, представляют собой три принципиальных способа толкования отношения этого к Другому. И в зависимости от структуры такого толкования они уже далее развертываются в пространные символические, ритуальные, догматические, моральные и метафизические комплексы.
Совершенно не подразумевая никакой исторической или хронологиче-ской последовательности (диахронии), мы предлагаем такой порядок перечисления «трех теологий».
Первая теология решает дуализм через радикальную абсолютизацию Другого и столь же радикальное отвержение этого.
Вторая теология признает относительную равнозначность Другого и этого, воспринимает мир как ткань их перманентной войны с переменным исходом.
Третья теология строится на парадоксе, состоящем в параллельном признании трансцендентности Другого (со всеми драматическими импликациями) и в отрицании этой трансцендентности, что требует уникальной и не само собой разумеющейся трансмутации Логоса.
Рассмотрим их кратко в таком порядке.
Первая теология. Бог как Личность, девоция, креация
То, что мы назвали «первой теологией», имеет множество форм и версий. Однако всем им свойственно общее качество: они оформляют катастрофу вторжения Другого через радикальный переход на его сторону, признание за тем, что причиняет боль, полного права ее причинять. Вертикальная иерархия логически влечет за собой власть и властные отношения Господин – Раб. В рамках первой теологии эта пара осмысляется однозначно: Господин — это Другой, Раб — этот. Поэтому данная модель теологии строится как «кириология», «логика господства», и подразумевается «господство Другого».
В этой топике Другой есть Бог. Бог есть Благо. Бог есть все. Бог есть бытие. Тем самым потревоженная ткань замкнутого на самом себе сакрального после насильственного размыкания и пробуждения ото сна снова на новом уровне воспроизводит антифразу, но только на сей раз не до травмы и не вместо травмы, стараясь ее избежать любой ценой, а после травмы, по результатам ее свершившегося факта. Бог наносит травму сакральной матрице имманентного, к которому принадлежит естественным образом человек «первой теологии», и человек отвечает на это тем, что встает на сторону Бога. Он отворачивается от себя и мира вокруг, отрекается от всего этого, и предает себя Другому. Это действие девоции, предания себя своей противоположности, на сей раз ориентировано вертикально, вдоль оси Логоса, а не горизонтально, как это имело место в случае культа Великой Матери. Здесь человек не растворяется в мире, лишенном оппозиционной геометрии различий, но принимает на себя и на окружающее его данное эмпирически наличие за отрицательный полюс асимметричной пары, положительным полюсом которой становится (в отличие от ноктюрнических схем) не безличная среда, а личный Бог, расположенный на том конце трансцендентной оси.
Вокруг этой оси в направлении трансцендентного личного Бога ориентирован Логос данной теологии. Человек обращен к фигуре неведомого Бога, и этому Богу приписывается авторство всего. На вершине постижения находится непостижимое, и это же непостижимое низводит порядками умственных серий творческий импульс вплоть до чувственного космоса и самого человека.
«Первая теология» может быть описана и в терминах бытия или реальности. С этой точки зрения Бытие принадлежит только Богу. Он есть Тот, Кто есть. И только он поэтому реален, действителен, актуален. Бытие трансцендентно и природным образом присуще только Другому. На обратном конце имманентного, там, где располагается сакральное, должно располагаться нечто противоположное — т. е. небытие. Значит, имманентное не реально, не действительно, но ничтожно или иллюзорно.
Очень важно, какой эффект оказывает такая девоциональная конструкция теологии на восприятие природы сакрального. Сакральное в таком случае десакрализируется, разоблачается. Мир становится «долиной вздохов», «земным адом».
Описанная нами картина «первой теологии» совершенно однозначно вызывает в сознании монотеизм и его основные постулаты, творение из ничто (ex nihilo), кириологическое понимание Бога, радикальное обесценивание мира и жизни как чисто имманентных явлений, и наконец, утверждение о том, что природа Бога и природа человека настолько различны, что они никогда и ни при каких обстоятельствах не могут перейти одна в другую. Даже в христианстве, монотеизм которого включает в себя Боговоплощение, две природы во Христе никогда не смешиваются.
Это совершенно верно и общеизвестно. Но что менее очевидно, так это наличие практически той же самой теологической установки в политеистических религиях — например, в двайта-ведантистском толковании индуизма, преобладающем в среде поклонников Вишну, вайшнавов[38]. Двайта-веданта лежит в основе теологии бхактов, т. е. последователей девоционального направления в индуизме.
Двайта-ведантизм строится на выявлении асимметричных отношений между миром и Богом, который становится здесь личным (Вишну) и наделяется моральными чертами. Между бхактом и Вишну строятся отношения служения и дара. При этом утверждается, что никогда и не при каких обстоятельствах онтологическая бездна между человеком (даже святым и благочестивым) и Богом не может быть преодолена. Для некоторых школ двайта-ведантизма характерно представление о том, что существует предопределение, и некоторые души обречены на то, чтобы вечно пребывать в аду или скитаться по колесу сансары.
В индуизме же мы встречаем и концепцию Майи, которая в некоторых школах трактуется как «чистая иллюзия», наброшенная на истинную и скрытую тем самым реальность Другого, Того (Кто только и является реальным).
В гендерном смысле такая теология выражается в мифологической мизогинии и постановке мужских небесных солнечных божеств строго над фигурой Великой Матери, ее аналогов (Ночь, Земля, Море и т. д.) и ноктюрнических порождений (змеев, драконов, рыб, монстров).
Девоционализм и придание Богу личных черт являются характерными чертами именно этой «первой теологии», которая объединяет целый класс вариантов, куда включаются как монотеистические, так и политеистические религии. Более того, существуют архаические версии сходных теологий (например, среди африканских племен), в которых подчеркивается факт творения мира запредельным Богом и его абсолютная благость по контрасту с нищетой и пустотой мира наличного.
Эта топика может быть обобщена формулой: «То, что сверху — не то, что снизу; то, что снизу — не то, что сверху».
В «первой теологии» последовательнее всего проводится идея десакрализации сакрального. Разомкнутое сакральное больше не считается сакральным, напротив, оно предстает как нечто профанное само по себе. Но девоциональный жест бхакта в случае его акцептации может смягчить это состояние и вызвать искусственную сакрализацию имманентного — но не природную, а благодатную, эпизодическую, спровоцированную тем, что тот или иной подвижник (или религиозная общность) вызывает своими действиями благосклонность личного Божества.
В монотеизме механизм десакрализации и ресакрализации решается через теорию Творения и Откровения. Личный трансцендентный Бог творит мир из ничто, ex nihilo. Тем самым мир сам по себе есть ничто, а Бог — все. При этом мир наделен все же определенным градусом реальности, т. к. является творением. Но как между горшечником и горшком нет ничего общего, так нет ничего общего между Богом и созданным им миром. И все же принадлежность к разряду божественных изделий наделяет мир и человека по касательной свойством быть созданным, т. е. сакрализирует их.
Это сакрализация, обреченная на естественное убывание, т. к. она основана на ничтожестве своей природы и требует периодических подтверждений, которые осуществляются через циклы пророческих откровений и «договоров» людей с Богом. Так Творец подправляет тяготеющее к естественной энтропии творение серий ресакрализаций, реализуемых в ритме наказаний/поощрений в логике юридической сделки.
Однако креационистская теология, присущая всем разновидностям монотеизма и составляющая основное свойство монотеизма, не является необходимой чертой «первой теологии», охватывающей более широкий класс религий — в том числе и немонотеистических и не заостряющих внимания на креации и демиургии. А такие черты как личный Бог, абсолютизация его бытия, девоция, десакрализация/ресакрализация имманентного (не имеющего автономного бытия), напротив, являются универсальными и необходимыми для всех религиозных версий, сюда относящихся.
Вторая теология. Непримиримый дуализм
Совершенно иначе организуется структура Логоса в том, что мы называем «второй теологией». Здесь пробужденное вторжением Логоса сознание принимает удар и организует отношения между двумя полюсами в прямом соответствии с их антагонизмом, заложенном в самой структуре трансцендентной топики. Молния осознается здесь как то, чем она и является: спонтанной болью, насилием, агонией, взрывом пробуждения, войной. Оппозиция, рожденная войной, фиксируется в мифологии, теологии, онтологии. Мы получаем религию войны, в которой Другое атакует это, а это сопротивляется и наносит серию ответных ударов.
Два полюса теологической оси осмысливаются как два онтологических лагеря, связанных общностью ненависти, тканью смертельного экзистенциального конфликта.
Ярче всего такая теология проявляется в иранской религии — в маздеизме и зороастризме. В упрощенном виде мы получаем картину двоебожия: есть Бог Света и Бог Тьмы, Ормузд и Ариман. Бог Тьмы имманентен, Бог Света трансцендентен. Верх и низ ополчились друг на друга и воюют. В этой картине мира важно, что и тот и другой суть Боги, и оба вполне реальны и могущественны, оба субстанциальны. Их силы в определенном приближении равны, хотя то одной, то другой стороне удается достичь в какие-то периоды определенного превосходства, которое, впрочем, противоположная сторона всегда готова оспорить и обязательно пытается это осуществить.
Вторая теология признает бытие и реальность и имманентного этого и трансцендентного Другого. Но т. к. эти реальности несовместимы и исключают друг друга, то их столкновение между собой рождает войну, которая в этом случае также является абсолютно реальной и наделена бытием. Это война онтологическая.
Абсолютизированный дуализм второй теологии может воплотиться в разных геометриях. Чаще всего это противостояние благого верха против злого низа. Благой Бог, который наверху, бьется со злым Богом, который внизу. Вселенная — это и есть поле их битвы, она имеет смысл и бытие только как место сражения, театр военных действий.
В такой геометрии всячески фиксируется и подтверждается вертикальная ось, метафизически и ритуально снова и снова оживляется момент получения травмы от удара Молнией. Боль, кровь, насилие, убийство, страдания, смерть, прорыв, атака, мужество становятся онтологическими и интеллектуальными категориями, составляют суть теологии.
В некоторых версиях этой второй теологии чисто теоретически можно встретить обратную этику: благой низ ополчается на злой, узурпировавший власть верх. Герой бросает вызов Богам. Титан Прометей встает на сторону жалких земных людей, чтобы дать им огонь, способный перевернуть властные роли космоса и тогда «последние станут первыми». Павший ангел готовит реванш. Это топика метафизической революции, теология классовой борьбы, существенно аффектировавшая Ренессанс и эпоху Модерна.
И наконец, противостояние этого и Другого может раскалывать оба космоса (духовные и телесный) вертикально, порождая завязи Света и Тьмы как на небе, так и на земле. В этом случае сыны Света и сыны Тьмы воюют друг с другом на различных этажах мироздания — как в этом мире, так и в потустороннем.
В некоторых случаях все три геометрии могут причудливо сочетаться: например, сыны Света, оказавшись на земле, где правит Бог Тьмы, вступают с ним в бой на его территории, а сыны Тьмы штурмуют небеса, где правит Бог Света, чтобы низвергнуть его оттуда, с его престола.
Эти наложения и детализации, а также различные сценарии эсхатологии, когда одна из сторон (это, конечно, всегда бывают дети Света) в конце времен одерживает решающую победу, не меняют фундаментального характера второй теологии: драма, лежащая в основе трансцендентного, здесь снимается не через ее затушевывание, но через ее радикализацию. Получив удар Молнией Логоса, имманентное втягивается в стихию войны и начинает жить в ней.
Здесь мы имеем дело с тем, что Ж. Дюран назвал «шизоморфной структурой» или «режимом диурна»: неравновесие и глубинный травматизм становятся основным содержанием теологии. Онтология войны превращает экзистирование в ткань перманентного страдания и непрекращающейся агрессии. Раскол, разрыв, прерывность становятся содержанием жизни.
Носитель второй теологии ведет постоянно битву с Другим — со смертью, с врагом, с узурпатором, с восставшим рабом, с окружающим миром и т. д.
Такая онтология войны в качестве базового теологического содержания становится осью философии Гераклита. Некоторые исследователи связывают это с иранским влиянием.
Позднее вторая теология ложится в основу учения христианских гностиков, которые предложили развернутую систему толкования раннего христианства на основе оппозиции между Ветхим и Новым заветами, между иудаизмом и общиной Евангелия, с соответствующей атрибуцией их авторства двум антагонистическим Богам: Ветхий Завет считался ими творением «злого демиурга», Евангелие же было ниспослано трансцендентным Богом Света через его Сына. Гностики считали себя «сынами Света», окруженными «сынами Тьмы» и плененными в мире, созданном Темным Богом как темница и ад. Отсюда вытекал императив войны — против стихий, материи, архонтов, могуществ, сил и материального мира в целом вместе с его Творцом.
Вторая теология в форме гностицизма оказалась чрезвычайно устойчивой, несмотря на то, что была очень скоро отвергнута как ересь основным течением христианства, и снова дала о себе знать уже в Средневековье, т. е. спустя тысячу лет после появления первых гностиков, в лице богомилов, вальденсов, катаров и альбигойцев.
Однако примеры дуалистической теологии мы можем встретить и в менее структурированных политеистических традициях и мифологиях, где оппозиция между классами богов обострена и радикализирована. Это мы видим как в хеттской и шумерской традициях, так и в архаических пластах древнегреческой религии или у древних семитов. Согласно некоторым реконструкциям, древнеславянский и древний финно-угорский религиозный комплекс относился к такой дуалистической категории, хотя это могло быть и следствием устойчивого иранского влияния (например, скифского и сарматского).
Вторая теология встречается как в чистом виде (от древнеиранской религиозной традиции до гностиков и манихейцев), так и в составе сложных и многомерных религий. Она и ее структура обнаруживаются всякий раз, как мы имеем дело с радикальным дуализмом и фундаментализированной онтологией войны как главной теологической осью.
Эпосы и мифы, повествующие о войнах между собой богов и героев (в частности, Нартовский эпос или «Илиада» Гомера), суть версии таких дуальных воинственных теологических систем.
Частным случаем такого теологического дуализма является мифологизации войны полов, запечатленной в легендах об амазонках, снова отсылающих нас к зонам иранского влияния, но встречающихся и в иных культурных ареалах. Эти гендерные войны составляют содержание многих архаических мифов, где фигурируют женские хтонические армии, противопоставляемые мужским и небесным. (Так, явно феминоидной является армия Диониса в поэме Нонния Панаполитанского).
Сакральность в контексте второй теологии не исчезает, но разделяется на две составляющих: появляется светлая сакральность и темная сакральность, и эта пара двух сакральностей выливается в кульминацию сакральной войны. Война сакральна, но что сакрально — это всегда война. Потому что только война по-настоящему сакральна.
Обобщающей формулой второй теологии может служить фраза: «То, что сверху, против того, что снизу».
Третья теология. Адвайта
Самой неожиданной и сложной для понимания является третья теология. Она предлагает принципиально иную модель интерпретации отношений этого и Другого, нежели две предыдущие теологии. Она несводима ни к одной из них и не является их комбинацией. Она постулирует при этом совершенно особую структуру Логоса.
Третья теология признает дистанцию между этим и Другим, принимает удар Молнии, вызов вторжения. Место Логоса в ней занято осью, разделяющей верх и низ. То есть вертикальная топика здесь утверждается, как и в первых двух теологиях, и в отличие от чисто имманентной сакральности, не знающей вертикали. Но утвердив дистанцию и вертикальную геометрию, признав факт метафизической травмы, третья теология делает странный жест и мгновенно снимает ее. Как такое возможно?
Это возможно только в том случае, если носитель теологии отождествляет себя не с одним из полюсов открывшейся в момент удара Молнии травматической топики мира, но с самой Молнией; солидаризуется не с тем, во что она бьет, и не с тем, откуда она исходит, а именно с нею самой. Причина установления трансцендентной дуальности, Логос как таковой, провоцирующий эксплозию Вселенной, в третьей теологии подвергается имплозии, обращается не к своим пределам, но к самому себе.
Полнее всего третья теология оформлена в адвайта-ведантизме, а также в неоплатонизме и, частично, в герметизме.
Принципы адвайта-ведантизма полнее всего были сформулированы Шанкарачарьей и могут быть сведены к парадоксальной санскритской формуле: «тат твамаси», т. е. «ты есть То», что означает: «это есть Другое». На первый взгляд, представляется, что мы снова имеем дело с сакральным в его дологическом состоянии, но там мы не имели фигуры Другого вообще, т. е. не было «Того», Кто был бы радикально отличен от «этого»; было только «это» и причем надежно охраняемое всепоглощающей магией Великой Матери от любого покушения на парадизиакальный внутриутробный комфорт неразличения. Адвайта-ведантизм знает «То», знает Другого и, соответственно, логическое сознание пробуждено и не наивно. Оно знает дуальность, а не находится относительно нее в неведении, но при этом оно преодолевает ее путем уникальной логической операции.
Здесь мы можем привести герметическую формулу, с которой начинается «Изумрудная Скрижаль»: «Что сверху, то и снизу». На первый взгляд это может быть интерпретировано как аналогия или метафора, но на самом деле это уникальное и парадоксальное движение ума по маршруту третьей теологии. Ведь верх есть нечто отличное от низа, и потому это верх, а не низ. И если мы говорим «верх», то подразумеваем «не-низ». Верх, который не-низ есть следствие удара Молнии Логоса. Но лемма Гермеса Трисмегиста настаивает, что это принципиальное нетождество есть тождество.
Так и санскритское «тат твамаси» Шанкарачарьи содержит в себе этот же парадокс: «ты (как это) есть То (как не-это) »; т. е. и есть и не есть одновременно, не на разных уровнях, а на одном и том же. Верх — это низ, а низ — это верх. Или «путь вверх и вниз — одно и то же», по словам Гераклита. И в этом случае логичнее поместить Гераклита в контекст именно третьей теологии, хотя некоторые приписываемые ему высказывания, как мы видели, позволяют отнести его и ко второй.
Совершенно в том же ключе строят свои философские и теологические системы неоплатоники от Плотина до Прокла и Дамаския. При этом все они учитывают вызов дуалистического гностицизма (Плотин в «Эннеаде» 6.9) и ищут на основании платоновской диалектики (особенно выпукло представленной в диалоге «Парменид») пути построения недуальной системы, своего рода «адвайта-платонизма». Сам Василид был платоником-дуалистом, и для неоплатоников поэтому он был вызовом и стимулом для оттачивания своих недуалистических теорий.
Третья теология является магистральной моделью большинства шиваистских школ, особенно «абхеда шайва» и «бхедабхеда шайва», а также приоритетным методом тантризма — как индуистского, так и буддистского. Тантра и чань-буддизм (японский дзэн) целиком построены на парадоксах: нарушение запрета (например, в практике панчамакары — «учении о 5 М») есть исполнение запрета; осознание невозможности стать Буддой есть единственный способ стать Буддой и т. д.
Эта же структура третьей теологии является определяющей и для даосизма, целиком и полностью построенного на такой же парадоксальной логике.
Становление Молнией вместо поиска себе места на двух ее концах представляет собой уникальное и эксклюзивное движение духа, парадоксальный ответ на травму трансцендентности. Показательно, что буддистский тантризм носит название ваджраяны, что означает дословно «путь молнии», хотя тот же санскритский корень, vadjra, означает и «бриллиант».
В модели Ж. Дюрана, к которой мы неоднократно обращались, третья теология будет соответствовать режиму драматического ноктюрна. Здесь так же, как и в мистическом ноктюрне, мы имеем дело с эвфемизацией. Более того, герметическую формулу «что сверху, то и снизу» или «тат твамаси», на первый взгляд, можно было бы принять за антифразу. Но это не так, поскольку речь идет не об игнорировании вертикали, а ее признании и снятии, через отождествление с ней самой, через превращение в герметический недуальный Логос, через отождествление с ним, включая заложенную в нем амбивалентность — ведь Молния имеет два конца, которые несет в себе. Драматический ноктюрн — это поле активного андрогината, мистерия сакрального брака, иерогамия, где есть одновременно и война и слияние, и различие и тождество. В тантре это символизируется соитием Шивы с его Шакти на вершине священной горы Кайлас.
Сакральность в этой теологии относится не к одному из полюсов вертикальной топики и не к ним обоим, но к промежуточному пространству, где греческая мифология помещала крылатого Эроса или бога Гермеса. Сакрально не то, что внизу или вверху, даже не война верха и низа, но то, что находится «между», сакральна связь, отношение, реляция, ее напряженность, ее парадоксальная недуальность, при этом дуальность не снимающая.
Онтологическая проблема здесь решается так же неожиданно: диспозитив бытия идентифицируется в этом случае не на земле и не на небе, не здесь и не там, но посредине, в той зоне, которую исламский эзотеризм называет «алам-аль митхаль», что А. Корбен переводит как «сфера имажиналя». Это мир «малакут», «страна многих городов» у Сохраварди, промежуточная реальность между духом и телом, в центре которой располагается гора Хуркалья, где на пике пилигрим третьей теологии встречает фигуру «пурпурного архангела», со светлым и темным крылом, что воплощает собой десятый интеллект или ангела человечества. Темное и светлое, верхнее и нижнее неразрывно слиты в андрогинном пурпурном архангеле, повелителе имагинативного пространства, сотворенного Молнией Логоса.
Третья теология — это теология любви.
Выделенные нами теологии представляют собой три «идеальных типа», в чистом виде встречающиеся довольно редко. В рамках одной и той же религии, одной и той же традиции мы можем встретить одновременно несколько теологических путей или их комбинации. Те или иные аспекты религиозных доктрин могут интерпретироваться в духе первой, второй или третьей теологий, и сами интерпретации способны эволюционировать и сменять друг друга в те или иные исторические периоды.
В таких масштабных религиозных явлениях, как христианство или ислам, мы имеем все шансы найти одновременно три теологии в разных средах и в разные эпохи. Фасад монотеизма почти всегда представляет собой версии первой теологии, но в области эзотеризма и мистики, не говоря уже о разнообразных ересях, мы имеем все шансы встретить целые континенты второй и третьей теологии. В политических традициях также картина крайне разнообразна. Поэтому три описанные теологии могут рассматриваться как семантические оси, позволяющие осуществить самую общую классификацию, которая при более тщательном анализе может быть существенно детализирована и утончена. Однако такая систематизация, пусть весьма апроксимативная, значительно поможет нам продвинуться в структурном анализе религиозных систем, в истории религии и сравнительном религиоведении.
Еще одним важным выводом из описанной нами топики является включение в нее понятия сакрального как стартового базиса теологических построений. Этот базис дает теологиям материал для их оформления (пусть часто через отрицание). Другое, данное в травматическом опыте Логоса, все равно остается связано с этим. А структура этого в нашей интерпретации открывается как структура ночи, как антифразийное усилие и воля к перинатальности, снимающая оппозиции еще прежде, чем они имеют шанс дать о себе знать и зафиксироваться в логическом мышлении. Молния бьет не в пустоту, но в урчащее лоно всеизобильной Великой Матери. И для структуры всех трех теологий этот фактор имеет огромное значение. Логос вырывает из недр женской земли растворенное там мужское начало, но это начало еще полностью в земле. Очищение от земли создает негативный лексикон Логоса. Трансцендируя, он имеет дело с конкретным пластическим режимом. Поэтому теологии формально оперируют с многочисленными фигурами, почерпнутыми из области сакрального. И более того, у Логоса вообще нет своего языка, он есть чистая негативность, его язык — гром, грохот. Поэтому ему не остается ничего иного, как пользоваться материнским языком, перетолковывая его семантику в мужском, трансценденталистском ключе. Разбор этой особенности конструирования теологий может принести чрезвычайно важные результаты.
И наконец, последнее. Бегло рассмотренная нами топика из сакрального базиса и трех обобщающих теологических траекторий эксплицитна для традиционного общества, где религиозная теология официально признается социальной, культурной, политической и эпистемологической доминантой, а сакральность относительно спокойно и свободно процветает среди низших социальных страт и маргинальных групп (часто чрезвычайно архаических). Здесь наш метод применим легко, и никаких особенных проблем не возникает.
Но при переходе к обществу Модерна основополагающий для теологии θεός упраздняется, и говорить о теологии напрямую становится проблематичным. Уверенность в том, что отмена θεός не отменяет θεολογία, но все же заставляет как-то скорректировать этот подход, привела выдающегося политического философа и юриста Карла Шмитта к формулировке знаменитой концепции «политической теологии», т. е. об имплицитной теологии, которая выражается не через религию, а через ее модернистские эквиваленты и эрзацы — политику и идеологию. Можно повторить этот ход К. Шмитта и в отношении нашей теологической топики. Три теологии в этом случае дадут три эпистемологические парадигмы, выстроенные с помощью иного концептуального аппарата, но по тем же морфологическим выкройкам.
В таком случае мы получим остаточное сакральное, копошащееся (как, впрочем, всегда имеет место и в традиционных обществах, с развитыми теологиями) на низших социальных стратах, в области сновидений, бессознательного и маргиналитета. А над ним систему официальных идеологических дискурсов — девоциональных, дуалистических или герметических — как секулярных аналогов теологий. Так мы получаем нечто похожее по своим процедурам на фрейдо-марксизм, а еще больше, на социокультурную топику Ж. Дюрана с его «социологией глубин». А это значит, что теологический подход сохраняет свою релевантность и в секулярных системах. Для его успешного применения следует только осуществить корректный перевод терминов, что, впрочем, представляет собой тему отдельной работы.
Глава 4. Заметки о гуманизме
Гуманизм: антропологический взгляд
В ХХ веке проблема «гуманизма» и его антитезы, «антигуманизма» обсуждалась с ажиотажем и столь интенсивно, что, казалось бы, тема исчерпана. В XXI веке интерес вызывают скорее сюжеты «трансгуманизма», но т. к. они связаны с дискуссиями о гуманизме, его содержанием и его типах, то мы снова вынуждены обратиться к дебатам о гуманизме. Ниже мы предлагаем некоторые отдельные заметки по проблеме гуманизма, написанные так, как если бы дебаты о гуманизме не дали окончательного результата. Мы их учитываем, но двигаемся параллельно. Специфика нашего подхода в том, что мы попытаемся подойти к проблеме гуманизма с антропологических позиций. Могут сразу сказать: тавтология говорить о «человеке» как homo гуманизма; не то же ли самое, что говорить о «человеке» как άνθρωπος антропологии? Не то же, т. к. антропология хочет быть философским методом, а гуманизм — разновидностью морали, претендующей на универсализм. Говоря о выборе антропологии как отправной точки, мы подчеркиваем, что нас интересуют философские аспекты гуманизма как морального явления.
Человек и его таксоны
Центральным является соотношение человека и индивидуума. Человек есть таксономическое понятие, универсалия. Можно считать его родом (тогда видами будут человеческие типы — например, расы), можно — видом, тогда родом будут выступать животные или только млекопитающие. Таксономии можно строить различные, для нас важнее то базовое соотношение, которое есть между человеком как особью, сингулярностью (будем считать это индивидуумом) и человеком как видом (или родом, важно лишь показать, что речь идет о таксоне более высокого порядка). Прежде всего, надо выяснять соотношение между этими двумя терминами и уяснить их содержание. Итак, мы имеем эмпирического человека как сингулярность. Показывая на него, мы говорим: «се человек», «ecce homo». Но что делаем мы, называя нечто, что находится перед нами или указывая на самих себя (если рассматриваемая сингулярность — мы сами), когда осуществляем эту операцию идентификации? Есть «нечто», «это», «се», на что указывает остенсивный жест, и есть другое, самостоятельное, «человек». В результате называния обе вещи между собой сближаются. Но до какой степени? Это очень тонкая степень. Если бы они сблизились полностью, так что сингулярность совпадала бы с родом, «этот человек» был бы родовым понятием. То есть только «этот человек» был бы человеком (а остальные, следовательно, не были бы им), а человеком был бы только «этот человек» (то есть мы имели бы дело в его лице с человеком как таковым). Ясно, что это не так, и мы, сближая «се» и «человек», все же удерживаем их разделенность. «Этого человека» делает человеком причастность к «другому», нежели его особь. А вот следующего человека делает человеком причастность к тому же «другому», что делает человеком первого человека. Причастность все к тому же «другому» делает человеком и третьего, и четвертого, и все остальных. Казалось бы, мы имеем дело с обычной таксономией вещей: любая вещь имеет сингулярность и таксон следующего уровня, через который эта сингулярность получает свою определенность. Но в случае человека строго та же самая операция оказывается более тонкой: ведь таксономию в порядки вещей приносит сам человек. Он опечатывает свои особенности к сознанию и самосознанию разрозненности мира упорядоченными рядами иерархий. Ведь только он имеет навыки рационального мышления и язык. Поэтому различение вида и индивидуума в случае человека есть не просто рефлексия, но саморефлексия, не просто сознание, но самосознание. И это особенность лежит в сущности именно антропологии.
Поле субъектности
Итак, в отличие от всех остальных вещей, вопрос об особи и виде, т. е. о базовой таксономии и самоидентификации в случае человека, делается самим человеком, т. е. осуществляется в пространстве субъектности. Человек может задуматься о том, что делает его причастным к высшему таксону, а соответственно, о природе этого таксона и о структуре отношения его и той особи, которой мыслящий (об этом) человек является.
В поле субъектности, т. е. в пространстве антропологии, мы обязательно имеем два полюса: индивидуальное и всеобщее, как в других вещах, но отличие в том, что индивидуум здесь является тем, кто строит эту таксономию, задумываясь о своей собственной природе, поэтому построение такой таксономии и конкретно природа иерархически высшего таксона (вида) здесь имеет характер не просто познания, а самопознания. Человеческий индивидуум постулирует самого себя иначе, нежели он постулирует вещь внешнего мира. Это постулирование возвратно — он не находит, но находится, не обнаруживает, но обнаруживается, не полагает, но полагается. То есть все действия оказываются в медиа-пассиве. И так же возвратно и чрезвычайно интимно он постулирует свой вид, по-гречески είδος, эйдос. Этот эйдос, будучи внутренним для человека, тоже находится, обнаруживается, полагается как присутствие столь же явное, как и присутствие индивидуума, но при этом другое, нежели индивидуум. Это внутреннее другое. Но раз оно внутреннее, то оно — то же самое. Но при этом — другое. Поэтому проблема человека сразу же приобретает двойственность и даже определенную диалогальность: ища себя, задаваясь вопросом «кто я?», человек находит сразу два ответа, две фигуры, т. е., в конечном счете, двух людей, вместо одного — человека-особь (индивидуума) и человека-эйдос.
Три взгляда на Восток и Запад в человеке
В иранской философии Ишрак, досконально изученной А. Корбеном[39], ее основатель Шихабоддин Яхья Сохраварди говорит о двух онтологических зонах — о Западе и Востоке вещей[40]. Это удачная метафора для описания антропологического поля — в поле человека есть Запад и Восток. Антропологическим Западом является человек как индивид, а антропологическим Востоком — человек-эйдос. Антропологический Запад может быть представлен как точка на периферии. Антропологический Восток — как центр окружности. Эта схема прекрасно иллюстрирует смысл таксономии как таковой — в центре — единство, на периферии — множество.
Эта схема будет работать в любых антропологических моделях и может быть насыщена самым разным содержанием в зависимости от того, какой философской доктрины мы придерживаемся.
1. Идеализм (спиритуализм). В платоновской философии и ее разнообразных вариантах и версиях антропологический Восток считается онтологически первичным, только он есть то, что есть. Поэтому «вселенский человек» или «световой человек», «совершенный человек» (ἄνθρωπος τέλειος у греков, Insân Kâmil в исламе), «внутренний человек», «мировая душа» или «идея человека» мыслятся как то, что реально, а индивидуум как нечто почти иллюзорное, лишенное собственного бытия и черпающее бытие в полюсе антропологического Востока. Точно так же представляет себе антропологическую ситуацию и философия Ишрака и мистическая антропология шиизма и особенно крайнего шиизма, исмаилизма. В центре стоит «десятый интеллект», «всечеловек», «Славный» (маджид) у Хайяна ибн Джабира[41], «пурпурный архангел» или «ангел человечества»[42] и т. д. Весьма показательно, что в неоконченной эзотерической поэме Гете «Die Geheimnisse» («Тайна»)[43] предводителем, находящимся в центре тайного братства из 12-ти членов, стоит персонаж по имени Humanus.
2. Реализм. Аристотелевский подход, философский реализм, помещает индивидуума между двумя полюсами — между центром круга (форма-µορφη) и той зоной, которая лежит за его внешними пределами, где располагается «материя», ὕλή. Индивидуум здесь первичен (в отличие от платонизма), но не самостоятелен, т. к. его бытие состоит из смешения формы и материи, которые существуют не до него, а через него. Индивидуум первичен, но при этом составной, а значит, не имеющий собственного содержания, которое определяется балансом в нем обоих начал, и, что наиболее показательно, концентрацией и качеством его формы, которая и есть эйдос. Чистый эйдос сам по себе Аристотель называл «недвижимым двигателем». Его-то и можно расположить в центре антропологического круга. Здесь индивидуум существует не после эйдоса, а вместе с эйдосом; его содержание не самотождественно, зависит от эйдоса, но эйдос человека живет только и исключительно через человека, а без него является абстракцией.
3. Номинализм. И наконец, номиналистский подход Росцелина и Оккама применительно к антропологической сфере закрепляет реальность только за индивидуумом, а эйдосу человека приписывается статус условной конвенции, обобщающего «имени», созданному относительным консенсусом любопытствующих наблюдателей. Последовательно примененный номинализм приводит нас к тому, что человек — это абстракция, созданная индивидуумами, наблюдающими за самими собой и за другими индивидуумами. В этой модели есть только индивидуумы, а то, что они являются человеческими, т. е. относятся к одному и тому же таксону, есть не более чем конвенция.
Три гуманизма
Таким образом, есть три взгляда на сущность и природу человека:
1. Человек есть всеобщее, не зависящее от индивидуума. Например, поздний Шеллинг считал индивида как явление продуктом «греха». Человек — это только и исключительно антропологический Восток, вечное существо со своей природой и своей структурой, излучающее антропологические лучи вовне.
2. Человек есть сущность, данная в индивидууме, но не совпадающая с ним. Здесь можно сказать, что человек — это форма, μορφή индивидуума. То есть человек — это антропологический Восток, открывающийся через антропологический Запад.
3. Человек есть имя, придуманное индивидуумом для обозначения общих признаков индивидуумов. В этом смысле есть только антропологический Запад, а антропологический Восток есть нечто пустое, лишь фигура речи, абстракция.
Отсюда легко вывести три разновидности гуманизма.
Первый гуманизм можно назвать платоническим. Он рассматривает человека как живую и действенную идею, как нечто божественное и вечное, но проявляющееся в мире возникающих и исчезающих образов, иконических феноменов, масок идеи. Здесь индивидуум есть практически пустое понятие, означающее блик на воде, отражающий солнечный луч человека. Такой гуманизм сосредоточен на онтологической сущности человека, в жертву которой легко приносится индивидуум, обретающий ценность лишь в той мере, в какой он способен выразить в своей сингулярности всеобщее.
Исторически мы видим такой «гуманизм» в Античности, а также в эллинизме, раннем христианстве, в эзотерических течениях монотеистических религий (кабала в иудаизме, суфизм, шиизм и Ишрак в исламе), а также в божественной антропологии адвайта-ведантизма («Атман есть Брахман»). Показательно, что в имманентистской форме именно таким был изначальный гуманизм эпохи европейского Возрождения, также отталкивавшийся (через Гемиста Плифона, Марсилио Фичино, Пико Мирандолу, Джордано Бруно и т. д.) от платонизма и неоплатонизма[44]. Здесь человек понимается самым фундаментальным образом, как квинтэссенция онтологии, по сути, отождествляясь с «божеством» или с «недвижимым двигателем» Аристотеля. Платоновский гуманизм логически ведет к иерархическому политиче-скому строю, к теократии и монархии, что прекрасно понимал Гегель — с апологетической стороны, и К. Поппер — с критической[45].
Второй тип гуманизма мы получаем из антропологии реалистского типа. Здесь человек как форма обладает онтологией, но не полностью автономной, а проявляющей себя через особь. На практике такой гуманизм признает значение индивидуума, но тяготеет к тому, чтобы сосредоточить основное внимание все же не на нем, а на том, что делает его тем, что он есть, и что проявляет себя через него. На практике такой гуманизм тяготеет к интеграции индивидуумов, чья солидарность и соборность воссоздают совместно то всеобщее, что дает каждому смысл, идентичность и бытие. Большой человек собирается из множества маленьких людей. Это «соборный» принцип, свойственный как христианской экклесиологии (в эпоху христианства), так и социалистическим и коммунистическим теориям (в секулярном мире Просвещения). Маркс, разбирая антропологическую проблему, признает такое понятие как сущность человека, выделяя классовую идентичность и значение труда как «родового» начала в человеке. Для всех версий реалистского гуманизма таксон человек имеет свою онтологию и свой вес, но неразрывно связывается с индивидуумом. Восток мыслится через Запад и только совместно с ним.
Третий тип гуманизма строится из номинализма и дает нам либеральную антропологию. В этой антропологии человек как таковой есть имя для определенной категории индивидуумов, а значит, не имеет никакой самостоятельной природы. Изменив таксономию, мы вполне можем вынести человека за скобки. Поэтому либеральная теория прав человека есть, на самом деле, теория прав индивидуумов, чье онтическое наличие эмпирически несомненно, но чья природа (сущность) при этом не рассматривается. Индивидууму необходимо предоставить права, а свою человечность он может реализовывать или не реализовывать, как ему вздумается (правда, в границах, остенсивно устанавливаемых другими индивидуумами). В либеральном гуманизме человек есть конвенция, т. е. нечто, лишенное собственной природы и сущности, это не более чем промежуточный прием классификационной процедуры. Таким образом, либеральный гуманизм едва ли можно строго отнести к гуманизму как таковому, т. к. у понятия homo здесь нет никакого эссенциального содержания.
Именно либеральный гуманизм является прямой дорогой к трансгуманизму, к учению о том, что «человек» может быть (или даже должен быть) заменен иной, «постчеловеческой» формацией; это возможно лишь потому, что человек — это только имя, реален же индивидуум. А вот индивидуум может вполне быть и «нечеловеческим» (трансчеловеческим, постчеловеческим), коль скоро речь идет только об «имени». Мутация человека в трансгуманизме не есть мутация сущности (либеральный гуманизм вообще отрицает сущность), но мутация конвенциональной и абстрактной таксономии, т. е. не более чем перемена имени. Человека может не быть, но индивидуум останется.
Таким образом, мы получили соответствия трех типов гуманизма трем классическим политическим идеологиям Нового времени. Причем наиболее «гуманистическими» оказались как раз те, которые реже всего сочетаются с этим наименованием. И наоборот, либеральный гуманизм, сделавший из прав человека светский догматический культ, своего рода постмодернистскую религию, оказался наименее гуманистическим из всех, т. к. человече-ское в нем лишено какой бы то ни было автономной реальности, а, следовательно, является чем-то эфемерным и «номинальным».
Антропология и имажиналь у Сохраварди
Философия Сохраварди[46] дает описание антропологических структур, которое может быть образцом для различных моделей платонического гуманизма. Кратко рассмотрим его.
По Сохраварди, имманентно нам дан παν αίσθησις, sensorium, способность чувствования, предшествующая всем остальным сторонам. На этом sensorium'е строится вся антропологическая конструкция, а вокруг нее развертывается внешний мир. Этот концепт, рассматриваемый А. Корбеном — кстати, первым переводчиком на французский работ М. Хайдеггера, — может быть сопоставлен с хайдеггеровским Dasein'ом. Sensorium может работать принципиально в двух режимах:
1) обращенном вовне;
2) обращенном вовнутрь.
При этом в обоих случаях речь идет об одном и том же антропологическом наличии.
Будучи обращенным вовне, sensorium подпадает под воздействие особой структурирующей его инстанции, которую Корбен, переводя сложные технические термины Сохраварди, определяет как l'estimatif, «эстиматив». Эстиматив можно описать как функцию вычисления, рассудочного упорядочивания. Эстиматив, по Сохраварди, есть дьявол, Иблис. Он великий тюремщик, который держит в рабстве sensorium. Этот режим обращенности вовне и порождает индивидуума, человека как сингулярность. Данная идея созвучна с взглядами Шеллинга, который понимал индивидуума как грех.
Именно обращение sensorium'а вовне и развертывает структуры внешнего мира, каким мы его воспринимаем в состоянии бодрствования. Не материя делает его состоящим из ограничений, «земным», но работа sensorium'а в режиме эстиматива. То есть sensorium не просто воспринимает данный внешний мир, но творит его через отчуждение от самого себя, оказываясь во власти рассудочного дьявола. Поэтому дьявол — «князь мира сего», но он творит «сей мир» не сам; он через суггестию рассудка превращает мир в широком смысле, как то, что способен воспринять sensorium, в мир сей. Этот «сей мир» философы Ишрака называют «мир западного изгнания». Таким
изгнанием является индивидуум как тюрьма и отчуждение sensorium'а от самого себя.
Задачей человека, по Сохраварди, является возвращение из «западного изгнания» к Востоку вещей. Поэтому эта философия и называется Ишрак, «Восток», «Восход». Первым этапом этой антропологической реализации является обращение sensorium'а на самого себя. Это подобно состоянию сна, когда воспринимаемые вещи утрачивают жесткую упорядоченность рассудка, мир становится жидким. На санскрите слово «сон», этимологически связанное и с русским «сон», означает «вхождение в себя». Поэтому засыпая, человек становится человеком в большей степени, нежели в состоянии бодрствования. Отсюда можно вывести крайне увлекательную антропологию сновидений, чем в значительной мере и занимался круг К.Г. Юнга.
Но состояние сновидения, когда sensorium предоставлен самому себе и не находится под гнетом эстиматива (рассудка=дьявола), будучи перенесенным в область бодрствования, порождает эффект безумия, опьянения, психического расстройства, «грезы наяву». Эстиматив (=дьявол) подсказывает индивидууму, что такое состояние разрушительно и фатально, т. к. в нем исчезает порядок, а значит и сам индивидуум. Отождествленный с внешним режимом работы sensorium'а, индивидуум поддается на уловку и бежит от безумия и грезы, т. е. от самого себя. Так рассудочный дьявол превращает в «дьявола» внутренний мир самого человека, заставляя его снова и снова фиксировать неподвижные кабальные структуры бодрствования — с его необходимыми атрибутами: разделенностью предметов плотного мира, эго, волением, желанием, стремлением к собственности. Тема связи методологического индивидуализма и частной собственности прекрасно показана у Л. Дюмона[47]. Отчуждение пугает индивидуума хаосом и тем самым все более укрепляет свою хватку над человеком, замыкая его на периферии самого себя.
Здесь, по Сохраварди, заключается главная проблема: индивидуум должен преодолеть гипноз эстиматива и совершить побег из западной темницы. Вначале он должен отдаться водной стихии сновидений (режим воды). И в этом состоит риск. Поэзия и искусство в целом являются привилегированной зоной такого хаотического состояния, где sensorium предоставлен самому себе.
А далее начинается световая антропология. Sensorium, поработав некоторое время в автономном режиме, начинает испытывать притяжение к полюсу, обратному эстимативу. Этот полюс находится внутри и становится различим только тогда, когда sensorium обращен от внешнего мира в обратном направлении. Это же самое Плотин имел в виду, когда говорил, что по-знавать мы можем только с «закрытыми глазами». Обратившись вовнутрь, sensorium начинает повергаться новой структуризации, и даже можно было бы сказать «новой индивидуации», т. к. его структуры упорядочиваются, и открывшийся мир приобретает гармонические и иерархические черты. В философии Ишрака это называется «на-коджа-абад» («страна-нигде»)[48], страна Хуркалья, мир тысячи городов и т. д. Субъектом нового мира (среднего мира, мезокосма, имажиналя, alam al-mithal, малакут) остается все тот же sensorium, но только структурирующийся под воздействием инстанции, альтернативной эстимативу-дьяволу. Эта инстанция есть «световой человек», «пурпурный архангел», «десятый интеллект». Развернутый внутрь sensorium'а имажиналь есть зона онтологической антропологии. Там человек впервые становится человеком сущностно и аутентично. Осознание себя отражением «светового человека», его «сыном», завершает антропологический маршрут и определяется как воскресение или возврат. Задача человека, таким образом, состоит в том, чтобы стать человеком, совершив пилигримаж от антропологического Запада к антропологическому Востоку.
Платоническая антропология в разных традициях
Максимальный гуманизм платоновского типа можно встретить в разных традициях — как в скрытом, так и в откровенном виде. Наиболее эксплицитное выражение он получил в философии эпохи Возрождения — от Марсилио Фичино и Пико делла Мирандолы до Джордано Бруно и всей линии «розенкрейцеровского просвещения», которую подробно разбирала Фрэнсис Йейтс[49]. Это собственно и называлось изначально в европейской культуре «гуманизмом». Это важно, т. к. имя «гуманизм» более всего подходит, действительно, к платонической антропологии, поскольку человек (человек-эйдос, антропологический Восток) здесь мыслится как центральная и самодостаточная онтологическая категория. Ренессансная культура и ее отголоски, вплоть до немецких романтиков, и вдохновленных ими Шеллинга и Гегеля, строится именно на принципе «космического человека», человека-мага, который стоит в центре вещей и вбирает в себя индивидуума, возводя его до царственного поста среди вещей мира. В данном случае «гуманизм» понимается как «максимальный гуманизм» и это вполне соответствует тому смыслу, который вкладывали в это понятие титаны Возрождения.
Ренессанс в этом плане должен быть изучен как попытка построения общества на основах такого максимального гуманизма, где платонизм и идея Sophia Perennis, понятой как полюс медиации и, соответственно, как манифестация «космического человека», служили бы мифологической, философской и отчасти религиозно-культовой структурой. В этом смысле, следует также особое внимание уделить тезису Марка Седжвика[50] о филиации традиционалистской философии ХХ века (Р. Генон, Ю. Эвола, Ф. Шуон, Т. Буркхардт и т. д.), ведущей именно к этой эпохе и ее интеллектуальным центрам.
Герметизм как самостоятельное явление, получившее особое развитие в эпоху Возрождения, существовал и в Средневековье и уходит корнями в греко-египетский и шире восточно-средиземноморский синкретизм позднего эллинизма, неразрывно переплетаясь там в дальнейшем с собственно неоплатонизмом. Но именно в Возрождении эта «параллельная религия», основанная как раз на «максимальном гуманизме», выдвинула претензию на то, чтобы стать почти официальной идеологией и социокультурной форме западноевропейского общества.
В индуизме в адвайта-ведантизме, шиваизме и йоге мы встречаем некоторые течения, которые точно соответствует такой антропологии. Не только сюжеты, связанные с фигурой Пуруши, «космического человека», относятся к этой сфере, но и сама базовая для адвайта-веданты установка на тожде-ство «Атмана и Брахмана» («я» и «абсолюта»), а также тантрические конце-пции о неподвижном полюсе Шивы, который развертывает свою мощь через свою женскую ипостась, Шакти, вплоть до индивидуума, который призван, встав на путь инициации, проделать это движение в обратном направлении — вначале растворившись в стихии Шакти (режим воды), затем отождествившись с Шивой, т. е. стать «человеком».
В монотеистических религиях максимальный гуманизм мы встречаем в эзотерических течениях. В иудаизме это каббала, с ее концепциями об «Адаме Кадмоне» и о тождественности Шекины, женской ипостаси Бога, с еврейским народом.
В Исламе кроме философии Ишрака, где эта идея представлена наиболее полно, мы встречаем ее в суфизме (особенно у Ибн Араби), в шиитской имамологии? и особенно у исмаилитов и друзов, а также в учении Хайяна ибн Джабира, крупнейшего исламского герметиста, и Моллы Садра (эта линия исчерпывающе исследована А. Корбеном и Х. Насром[51]). Имамология основана на отождествлении скрытого имама с совершенным человеком.
В христианстве антропологический максимализм в чистом виде встречается только в сектах (в частности, в иудео-христианских ересях типа эбионизма), но косвенно просвечивает через христологию, и в Новое время тяготеет к более открытому выражению в христианской мистике, философии и герметизме.
В ХХ веке к такому пониманию человека тяготеет философия Хайдеггера, Dasein которого с его двумя режимами существования (аутентичным и неаутентичным) может быть рассмотрен как приглашение к построению «нового гуманизма», во многом повторяющего модель, которую мы рассматриваем. Не случайно, что А. Корбен, который всю свою жизнь посвятил изучению «максимального гуманизма» в исламской мистике, в юности переводил Хайдеггера и, что показательно, предложил для передачи смысла слова Dasein на французский язык выражение «la realité humaine»[52], «человеческая реальность». Сам Хайдеггер в своем знаменитом «Письме о гуманизме»[53] к Ж. Бофре пишет как раз об этом. И хотя Хайдеггер критикует платонизм в целом, особенно базовую для него теорию идей (трансцендентальное измерение), новый гуманизм Хайдеггера многими чертами напоминает именно максимальный гуманизм платонического типа, взятый в его имманентном измерении — в духе философии Дж. Бруно.
Еще одной фигурой, которую вполне можно причислить к представителям максимального гуманизма в ХХ веке, является К.Г. Юнг. Его теория «коллективного бессознательного» и является постулированием общего содержания человеческого, которое и выступает материалом для процесса индивидуации, составляющего смысл личной судьбы и личной истории отдельной человеческой особи. То, что подвергается индивидуации и то, что индивидуализирует себя в ходе этого процесса — это и есть «человек-эйдос», различные символы которого Юнг подробно изучал в своих работах[54].
Сухой путь и трансцендентный человек
Классическая антропология, основанная на платонизме, предполагает упразднение индивидуума и его автономной онтологии. Чтобы человек был, индивидуум должен исчезнуть. Чтобы всеобщее началось, частное должно закончиться. Это можно понять как ориентацию на растворение индивидуальности в «мировой душе». Такое растворение, в принципе, и предполагается различными формами платонизма, в том числе учением Плотина.
Но Плотин в своей триадической модели соотносит принцип индивидуации с телом и материей (=эстиматив), отдельную душу — с «мировой душой», но еще вводит и ум, νοῦς, соотносимый с миром идей. Этому соответ-ствуют три мира исламской метафизики: мульк (телесный мир), малакут (средний мир, мир воображения — алам аль-митхаль) и джабарут (чисто духовный мир, мир могущества). В платонической антропологии человек-эйдос расположен в центре мира малакут, т. е. на полюсе «мировой души». И движение индивидуума к своему бытию равнозначно его дезиндивидуации, освобождению от материальности эстиматива и, соответственно, его растворению в целом. И в одном месте Плотин равно это и утверждает[55]. Но в другом месте он же описывает несколько иную картину, когда полного растворения не происходит. Можно определить движение к «мировой душе» как тангенциональное, т. е. по касательной. Связано это с наличием у индивидуума ума (νοῦς), который, согласно Плотину, способен созерцать высшие миры идей, стоящие радикально выше мировой души. Это свойство ума (понятого в чисто духовном смысле) не позволяет рассматривать отождествление с «большим человеком», находящимся в мире малькут как последний жест исчезающего индивидуума. Если бы это было так, то ум гас бы, утрачивая свою самобытность. Поэтому в индивидууме есть нечто, что не подлежит слиянию с «мировой душой», но это не имманентная индивидуальность материального мира, конструируемого бодрствующим сознанием, но способность глубинного умозрения трансцендентных бездн. Неоплатоники (в частности, Прокл[56]) называли эту способность επιβολή, что мы переводим как «интеллектуальную интуицию» или «интеллекцию» (Шеллинг), и что включает в себя парадоксальное объединение трех моментов неоплатонической диалектики одновременно: μονή, πρόοδος επιστροφή. Этот ум/дух не растворяется в «мировой душе», но сохраняет свое отличие от нее.
Здесь можно вспомнить различие, проводимое Р. Геноном между «совершенным человеком» («универсальным человеком») и «трансцендентным человеком»[57]. «Совершенный человек», по Генону, это восточный полюс антропологии и он совпадает с «мировой душой» (или «золотым зародышем» индуизма, хиранья гарбха[58]). Но «трансцендентный человек» — это нечто иное и обладающее дополнительным измерением (которое соответствует миру джабарут).
Здесь очень важно подчеркнуть, что в рамках разбираемой нами платонической антропологии во всех случаях индивидуум оказывается снятым — как в виде земной особи бодрствующего сознания (находящейся под гнетом эстиматива), так и в виде отдельного sensorium'а, призванного полностью раствориться в «мировой душе»; а то, что не подлежит снятию, не принадлежит индивидууму ни в каком смысле — это свойство соучастия во вселенском уме (νοῦς). На акцентировании свободы ума как от бодрствующего состояния, так и от перипетий внутреннего путешествия к «большому человеку», основана философская сотериология и интеллектуальная теургия: с опорой на ум можно низводить в феноменальный мир идеи и начала, и подниматься к небесным высотам чистого созерцания.
Так в платонической антропологии появляется еще одно измерение, трансверсальное всему тому горизонту, где осуществляется динамика развертывания человеческого — от человека-эйдоса к человеку-индивидууму и обратно. И хотя Генон предлагает говорить о «трансцендентном человеке», т. е. снова именно о «человеке», все же более уместно здесь использовать понятие Бога, Логоса, трансцендентного в отношении человека во всем его содержании. Логос нейтрален к индивидуальному человеку и к человеку всеобщему, он качественно превосходит и того и другого.
Здесь, вероятно, уместно вспомнить два пути алхимического Великого Делания: сухой и влажный. Сухой путь предполагает резкий скачок от индивидуума к духу через извлечение пробуждающего содержания, заключенного в уме. Влажный путь постулирует необходимость предварительного путешествия по «внутренним водам» к полюсу «универсального человека».
Здесь, однако, стоит поставить вопрос: а можно ли отнести полюс, к которому направлен сухой путь, к антропологическому? Можно ли считать «трансцендентного человека» еще «человеком», хотя и в самом широком смысле?
Sensorium есть голографическая часть «мировой души», человека-эйдоса, который делает человека-индивидуума человеком. Поэтому приложение к человеку-эйдосу имени «человек» полностью оправдано, т. к. речь идет об имманентном тождестве природы. Человек-эйдос — это человек, а человек есть человек в той степени, в которой он родственен и идентичен человеку-эйдосу, пока мы остаемся в рамках топики, которая может рассматриваться автономно. Человек-эйдос не метафора, а именно человек как сущность человеческого. В человеке-эйдосе человек-индивидуум исчезает полностью и без остатка.
Когда мы говорим о «трансцендентном человеке», понимая под ним духовную идею, Логос, мы явно выходим за границы имманентной антропологии. В данном случае речь идет только о метафоре, т. к. более точно было бы назвать эту инстанцию как раз не-человеческой или божественной. То есть при обращении к νοῦς мы переходим от области антропологии к области теологии, и хотя эти сферы тесно связаны и вполне могут быть объединены в обобщающей «теоантропологии» (как это имеет место в христианстве и, конкретно, в христологии), все же продление человека напрямую в Логос это, если угодно, искусственная операция, т. к. сечение Логоса трансверсально всей антропологической плоскости — от периферии до центра. Восток и Запад антропологии принадлежат одному горизонту, горизонт Логоса рассекает его вертикальной геометрией, что и подчеркивается названием «трансцендентный» (в формуле Генона — «трансцендентный человек»).
Человек соборный
Совсем иначе антропология структурируется в модели реализма. Здесь индивидуум имеет значение как основной и единственный носитель человечности. Однако эта человечность, будучи формой (μορφή) индивидуума, есть также его энтелехия, т. е. цель. Это и можно называть личностью в философском смысле: реализация человеческого в индивидуальном. Такая реализация не просто возможна, но необходима и составляет сущность человеческого индивидуума. То есть у человеческого индивидуума заведомо есть цель — стать человеком. Это становление человеком индивидуума тождественно его становлению личностью. Такое становление строится вокруг сосредоточения индивидуума на своей внутренней стороне через процесс παιδεία, образования, в ходе которого и созидается человек. Потенция человеческого, заложенная в особи, актуализируется. Таким образом, становление человеческой личности идет по мере преодоления индивидуальности и ее движения ко всеобщему, но индивидуальное (а, следовательно, и материальное), все же с необходимостью всегда сохраняется как обязательная опора человечности.
В религии такая реалистская антропология подробно развита в христианстве и описывается принципом соборности или церковности. Индивидуальные верующие собираются в единое сообщество (Церковь), образуя коллективно церковную личность, движение в сторону которой есть параллельно строительство индивидуальной личности каждого христианина. Человек как универсальное в таком случае не дан заведомо (как в классическом платонизме), но созидается личностными усилиями индивидуумов, направленных к общей цели — реализации общей для всех энтелехии. Нечто подобное можно распознать в теологических размышлениях мусульманских ученых о природе исламской уммы, а в иудаизме — о природе «избранного народа».
Но теологический контекст предполагает в процессе конструирования «всеобщего человека» обязательное обращение к трансцендентному, т. е. центральную роль принципиально нечеловеческого, божественного начала.
Все три монотеистические доктрины решают теоантропологическую проблематику по-своему.
В христианстве этот вопрос стоял в центре христологических споров, где все предлагаемые, в том числе отвергнутые Соборами, решения представляются чрезвычайно содержательными с антропологической да и собственно теологической точек зрения.
Антропологический максимализм здесь ярче всего проявился в арианстве, позднее в несторианстве и многочисленных побочных версиях, а в поздние эпохи мы видим явные черты его в протестантизме. Все эти течения ориентированы на то, чтобы видеть в Христе в первую очередь человека, либо как единственную природу (эвионизм), либо как преобладающую. Эта христология (Christos Prophetas) позднее вошла в строгий монотеизм Ислама.
Антропологический минимализм дал о себе знать в противоположной — монофизитской — версии (в смягченной форме в монофелитстве). Здесь вопрос о соотношении божественной и человеческой природы во Христе решался в пользу Божества. Тем самым христология переносилась преимущественно в область тринитарной теологии, на которую и ставился акцент.
Победившая православная точка зрения — диафизитство и диафелит-ство — отказывается от обеих крайностей и утверждает такую версию теоантропологии, где ни одному из полюсов не отдается окончательного предпочтения: у Христа две природы — Божественная и Человеческая, Он в полном смысле слова есть Сын Божии и Сын Человеческий.
Католическая схоластика развернула православную христологию в гигант-ское интеллектуально-философское поле, где все возможные выводы относительно отношения человеческого индивидуума к его человеческой природе, и отношение обоих к Богу были досконально осмыслены. Именно это и стало основ-ной проблемой спора об универсалиях, где и выкристаллизовались три позиции: идеализм Скота Эриугены (радикальный неоплатонизм), реализм Фомы Аквинского (ставший догматической нормой католической теоантропологии) и номинализм францисканцев Росцеллина и Оккама (положивший начало позднейшему англосаксонскому эмпиризму, позитивизму и либеральному индивидуализму).
Таким образом, ортодоксия и ереси исчерпывают все варианты формулировки теоантропологических теорий в христианстве.
Ислам настаивает на строгой трансцендентности Бога, что последовательнее всего выражено в каламе, у мутазилитов, а также у представителей ханбалитского мазхаба. Антропология как таковая является уделом инициатических и мистических течений (суфизм, шиизм, Ишрак, отчасти, исламская философия). Общий контекст Ислама сосредоточен на чистой теологичности. Поэтому индивидуальный момент в Исламе практически уравнен в правах с всеобщей человечностью. Так как Бог радикально трансцендентен, то он равно далек и близок как отдельному индивидууму, так и группе индивидуумов, двигающихся к построению соборной личности. Самая успешная и образцовая соборная (собранная) личность не имеет ровным счетом никаких иерархических привилегий в контакте с Божеством. Поэтому перед лицом трансцендентного между человеческим индивидуумом и соборным человеком устанавливается своего рода негативное тождество. И Восток и Запад человека одинаково удалены от нечеловеческого верха. Поэтому в Исламе нет таких явлений, как церковь или жреческая иерархия. Умма построена вокруг Логоса, перед природой которого и индивидуальное и человеческое призвано склониться, признав свое смиренное «ничтожество». Исламская умма собирает человеческое в индивидууме только для того, чтобы напомнить индивидууму о теологической вертикали. Поэтому в Исламе зона гуманизма остается довольно узкой и фиксируется в области инициатиче-ских (или просто маргинальных) течений.
В иудаизме, напротив, соборный гуманизм реалистского типа имеет намного большее значение, чем в Исламе, и конкретизируется в концепции «избранного народа», который представляет собой совокупность человеческих индивидуумов, реализующих общую энтелехию в процессе развертывания священной истории Израиля. Бог остается строго трансцендентным (в официальной теологии, откуда следует исключить каббалу и мистические течения), но чтобы утвердить эту трансцендентность должным образом, на втором имманентном полюсе конструируется исторически особый «человек», «еврей» как коллективная личность, в которой дисконтируются все остальные человеческие индивидуумы, понимаемые как «евреи в потенции» (геры или гоим), относящиеся к антропологической периферии, тогда как сами евреи занимают в антропологии центральное место.
От собора к коллективу (секулярный реализм)
Соборный (собирательный, коллективный) гуманизм имеет и секулярные версии, где трансцендентная вертикаль снята. Здесь имеется множество версий.
Гражданское общество у Канта строится как раз на этой модели: индивидуумы, осознавая свою человеческую природу, сводящуюся к «чистому разуму» и «практическому разуму», создают это гражданское общество по мере того, как каждый из них (через воспитание и образование) возводит самого себя к разумной и просвещенной личности. Человечество здесь не просто дано, но строится, являясь заданием.
Коллективность человека, соборность его человеческой природы становится главной идеей как прогрессистского позитивизма Конта, так и основой социологии Дюркгейма, где коллективная человеческая природа, «антропологический Восток», отождествляется с обществом. В рамках уже самой современной социологии мы снова сталкиваемся с двумя моделями — социологическим холизмом Дюркгейма, утверждавшим полную первичность общества над индивидуумом, и индивидуализмом у М. Вебера, где общество, напротив, интерпретируется исходя из индивидуума. «Антропологический Восток» или сущность человека теперь становится отправной точкой и основным предметом изучения специальной науки — социологии. А в таких
ее направлениях как социальная антропология (Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун, Э. Эванс-Причард и т.д), культурная антропология (школа Ф. Боаса) и структурная антропология К.Леви-Стросса это осмысливается на новом уровне и на сей раз совершенно эксплицитно.
Оригинальную версию соборной антропологии дает К. Маркс. В его случае единое человечество, родовой сущностью которого является труд, в истории разделяется на два антагонистических класса — пролетариат и буржуазию. Торжество гуманизма возможно только в том случае, когда пролетариат будет интегрирован в сознательную политическую силу, способную свергнуть эксплуататоров, победить отчуждение и утвердить трудовую энтелехию как свободу. В коммунизме Маркса индивидуальное и всеобщее гармонично примиряются через сознательную реализацию индивидуумами всеобщности человеческой природы, состоящей в трудовой деятельности. У О. Конта и у Э. Дюркгейма интеграция индивидуумов осуществляется через осознание целостного горизонта в разделении труда.
Другой версией соборной антропологии можно считать различные расистские учения, где «антропологический Восток» отождествляется не с религиозной общностью Завета (как в иудаизме) и не пролетарским классом (как у К. Маркса), но с расой (чаще всего белой). «Расовая гигиена» выражает свойственный этому течению страх перед утратой того общего начала, той формы, которая наглядно объединяет определенные группы человече-ских индивидуумов. При этом расово однородные индивидуумы, по мнению расистов, объединяясь в расово «чистые» общины, не утрачивают своей индивидуальности, но реализуют ее в ходе расового социогенеза и соучастия в коллективной истории.
Все эти разнообразные и подчас противоречащие друг другу версии реалистской антропологии имеют одну главную отличительную черту: они придают самостоятельное онтологическое значение человеку как эйдосу (как бы они ни описывали эту инстанцию — как церковь, «избранный народ», религиозную общину, класс или расу), но утверждают, что всеобщее в человеке реализуется только через индивидуальное, значение которого никогда не исчезает до конца.
Индивидуализм, либерализм, нигилизм
В номиналистской версии гуманизма бытием обладает только индивидуум. Такая модель антропологии набирает силу в Новое время, хотя ее предпосылки были сформулированы в споре об универсалии во францисканской традиции намного раньше. Как мы уже говорили, в этом случае сам термин «гуманизм» существенно меняет свой смысл и представляет собой, напротив, нечто прямо противоположное гуманизму как таковому и особенно максимальному гуманизму. Те, кто вкладывает основную реальность в индивидуума, делает человечность индивидуума конвенцией, условностью, не сущностью, но искусственным конструктом, основанном на контракте или консенсусе. Таксон вида не имеет автономного бытия (это и хочет сказать Оккам со своей бритвой и предложением «не множить сущности»); следовательно, человечность индивидуума — это вопрос удобства классификации, а не онтологический факт.
В философском и социологическом смысле трактует человека как «сущностный недостаток» или «недостаточное существо» (Mangelwesen) Арнольд Гелен[59], полагающий, что онтологическим содержанием наполняет человеческих индивидуумов внешнее для него упорядочивающего общество, снабжающее всеми необходимыми инструментами для взаимодействия с окружающей средой, другими индивидуумами и самим собой. Привация, таким образом, мыслится как сущность человеческого.
Философский и отчасти парадоксалистский подход А. Гелена является исключением среди большинства индивидуалистических теорий минимального гуманизма, где вопрос о природе человека просто не ставится. Либеральный философ Дж. С. Милль ограничивается тем, что рассматривает понятие внутренней свободы («свободы для», freedom в отличие от «свободы от», liberty), как личное дело индивидуума, т. е. содержание человеческого произвольно для индивидуума, а нормативным является лишь признание индивидуума центром вещей. В такой перспективе задавать вопрос: «что такое человек?» просто бессмысленно — индивидуум может давать на этот вопрос любой ответ.
Концепция минимального гуманизма эксплицитно и развернуто описана в работах Ф. Хайека и К. Поппера, на чем строится теория открытого общества и идеология прав человека. По сути, вся традиция мировоззренче-ского, политического, философского и экономического либерализма Нового времени строится на таком подходе[60].
Далеко идущие выводы из гуманиcтического минимализма делает уже Бернар Мандевиль[61], описавший еще в начале XVIII века идеал общества, состоящего из циничных эгоистов, думающих только о самих себе, но при этом в поисках удовлетворения собственных потребностей и желаний любыми путями, ведущих (без всякого желания) все общество к развитию, благосостоянию и прогрессу.
В радикальной форме крайние выводы описаны у М. Штирнера в знаменитом концепте «Единственный и его собственность»[62], в отличие от «общинного анархизма» Прудона, Штирнер сосредотачивает внимание на отдельном индивидууме, сводя «я» Фихте (субъект) к индивидууму. Он закономерно приходит к нигилизму («Ничто — вот на чем я построил свое дело», — пишет он). Штирнер отрицает любые социальные конвенции как ограничения для индивидуума. В определенных моментах своей философии он даже противопоставляет индивидуума «человечеству» и «человечности». Он утверждает, «что верно для человека, то не подходит Единственному», откуда следует релятивизация и даже отвержение рациональности (как главной общей черты для человеческого рода) и апология безумия («Только бессмысленность спасает меня от мысли»).
Штирнер проговаривает открыто то, что содержится в основе либерализма как такового, а именно предельный антропологический нигилизм релятивизация и декомпозиция человеческого, лишение его какой бы то ни было автономии.
К постчеловеку
Именно отсутствие в либеральной антропологии, основанной на исключительном индивидуализме, какого бы то ни было бытия у всеобщности и открывает возможность для постантропологии и трансгуманизма.
Доведя до логического предела минимальный гуманизм, мы получаем возможность построить новую, на сей раз постантропологическую модель. Если вернуться к нашей изначальной схеме, то основным субъектом (или объектом?) на сей как раз будет выступать точка (или сеть, ризома, грибница?), расположенная вне антропологического круга. Мы видели, что индивидуум есть движение точки на антропологическом круге вовне. Он может с этой позиции двинуться к центру (платонический гуманизм), может попытаться сконструировать этот центр путем собирания круга в нечто целое (аристотелевский/реалистский гуманизм), а может остаться на окружности и чувствовать себя самим собой, удовлетворяясь самотождеством и не задумываясь о глубине и сущности (либеральный гуманизм). Но теоретически можно представить себе и такой случай, когда индивидуум решает сделать шаг от себя в сторону чисто внешнего. Какое-то время он еще останется индивидуумом (хотя бы потому, что стартует с позиции), но его человечность (и так условная) начнет расплываться, подвергаться эрозии. Это и есть вектор трансгуманизма.
Вслед за правами человеческого индивидуума может быть поставлен вопрос о правах и иных индивидуумов, по крайней мере, тех, которые могут включиться в борьбу за них. Движения за права сексуальных меньшинств, животных и окружающую среду (в частности экологическая псевдорелигия «матери-земли», Гайа) уже показывают то направление, в котором может развиваться этот вектор. Индивидуум освобождается от всех признаков коллективной идентичности, включая гендер, эксплицируя тем самым привативность человеческого как такового. Если Гелен настаивает на заполнении пустоты этой «человеческой недостаточности» внешним порядком, то либеральная мысль делает прямо противоположный вывод и предлагает осмыслить этот нигилизм как нечто приемлемое, приятное и даже нормативное («свобода от», распространенная на все области). В гиперкапиталистиче-ской утопии либерализма Айн Ранд мы практически вплотную подходим к Единственному Штирнера, и соответственно, к радикальному нигилизму. Между человеческим индивидуумом с пустотной человечностью и уже не человеческим индивидуумом расстояние минимальное.
Индивидуумами теперь могут быть и киборги, и продукты клонирования, и результаты экспериментов в области генной инженерии и другие представимые (или пока слабо представимые) химеры и гибриды. Лишив человека как видового понятия его содержания, мы не можем надолго задержать развитие минимального гуманизма и индивидуализма в направлении полной ликвидации «человеческого».
Машина есть предельное выражение постчеловеческого индивидуума. Машина способна к совершению логических операций, к подсчету, к регистрации импульсов, к упорядочиванию релевантных данных и отбрасыванию нерелевантных. Социолог Николас Луман[63] в своей теории социальных систем предлагает модель человеческого общества как кибернетического устройства, с помощью кодов дешифрующего и упорядочивающего потоки информации. И если на первом этапе машины — в частности, вычислительные — воспроизводят грубые макеты таких социальных систем, то в ходе совершенствования техники они смогут на каком-то этапе сравниться с социальными системами по скорости, эффективности и производительности, в точности воспроизводя и даже еще развивая и уточняя систему кодов. Машины, созданные по образу и подобию человеческого общества, постепенно могут обрести определенную автономию, т. к. эстимативом они обладают вполне, и их калькуляционные способности сопоставимы с человеческими, и превышают их в некоторых направлениях. Сам Луман допускал, что человек есть частный случай системы, и что наряду с ним возможны иные системы. То есть построение постантропологической матрицы вполне теоретически возможно, и тема восстания машин, столь излюбленная фантастами, имеет все основания в какой-то момент стать эмпирически фиксируемым фактом (как сбылись в ХХ и XXI веках многие фантастические предвидения авторов века XIX).
Антропологические альтернативы: актуальность гуманизма
Актуальность темы гуманизма сегодня обоснована тем, что мы живем в обществе, где нормативным является минимальный гуманизм, т. е. либерализм и индивидуализм. Борьба за права человека, демократию, прогресс и модернизацию, а также глобализация проходят под знаменем идеологии прав человека. Мы имеем дело с явлением, которое называется «гуманизмом» все реже и реже, но, которое все же по инерции время от времени так называют. Так как эта антропологическая модель стала сегодня доминирующей и практически общеобязательной в мировом масштабе, нам чрезвычайно важно осмыслить ее содержание и ее отношение к иным формам гуманизма и другому пониманию человека, тем более, что глобализация все интенсивнее сталкивает западные и активно вестернизирующиеся общества с обществами незападными, где мы имеем все основания столкнуться с альтернативным антропологиями, а, следовательно, и с иным пониманием гуманизма.
С другой стороны, горизонты трансгуманизма становятся все ближе и ближе, и культура постмодернизма, забегая вперед социальных и политических институтов, уже ставит нас в среду постантропологии, где преобладают законы постчеловечества. Одних это может пугать, других вдохновлять. Кто-то, заглянув в бездну, немедленно отшатнется, хватаясь за иные антропологические модели (и поэтому так важно сегодня произвести еще раз их ревизию), кто-то с удовольствием туда низринется.
Минимальный гуманизм стремится выдать себя за последнюю по счету фазу исторического прогресса в области антропологии, как ранее иные формы гуманизма, начиная с европейского Ренессанса, осмысливали себя как моменты развития, превосходящие Средневековье и «старый мир». Гуманизм в целом служил в Новое время знаменем борьбы против теологии. Но постепенно метаморфозы самого гуманизма обратили его и против его сущности, т. е. против человека как вида (рода). Поэтому Хайдеггер предлагал обратиться к «новому гуманизму» как спасению от триумфа техники (не-аутентичного экзистирования), в котором осуществилась на практике дегуманизация человека и забвение о бытии.
Кроме того, если мы поставим под вопрос логику прогресса, которая в течение всего ХХ века становилась все более и более спорной и относительной, то мы увидим различные версии гуманизма, включая определенные версии теоантропологии как (как минимум) рядоположенные с той, что доминирует сегодня, грозя перейти в трансгуманизм. А это значит, что поспешность их преодоления и эвидентность их критики в ходе Нового времени могут в свою очередь оказаться неочевидными и быть подвергнуты критике. В этом структурализм, определенные практики философии постмодерна или философия традиционализма могут оказать нам неоценимую услугу и существенно обогатить наше представление о тех выходах, которые существуют в нынешней ситуации за пределом фатальности «расчеловечивания». Обращение к иным типам гуманизма в таком случае не будет непременно «шагом назад», но реализацией содержательной свободы, которая так или иначе составляет важнейшее (многие считают что основополагающее) свойство человека.
Глава 5. Метаморфозы Ангела (оппозиции и медиации)
Различие и контраст: оппозиции и структура Логоса
В основе мышления лежит различение. Степень контрастности различения отделяет людей от других живых и неживых видов. Человек различает в сравнении с ними предельно контрастно. Эта контрастность есть видовая черта человека как мыслящего существа. Мысль есть поле очень контрастного различения — настолько контрастного, что оно проецируется в языке. Язык есть кульминация контрастности, вещь становится настолько выделенной, выпуклой, отделенной от ткани бытия, что получает имя. Мышление и язык греки называли одинаково, одним словом λόγος. Это Слово, контрастность по преимуществу.
Раз есть различение, то есть и различенное. Это различенное состоит из естественных пар. Мышление дуально, всегда оперирует с одним и другим. Мы видели, что базовые пары, оппозиции лежат в основе глубинной фонемики языка — т. е. на уровне первичных связей знака (звука) и смысла. Н.С. Трубецкой выделял три принципиальных пары фонемических оппозиций: эквиполентную, градуальную и привативную. Можно принять это за три основные модели контрастных оппозиций, составляющих принципиальный арсенал человеческого мышления. В языке участвуют все три пары, но историки и лингвисты показывают, что соотношение между собой этих пар в структурах языка и речи может принципиально меняться. В зависимости от преобладания той или иной оппозиции зависит во многом вся структура культуры, общества, философии. Все три оппозиции человеческого мышления в целом чрезвычайно контрастны, и это делает их свойствами именно мышления и достоянием именно человека как вида. Но если мы будем сравнивать их между собой, то вскоре обнаружим, что эта контрастность в каждой из пар различна не только по степени, но и по качеству, и что можно допустить, что доминации одной из этих пар над другими соответствует тип оформления Логоса. Эта гипотеза с разных ракурсов и в разных контекстах рассматривается на протяжении всей данной работы, здесь же мы выскажем лишь некоторые общие методологические соображения о структуре базовых оппозиций и о том, как в рамках этих оппозиций осуществляется медиация между крайними терминами, поскольку выяснение характера этой медиации позволит нам лучше понять сущность оппозиций и интеллектуальную топику их структур.
Типы оппозиции определяют все: и философию, и религию, и теологию, и антропологию, и культуру, и политику, и право, и социальную организацию, и хозяйственные практики. В соответствии с ними организуются структуры мира, человека и определяется место, характер и статус Бога или богов.
Эквиполентные оппозиции: свойства
Начнем рассмотрение оппозиций и медиаций между их полюсами с эквиполентности. Считается, что это наиболее архаическая форма семантического оформления различения и наименее контрастная среди всех. В этой паре «одно» и «другое», «это» и «иное», «я» и «не-я» берутся как два нагруженных бытием рядоположенных явления, связанных между собой симметрией (чаще всего обратной), но при этом принадлежащих безусловной данности. Между одним и другим полюсами эквиполентной оппозиции существует онтологическая связь (и то, и другое безусловно и со всей наглядной очевидностью есть) и логическая симметрия (одно и другое относятся к общему таксономическому слою, позволяющему их различать для конструктивных целей верстки мыслительного процесса в его ядре). Примеры таких пар: «день» и «ночь», «мужчина» и «женщина», «огонь» и «вода», «гора» и «впадина», «небо» и «земля», «человек» и «бог», «человек» и «зверь», «верх» и «низ», «право» и «лево, «рука» и «нога», «сердце» и «голова», «змея» и «орел», «пес» и «кот», «пес» и «волк», «сон» и «бодрствование», «жизнь» и «смерть» и т. д. Эквиполентная трактовка этих оппозиций приписывает им безусловное и предположительно равное бытие и связывает их между собой особой нитью — принадлежности к той или иной базовой мыслительной диаграмме, к которой оба термина относятся.
День и ночь есть как время. Они связаны тем, что поочередно сменяют друг друга: ведь день сменяется именно ночью, а не грозой, осенью, лихорадкой, вином и т. д. При этом эквиполентность не знает такого понятия как «сутки», «день сам по себе», «ночь сама по себе». Они не принадлежат никакому целому, они различны и они есть.
Мужчина и женщина имеют анатомическое и видовое сходство, оба способны к языку. При этом в обрядовых и социальных практиках они постоянно занимают полярные позиции: мужчины охотятся, женщины собирают плоды и ягоды; мужчины публичны, женщины приватны; мужчины воюют, женщины воспитывают детей и т. д. Эквиполентность не выстраивает между гендерами никакой иерархии (так и обстоит дела в наиболее архаических обществах с примордиальной моногамией), фиксированное различие не влечет за собой качественных выводов. Во многих языках нет отдельного слова для обозначения «человека»: существует лишь отдельно «мужчина» («homo», «Mann», «l'homme»), отдельно «женщина» («femina», «Weib», «la femme»). В русском языке слово «человек» позднего происхождения и развивалось на основании притяжательного прилагательного «человечь» (чей).
Огонь и вода — стихии. Нельзя сказать, что из них лучше: если необходимо поджарить пищу или согреться, то нужен огонь; если сварить что-то или умыться — вода. И то и другое есть наряду друг с другом, но и в определенной оппозиции друг с другом: вода заливает огонь, огонь заставляет воду испаряться.
Гора, холм, герма, дольмен — нечто выпуклое. Впадина — вогнутое. Гора — избыток, впадина — недостаток. Но и то и другое представляют собой наличие, и обе связаны симметрией.
Человек может образовывать различные эквиполентные пары. В одной из них он, будучи телесным и бестелесным (воля, мышление, язык, сны), сопрягается с чем-то более телесным (зверем); в другой — с чем-то менее телесным (богом, духом). В обоих парах человек есть наряду со зверем и духом. Он телесен, как и зверь, но отличен от зверя (язык, высокая контрастность различений). Он духовен, как и бог, но отличен от него видимостью и материальностью (бог невидим и нематериален). Человек, зверь, бог в равной мере есть — один наряду с другими.
Разметка пространства право/лево, верх/низ, земля/небо в эквиполентной семантике не несут неснимаемых противоречий, как и все остальные пары: и то, и т. е. как данность и связано логически. Они помогают ориентироваться в пространстве, упорядочивать вещи, говорить и мыслить. На этом их функция исчерпывается.
Симметрия органов человеческого тела — другой типичный пример эквиполентной оппозиции, внятной нам и в современном языке. Разные органы и конечности отвечают за разные функции: они принадлежат к телу и их область ответственности вместе с тем разнесена. Эквиполентность здесь очевидна: представлять себе руку как слабую ногу или пальцы ступни как недоразвитые (несовершенные) пальцы ладоней, а мозг как «недоразвитое» сердце вряд ли кому придет в голову.
Таксономию животных видов легко проследить на различных осях такого животного, как пес. В сравнении с котом, другим домашним животным, пес представляет собой силу, мощь, массивность, агрессивность и ярость (лай, укус, атака). Но в сравнении с диким волком, собака — нечто условное, слабое, хрупкое, ранимое, очеловеченное. В обоих парах все полюса есть и связаны друг с другом. Связи разные и сами полюса в обоих таксономиях различны, хотя в обоих случаях речь идет о собаке. В обеих осях оппозиций собака есть, но есть по-разному — в зависимости от структуры связи.
Оппозиция змея/орел вызывает двух агрессивных диких животных, относящихся к полярным стихиям — плотной земле и разреженному воздуху. Змея движется вглубь в земли, в нору. Орел вьет гнездо на вершинах. Змея атакует снизу, орел сверху: оба внезапно и жестоко. Между ними есть онтологическая связь и одновременно полная автономия.
Сон и бодрствование — два равнозначимых в эквиполентной паре состояния, в которых человек пребывает в одинаково реальных (или нереальных) мирах. Мир сновидений и мир бодрствования есть точно так же, как есть день и ночь, гора и яма, мужчина и женщина, рука и нога, змея и орел и т. д. Они симметричны, различны и безусловно даны.
Точно так же с парой жизнь/смерть. Это фиксация двух равноправных сторон бытия. И снова они в равной мере есть, но их симметрия, их топика отличаются — разве так уж много общего у огня и воды, у орла и змеи, у горы и дыры? Немного, но есть. Полюса эквиполентной оппозиции не могут быть полностью одинаковы, они должны различаться. Но чтобы говорить о паре они должны вместе с тем иметь некую логическую или символическую связь. Поэтому смерть не есть копия жизни, как ночь не есть копия дня. Это нечто другое, отличное, но в то же время вполне реальное и даже эмпириче-ски данное. Данное в самой структуре эквиполентного мышления.
Медиация в эквиполентных парах: бытие, война, любовь
Теперь рассмотрим характер медиации в эквиполентной паре.
Напомним, что речь идет о мышлении и его структурах, следовательно, есть полюс мышления, который и конституирует эквиполентные оппозиции. Этот полюс здесь слабо локализирован, и это составляет одну из особенностей эквиполентных пар: именно слабая локализация полюса мышления легко переносит свойство бытия на любые пары и, в первую очередь, на второй член базовой пары я/не-я. Не-я столь же безусловно есть, как и я. Мыслимое столь же безусловно дано, сколь и мыслящее. Видимое есть в той же степени, в какой есть видящий, и т. д. Это снабжение второго полюса бытием и есть главная особенность медиации в эквиполентных оппозициях. Снабдив бытием не-я, мы получаем первую парадигмальную пару, по аналогии с которой строятся все остальные. Не-я лежит наряду со мной, так же реально, как я. Значит, не-я есть и я есть. Не-я и я составляем пару двух неопределенных множеств. Фокусируя внимания на отдельных элементах, мы выстраиваем новые и новые пары, каждая из них будет повторять структуру первой: один полюс и другой будут наделены безусловным бытием и связываться друг с другом в той или иной симметрии.
Главное здесь — момент наделения своим бытием не себя, ничем не сдерживаемая проекция очевидности жизненного присутствия на другого. Сознание, работающее преимущественно в режиме эквиполентных оппозиций, не задумывается над тем, соответствует ли эта доверительная проекция бытия на другого истине. Феноменологи (Брентано, Гуссерль) называли это «ноэтическим мышлением», «интенциональностью», а позднее Гуссерль предложил понятие «жизненный мир» (Lebenswelt). Эквиполентность соответствует такому «наивному» сознанию, не ставящему вопроса о бытии сущего. Все воспринимаемое и есть сущее, т. к. сущим и безусловно сущим является воспринимающее. На этом строится вся культура эквиполентности.
Такая установка создает бытие двух различных вещей, а, следовательно, обеспечивает бытие множества вещей, каждая из которых безусловно и гарантированно есть, коль скоро есть оба полюса первой пары — я и не-я. Появляясь (в поле сознания), вещь обязательно встроена в пару (это обеспечивает ее принадлежность к порядку) или в различные пары. При этом она не может исчезнуть окончательно, т. к. тезаурус пар обязательно содержит место для каждой из вещей и может быть при необходимости достроен через новые оси. Исчезновение того или иного предмета из культа, ритуала или хозяйственной практики обязательно сохраняет функциональный топос этого предмета в культурном ансамбле, заменяя семантическим эквивалентом или отсылая в область предания (на этом основан функционалистский метод исследования архаических обществ Б. Малиновского и его последователей из английской школы социальной антропологии).
Если приписывание каждому полюсу эквиполентной пары бытия есть сущность медиации между ними (главное в этой медиации есть утверждении о бытии обоих полюсов), то характер связи может варьироваться в зависимости от ситуации или от взаимоотношений между полюсами.
Если следовать за досократиком Эмпедоклом, то можно сказать, что все пары соединены между собой альтерациями любви и ненависти, сближений и отталкиваний. Пара божеств Арес и Афродита описывают наиболее общие случаи эквиполентных связей. Можно сказать, что война и любовь здесь — две фундаментальные стороны медиации.
Арес, бог войны, воплощает в себе различие между полюсами, и это различие вполне может конфигурироваться как вражда, раздор, противостояние. Полюса эквиполентной пары, будучи онтологически независимыми, вполне могут пойти войной друг на друга. Оттого, что они становятся врагами, они не увеличивают и не уменьшают своего бытийного веса; они были, есть и будут, и враждебность есть лишь одна из возможных артикуляций связей между ними. Гераклитовское высказывание о том, что «война есть отец вещей», вполне применима к этой ситуации. Война, вражда, раздор, ссора — это вполне нормальное логически состояние связи между терминами эквиполентной оппозиции: ведь должны быть формы выражения их различия, должна быть процедура фокусирования его контрастности. Контрастное мышление — воинственное мышление, поэтому война является столь же неотъемлемым свойством человека и человеческого общества, как еда или деторождение. Человек не может не воевать, иначе он озвереет. В большинстве мифологий и религий боги также воюют между собой или с другими существами. Тем самым они проводят разделительные линии. Но война в структуре эквиполентных оппозиций никогда не ведется на уничтожение. Здесь нет самого понятия «уничтожение»: раздор проходит при абсолютном признании бытия другого и его онтологического права быть другим; она не признана упразднить другого, снять его наличие, но лишь напомнить, что другое — это другое, а не это, это своего рода «война форм». Собаки и кошки, мужчины и женщины, волки и овцы, боги и люди оказываются в определенных ситуациях по разные стороны битвы, но их война не ведет к исчезновению или уничтожению кошек, собак, мужчин, женщин, богов и людей — эта война конститутивна для эквиполентных оппозиций и является их закономерной и жизнеутверждающей основой. Воюя друг с другом, полюса здесь нуждаются друг в друге, не могут быть друг без друга, поэтому они озабочены в сохранении бытия противника не в меньшей степени, нежели в доставлении ему неприятностей.
Любовь — другая форма той же медиации. Два полюса эквиполентной оппозиции выражают свою связь через сближение, которое отражает сразу два момента: экстатическое заявление о бытии обоих частей (это вытекает из самой эквиполентности) и принадлежность к общему таксономическому ряду. При этом в любви не снимаются различия, не стираются грани, отделяющие один полюс от другого. Как война в эквиполентной медиации не ставит целью уничтожить другого, так и любовь в этой медиации не стремится к полному единству, т. к. при этом будет утрачено напряжение, различие. Это любовь как игра, как наслаждение, как фундаментальный акт сознания.
Градуальная оппозиция: эрото-ангелическая медиация
Градуальная оппозиция организована совершенно иным образом, нежели эквиполентная. В ней присутствует обязательная имплицитная иерархия: один термин лучше, главнее или больше другого. Члены оппозиции обязательно сравниваются между собой, а то, что не подлежит сравнению, градуальной пары не образует.
Градуальная оппозиция, так же, как и эквиполентная, предполагает, что оба члена рассматриваемой пары есть, принадлежат бытию, наделены причастностью к нему. Но это бытие распределено в них уже неравномерно: в одном (главном иерархически) члене бытия больше, в другом (подчиненном) меньше. В некоторых случаях к высшему члену оппозиции низший член полностью сводится как часть к целому, в другом случае — нет, не совсем, но общее направление именно таково: высшее содержит в себе низшее, и отношения между ними обязательно и во всех случаях неравнозначны, т. е. собственно не «эквиполентны». Иерархичность здесь не предполагает отказа подчиненному члену пары в бытии или достоинстве, в ценности и значении. Только эти бытие, ценность, достоинство и значение, безусловно наличествующие, всегда уступают высшему члену, всегда меньше его.
Связь между полюсами градуальной оппозиции, т. е. медиация между ними, состоит в наличии третьего, промежуточного члена. Такой член становится здесь возможным потому, что градуальность предполагает непрерывность и относительность двух полюсов: оба они не просто наделены бытием, но относятся к одному типу, который мыслится как нечто существующее и целостное. В некоторых случаях этот тип отождествляется с верхним полюсом оппозиции (который в таком случае выступает как целое или вид), а других включает в себя оба полюса как нечто отличное от обоих. Но главное заключается в том, что оба полюса связаны типом, который сам по себе не есть только таксономическая условность, но наделен самостоятельным бытием. Бытие типа, общего для полюсов градуальной оппозиции, стоит в центре полемики Аристотеля с Платоном относительно бытия идей и позднее в центре Средневекового спора об универсалиях. Градуальная оппозиция имеет ярко выраженный платонический и неоплатонический характер и основана на понимании вещи как умаленной идеи, эссенции, ουσία. В споре об универсалиях ее полнее всего представлял идеализм Иоанна Скота Эриугены.
Именно принадлежность обоих полюсов градуальной оппозиции к имеющему автономное бытие общему типу позволяет ввести в медиацию средний термин. Этот термин будет иметь вполне самостоятельное значение, т. к. будет снабжен бытием самого типа точно так же, как полюса градуальной пары. Введение третьего члена как самостоятельного, автономного и наличествующего как сущее на равных основаниях с двумя полюсами, составляет уникальность медиации только и исключительно в градуально осмысленной паре противоположностей. Средний член, «золотая середина», всегда и непременно есть, может быть и должен быть. Сознание, дей-ствующее по этой логике, успокаивается только тогда, когда находит его. Введение третьего промежуточного члена превращает связь, дистанцию, отношение, «между» (Inzwischen) в выражение самой сути градуальности, разрешая напряжение между полюсами. Разрешаясь в третьем медиационном члене, это напряжение, однако, не исчезает, но интегрируется в особую ось, подобно вибрирующей струне: выбор точки медиации на этой струне дает определенный тон, заставляет напряжение между полюсами вибрировать и дрожать, причем всякий раз по-своему, в особом регистре. В диалогах Платона, где градуальная топика является не просто основной, но главной и единственной, примеры такой медиации с помощью третьего члена можно встретить повсюду. Ярчайшим примером является изложенное в «Пире» учение об Эросе, происходящем от Порocа и Пении, полноты и лишенности. Во-первых, оба полюса — полнота и лишенность — мыслятся как наличие и недостаток того, что содержится в наличии, т. е. уже градуальная оппозиция, а во-вторых, Эрос как средняя фигура обладает соб-ственным бытием; он полнее Пении (матери-нищеты), но менее полон, чем Порос (изобильный отец). Отношения между полнотой и нищетой строятся вокруг того, что является показателем полноты, и этой мерой, этим инструментом служит Эрос. Эротический характер медиации в градуальных парах далеко не случайность наугад взятого мифа; это константа всей этой структуры сознания. Поэтому в Античной Греции в некоторых случаях Афродита считалась покровительницей гетероэротической любви, а Эрос — гомоэротической, хотя позже этот нюанс исчез. Здесь наглядно видно различие между двумя типами оппозиций и медиаций: Афродита опосредует влечение друг к другу разного (в гендерном смысле), а Эрос — одного и того же (снова в гендерном смысле). При этом одно и то же в гомоэротизме, тем не менее, иерархизируется: высшим полюсом считается взрослый мужчина, полноценный гражданин, имеющий всю полноту социального статуса, низшим — юноша, метек, чужестранец, т. е. тот мужчина, который еще не до конца вступил в полноту гражданских прав или вообще ими в определенном смысле обделен.
Еще одним свойством градуальной оппозиции является возможность рассмотреть ее как открытую ось. Самостоятельное бытие промежуточного третьего элемента подталкивает к тому, чтобы открыть ось градуально понятой дуальной оппозиции с обоих концов. Это значит, что верхний полюс можно рассмотреть как средний и тем самым положить за его пределом еще одну иерархическую инстанцию. Точно так же можно поступить и с нижним. Возможность вводить третье промежуточное начало превращает всю иерархическую цепочку в открытую серию, причем открытую в обе стороны: благодаря признанию онтологического содержания среднего члена, любой полюс может быть опознан как «средний», т. е. как медиация, а значит, иерархию можно легко достраивать от нее в ту сторону, которая ранее запиралась этим полюсом. Отсюда градуальность легко порождает иерархии, в которых число членов больше двух и трех, но представляют собой неограниченное множество. Это затрагивает все типы таксономий: от систем особей, видов и родов до небесных иерархий или социальной организации любого типа — все системы устроены приблизительно одинаково и выстраиваются по единой модели, вокруг вертикальной оси. Неоплатоники довели эту систему до совершенства, подчеркивая, что самый верх и самый низ иерархии являются, в свою очередь, открытыми — апофатическими, т. е. выше чистого бытия и ниже телесности есть еще особое место для непознаваемого и сверхбытийного единого в первом случае, и для непостижимой не интеллигибельной и под-бытийной первоматерии — во втором.
Если взять базовую оппозицию есть/нет, то градуальная оппозиция предполагает, что бытие содержится в середине онтологической оси: над ним есть небытийное сверхбытие, а под ним — материальное ничто. Бытие становится не полюсом, а медиацией, т. е. промежуточным элементом между двумя ничто — ничто сверху и ничто снизу. Таким образом, бытие мыслится как экзистенция, а не как эссенция. Раз полюса градуальной оппозиции всегда могут быть продлены на сколь угодно далекое расстояние как вверх, так и вниз, то, в конце концов, они достигают сферы небытия, а то, что между ними, становится не самим собой, а медиацией, игрой, пространством духовного и космического Эроса. Среди греческих богов здесь также более всего подходит фигура Гермеса.
В теологии, где оба полюса — Бог и материальный мир — фиксируются более строго (тяготея к закрытости), градуальность максимально наглядно проявляется в фигуре Ангела[64]. И хотя эта фигура относится почти исключительно к религиозному контексту, она имеет колоссальное и до сих пор слабо исследованное философское значение. Ангел есть выражение медиации в градуальной системе оппозиций. И чем более отчетливо та или иная религиозная, да и философская система осознает свою градуальную структуру, тем большее значение уделяется всему промежуточному, находящемуся посредине между одним и другим, обобщением чего является Ангел, этимологически посланник (что предполагает посредничество между пославшим и теми, к кому он послан). Не случайно спор об Ангелах стоял в центре полемики между последователями Авиценны (неоплатониками) и Аверроэса (аристотелианцами). В системе Авиценны иерархия небесных интеллектов с Первого по Десятый, отождествлявшихся с Ангелами-посвятителями, играла главную роль[65].
Градуальная оппозиция всегда предполагает наличие ангелического элемента, ангеломорфоза мира. Сам классический Ангел мыслится и изображается как полудух/получеловек. Но точно так же сам человек может быть рассмотрен как полуангел/полузверь. Обнаружение ангелического измерения бытия делает само бытие — и в высшем, и в низшем — чем-то промежуточным, открытым, путем, сообщением, посвящением, а т. к. эта градуальная цепь открыта в обе стороны, то Ангелами населяется не только рай, небо, высшие регионы мира, но и ад, подземный мир, отдаваемый в собственность «падшим Ангелам», которые, в свою очередь, тоже не что иное как «вестники», «посланники» и «медиаторы», только между другими онтологическими и космологическими уровнями. Поэтому человека можно поместить и по-среди ангельской иерархии — между ангелами и демонами (ангелами тьмы, бывшими некогда ангелами света).
Еще одной привилегированной фигурой медиации в градуальных оппозициях выступает женщина. Она является промежуточным элементом между мужчиной, главным полюсом в градуальной гендерной антропологии, и внешним миром. По градуальной логике умаления одного и того же женщина есть умаленный мужчина, «ангел», посылаемый мужчиной вовне, во внешний мир и опосредующий его отношение с материей и окружающей средой. Женщина относится к антропологической оси, и в дуальной паре занимает крайний нижний полюс (посредине здесь оказывается ребенок, в согласии с патриархальной структурой градуальных иерархий, мужского пола). Но в то же время она выступает как носитель человеческого в отношении того, что является природным, и в более расширенной оси, проведенной между человеком и внешним миром, женщина становится средним термином.
Важно, что в градуальной оппозиции бытие распределено неравномерно между ее полюсами (в отличие от эквиполентной иерархии): здесь на одном полюс всегда больше бытия, на другом всегда меньше. Теперь я делится с не-я не всем бытием, но лишь частью, полагая, что другое меньше, чем это, подчинено этому и однородно с этим. Мы видим, что в таком случае это по-степенно приводит к выявлению первичности субъекта. Однако в рамках градуальной модели к субъекту мы полностью прийти не можем, т. к. он будет отодвигаться все дальше и выше — от человека к Ангелу, от Ангела к Богу, от Бога к Его непознаваемой тайной апофатической природе, Urgrund.
Легко составить себе представление о том, как будут истолковываться привычные пары в градуальной системе. Про мужчину и женщину мы уже говорили. Правое и левое, верх и низ будут иерархизированы — правое лучше левого, а верх низа. Ночь — это недостаток дневного света. Орел — царь, а змея — его земной представитель. При этом повсюду возникает середина: центр между правым и левым, земля между небом и адом, сумерки и символизм вечерней и утренней звезды (денница) между днем и ночью, дракон (летающий змей) между орлом и змеей, гермафродит между мужчиной и женщиной и т. д. Градуальность всегда связана с предопределенной, но свободной и открытой медиацией, это делает ее философские, теологические и культурологические возможности неисчерпаемыми.
Градуальная оппозиция имеет скорее геометрический, нежели арифметический характер. Пара мыслится как отрезок, а не как два числа — т. е. медиация является сплошной, а не дискретной. Между концами отрезка лежит сам отрезок, поэтому так легко установить его центр. Если мы откроем отрезок в одну сторону, то получим градуальный луч, если в обе стороны, то прямую линию. Все три фигуры конститутивны для градуального режима работы сознания: различение начинается с выделения отрезка и поиска его центра, далее следует продление линии в одном или в обоих направлениях. Таким образом, полное развитие такой модели сознания ведет к построению меридиана, оси, нахождение на которой включает сознание в процесс диалектического мышления. Это мышление вполне может развиваться в сторону полноценной философии и претендовать на самостоятельную версию конфигурации Логоса, и даже на то, чтобы быть особым градуальным Логосом, где медиация будет поставлена во главу угла. По сути, этот Логос будет заведомо Логосом-Медиатором, т. к. все бытие здесь есть не что иное, как медиация, как сакральное поле играющего ангеломорфоза.
Привативная оппозиция: аннигиляция
Мы подошли к третьему типу оппозиции — привативному. Понятие «привации», privatio, «лишенности», на первый взгляд, отсылает нас к нижнему термину градуальной оппозиции (как в истории с Поросом и Пенией) и делает ее относительной. Но под этим термином Трубецкой имеет в виду нечто иное, а именно, максимально возможную контрастность между двумя понятиями, где одно из понятий тотально вбирает в себя все возможное бытие, а второе — столь же тотально этого бытия лишается. Полюса привативной пары сопрягаются между собой совершенно особой медиацией: отрицанием, негацией, которая качественно отличается и от эквиполентных, и от градуальных оппозиций.
Привативная оппозиция лежит в основании классических законов аристотелевской логики. Ее первый закон А=А сразу же вводит нас в привативное поле сознания, в область предельной контрастности различия. В А=А сознание выхватывает из окружающей среды отдельный предмет столь остро и отчетливо, что он с корнями отрывается от этой среды, очищается от каких бы то ни было связей и различается сознанием как нечто исключительное, эксклюзивное, новое только самому себе и больше ничему. Пронзительность, почти нуминозность такого предмета производят экстатический подъем мысли, убедившейся в своем могуществе, в своей способности концентрации на отдельном, оторванном от всего остального. В этом первом действии положения тождества А=А происходит одновременно и утверждение (affirmatio) и отрицание (negatio), эксплицирующееся во втором законе логики (не-А), но присутствующее имплицитно уже в первом. Предмет А, утверждаясь как самотождественный, отрицается как несамотождественный, т. е. частично подпадающий под сферу тождественности другого предмета. Граница здесь проводится радикальным образом, и вокруг этого вырезанного из мира, «обрезанного» предмета (этимология русского слова «образ» имеет в виду именно этот смысл) зияет пустота. Негация пребывает в самом сердце афирмации, они столь неразрывно связаны друг с другом, что не могут мыслиться отдельно. Третий закон логики либо А, либо не-А, закон исключенного третьего, и дальше эксплицирует отношения между предметом и его отрицанием в форме или/или. В этом третьем законе дается сущность медиации привативных оппозиций: исключение, эксклюзия. Более подробно описывать структуру привативных оппозиций вряд ли имеет смысл, т. к. мы вынуждены будем повторить содержание банальных учебников «Введение в логику» или их универсальный прообраз — «Логику» Аристотеля.
Привативная пара строится по тройному закону: аффирмация, негация, эксклюзия. Все они теснейшим образом связаны и не существуют друг без друга. Утверждая А (аффирмация), мы отрицаем не-А (негация), т. е. В, настаи-ваем на выборе между либо А либо не-А, т. е. между А и В (эксклюзия). Все три действия суть одно и то же действие, являющееся процессом максимально контрастного мышления в структуре привативных оппозиций. Именно такое мышление принято считать логическим, рациональным, научным и на нем основана классическая философия и в значительной мере теология (особенно та, где преобладает аристотелевский подход, в частности, средневековая схоластика, томизм, реализм в споре об универсалиях и т. д.). В отличие от других форм мышления (νοιεῖν) оно называется дискурсивным, рассудочным (διάνοια).
Пара оппозиций здесь строится по такому принципу: на одном полюсе вещь, сама по себе, строго тождественная себе и являющаяся только самой собой и ничем иным, а на другом полюсе нечто, что является полным и радикальным отрицанием этой вещи, т. е. ее границей, опоясывающей ее безд-ной, ее негацией. Здесь сознание полностью сконцентрировано только на одном полюсе, на полюсе я. Не-я вообще лишается всякого бытия и в этом состоит его смысл. Поэтому здесь мы напрямую подходим к субъекту как к закрытому полюсу бытия и мышления, тождественному только самому себе и замкнутому во всех осях — выше/ниже, внутри/вовне. У самотождественного А нет ничего, что было бы выше его и более внутреннего, чем оно само. Но и ниже и вовне нет ничего, что могло бы иметь хотя бы отдаленную сопричастность с А. В таком подходе сознанию остается только «познать самого себя» — вне его и над ним ничего нет.
Эта реминисценция из гераклитовского фрагмента, передающего надпись над входом в Дельфийский оракул, не случайна. В Античности такой способ мышления связывался с областью дня, солнца и бога Аполлона. Фигура Аполлона воплощала в себе высшее тождество себя с самим собой. Этому божественному самотождеству соответствовало в мире явлений самотождество вещи самой себе, ее идентичность, ее τὸ τί εἶναι, quidditas. Эта quidditas не так безобидна и не так самоочевидна, как может показаться на первый взгляд. Чтобы утвердить сущность вещи как равную только себе и не равную ничему еще, кроме себя, необходимо провести фундаментальную операцию по очищению этой вещи от всего лишнего, а значит, уничтожить все лишнее, прилипающее к этой вещи, примыкающее к ней, пытающееся удержать ее в своих онтических сетях, в сумеречной зоне не столь контрастного и резко сфокусированного сознания. Поэтому Аполлон в ряде мифов выступает как жестокий бог. Он повелитель волков, чья кровожадность и холодная ярость давно стала важнейшей мифологической синтемой. Он сдирает шкуру живьем с дионисийца Марсия, осмелившегося соревноваться с ним в музыкальном состязании. Изначально архаический Аполлон вообще был демоном смерти, убийств и человеческих жертвоприношений.
Утверждая это и только это, Аполлон тем же самым жестом радикально уничтожает другое, как волки уничтожают и пожирают жертву, и как сам Аполлон победил змея Пифона в Дельфах, заставив его «гнить» (этимология имени «Пифон» — «гниющий»).
Образ Аполлона вполне может служить фигурой, иллюстрирующей характер привативных оппозиций и медиаций, ими подразумеваемых. Здесь мы видим все три основных момента логики: аффирмацию, негацию, эксклюзию. Утверждая себя, Аполлон уничтожает другого (например, Пифона) и делает себя исключительным (эксклюзивным). В. Пропп в своих работах показал[66], как в процессе перехода от волшебной сказки к героическому эпосу происходит семантическое перетолковывание инициатического обряда борьбы с чудовищем (когда охотник и чудовище — змей, волк и т. д. взаимно проглатывают друг друга) в радикальном ключе его полного и безвозвратного уничтожения — не обмена энергиями и не подчинения, но именно радикального исключения из бытия.
Мы имеем дело с психоаналическим режимом диурна[67], максимализацией дневного, предельно четкого и рассудочного рассмотрения мира.
Расчленение мира на отдельные предметы, связанное с работой дневного рассудочного сознания, конструирует совокупность этих предметов иначе, нежели парные ряды эквиполентных или градуальных оппозиций. В отличие от вражды/любви Ареса и Афродиты или всеобщей взаимосвязи открытых символических цепей Гермеса, здесь точнее всего подходит фигура греческой богини Дике, Справедливость, которая упорядочивает разделенный мир в соответствии с аполлонической вертикальной программой. Эссенция каждой вещи строго разграничена с эссенцией другой вещи, и все они расположены вдоль солнечной стрелы Аполлона в соответствии с планом всеобщей гармонии.
Пары привативных оппозиций состоят из полюса утверждаемого и полюса отрицаемого, который конституируется как раз моментом эксклюзивного утверждения. Такое мышление максимально удалено от прямых стратегий сознания, остающегося связанным с рассматриваемыми вещами с циркулирующим бытием между полюсом сознания и его объектом. В привативной оппозиции сознание имеет дело с концептом вещи, с представлением о ней, а не с самой вещью («ноэмой» в феномеологии). Чтобы иметь возможность радикально уничтожить нечто, это нечто следует предварительно вырвать из мира, лишить бытия и поместить в сознание, как его собственность, находящуюся в исключительном ведении. Поэтому в логическом рациональном мышлении сознание оперирует с понятиями, каждое из которых, чтобы сконструироваться в нечто законченное, должно пройти операцию очищения: утверждения себя и отрицание не себя. Но в ходе этой операции рождается нечто совершенно новое — понятие вещи, вещь в ее эссенции, ουσία. Она-то и становится базовой единицей логического дискурсивного мышления. На другом конце одной абстракции — понятия, мы имеем ее дубль, другую абстракцию, которая есть отрицание первой, и которая становится возможной только потому, что и первую абстракцию мы лишаем онтического эмпирического (или «ноэматического», у феноменологов) присутствия. В рамках рационального мышления мы впервые получаем понятие чистого «небытия», «ничто» как естественной пары в привативной оппозиции к «бытию» или «чистому бытию». Но чтобы получить концепт «небытия», необходимо само «бытие» превратить в концепт, т. е. поместить его в поле радикальной привативности, очистить от свойств, вырезать из среды. Поэтому привативные пары, получившие приоритет в мышлении и открывающие путь к логике, науке и классической философии, уже представляют собой замену онтологии гносоелогией, бытия концептом, связных и сопряженных вещей вещами чистыми и радикально отрезанными от среды. Медиация здесь есть движение радикальной негативности, которой подвергаются все без исключения моменты мышления: само утверждение эссенции вещи, ее ουσία, возможно только в ходе жесткого и всеобъемлющего отрицания самой вещи — всегда данной в связи, в среде и в наложении расходящихся кругов принадлежности от других вещей или явлений. В этом состоит специфическая магия полдня, иллюзия бодрствования, столь четко проявляющая каждый предмет, столь строго и точно его высвечивающая, что этот предмет захватывает все сознание целиком, ввергает его внутрь в себя. Отсюда платоновское описание мира идей: там все залито светом, и если попасть в этот мир без подготовки, то человек, будучи ослепленным, вообще ничего не увидит и не различит. Изобилие контрастности столь же ослепляет, как и ее полное отсутствие в кромешной тьме. Хайдеггер подробно и обстоятельно показывает, как само представление об «идее», позднее превратившееся в «концепт», «понятие», было сформулировано Платоном, отталкиваясь от завороженности сущим как таковым, где концентрация ясного и напряженного взгляда на нем привела к отрицанию бытия сущего как явления и созданию двухэтажной топики, в которой эссенции вещей, идеи, помещались радикально по ту сторону мира феноменов. В этом Хайдеггер видит начало гигантской негативной работы философского Логоса, которая завершится современным новоевропейским нигилизмом и полным забвением бытия[68].
Применение медиации как негации к ранее рассматривавшимся в каче-стве примеров парам приведет к интересным выводам.
Радикальная оппозиция правого и левого, верха и низа рано или поздно завершится отказом вначале от того, что левое и низ вообще существуют, а затем, когда правое и верх потеряют симметрическую связь, отпадут и они. Вместо этого возникнет полная пространственная относительность — пространственный изотропизм, свойственный научной картине мира Нового времени. Верх/низ, право/лево, земля/небо превратятся из самостоятельных онтологических ориентаций (как в эквиполентности) или из градуальных засечек бытийных эйдетических (ангелических) осей в чистые условности, абстракции, связанные с удобством гносеологических конструкций, с произвольно созданной системой координат, с искусственной калибровкой полотна мира.
Гендерная пара мужчина/женщина в привативной оппозиции ведет вначале к абсолютизации патриархата и приравниванию женщины к предмету, к движимому имуществу (Римское право). Женщина как не-мужчина воспринимается как не-человек. Далее, в эпоху Просвещения и в ходе эмансипации женщина, добившись включения в человечество, понимается как мужчина (либеральный и эгалитарный феминизм). Затем женщина и мужчина как гендерные типы упраздняются перед лицом индивидуума (нормативизация гомосексуальных отношений (затем браков). Негация пола завершена.
В отношении частей и органов человеческого тела привативность выделяет руку, сердце, печень, мозг в отдельные объекты. Тщательно, на микро-уровне изучает их, исследуя алгоритм функционирования. Далее создается макет, затем протез. Затем протез совершенствуется. И наконец, заменяет собой отдельно взятый орган — протезы руки, ноги, искусственные почки, печень, сердце. На повестке дня искусственный мозг, глаз, слух, память. Как только тело было возведено в концепт, в понятие, оно уже в тот самый момент перестало быть телом. Сегодня идет полным ходом наглядное оформление этой последней завершающей стадии — вплоть до генной инженерии, клонирования, создания киборгов.
В области человеческих состояний — сон/бодрствование — вначале реальность признается только за бодрствованием. Сон считается нереальным. Затем ставится под вопрос, в какой степени воспринимаемый нами мир в бодрствующем состоянии является реальным, а в каком — продуктом наших субъективных перцепций. Этот вопрос ставится Кантом, затем солипсистами и феноменологами. Реальность оказывается нереальной (представлением), и заменяется виртуальностью, где происходит эмуляция перцепций и представлений в искусственном режиме.
Утверждение радикального превосходство орла над змеей ведет к построению летательных аппаратов, развитию космических технологий и проекту человечества покинуть землю (где ползают змеи) и улететь в открытый космос.
Привативность, доведенная до логического предела, дает нам Модерн и Постмодерн. В результате последовательной негации как приоритетной медиации между парными оппозициями мы приходим к радикальному нигилизму, торжеству ничто, тотальной миграции в виртуальный (внеземной) мир полной релятивности.
Актуальность другого Логоса
Возвращаясь к началу нашего рассуждения, мы теперь можем соотнести три типа оппозиций и соответствующих им медиаций с тремя типами Логоса. Структура каждого из них будет оригинальной и самостоятельной. Им соответствует три степени контрастности сознания: привативные оппозиции различают самым резким образом, эквиполентные — самым слабым, градуальные занимают промежуточное положение. Соответственно, мы имеем три типа медиации — аполлоническую негацию, герметическую диалектичность и сладострастно-воинственную (Афродита/Арес) рядоположенность.
В истории философии и религии мы легко встречаем все эти типы оппозиций в самых различных и причудливых комбинациях. Практически все культурные, языковые, мифологические и философские системы обязательно используют все три Логоса и связанные с ними способы медиации. Так, к примеру, платоновская философия легко может быть отнесена к аполлонической и к герметической. В религиозных догматах монотеизма можно увидеть и эквиполентность (Бог и мир), и градуальность (апофатика, мистицизм), и привативность (creation ex nihilo, возможное только на уровне рациональных концептов с опорой на радикальную негацию — откуда nihil). Точно так же представление о человеке фундаментально изменяется в зависимости от того, в какую систему оппозиций мы его включим и как ее интерпретируем. Человек сам может выступать и как медиация (воин/любовник в эквиполентности, посвященный/пророк/мистик в градуальности, нигилист/рационалист/анатом в привативности), и как один из полюсов (высший в паре человек/природа, или низший в паре человек/Бог). Соответственно, и теология, и антропология, и философия, и сама культурная парадигма будут в значительной степени зависеть от того, какие пропорции установлены между тремя Логосами, какой тип медиации преобладает, какой тип сознания выступает в каче-стве приоритетного.
Тем Логосом, который представляется нам самым привычным и само собой разумеющимся является, безусловно, Логос аполлонического типа, лежащей в основе рационалистической западной культуры, философии, религии и политики. Более того, мы по умолчанию склонны считать, что это единственный (эксклюзивный) Логос, и его законы и структуры универсальны (как универсальными и безальтернативными Кант считал открытые Аристотелем законы логики). Однако практически все вразумительные со-временные западные мыслители, осмысливая ситуацию Постмодерна, признают, что этот Логос находится в состоянии глубокого кризиса. Ницше и Хайдеггер объясняют это фундаментально и развернуто: почему это происходит и что это должно означать для всей истории Запада (а заодно и остального человечества). Поэтому выделение других типов Логоса, основанных на доминации иных оппозиций и медиаций, сегодня представляется чрезвычайно актуальным. Ранее казалось, что эквиполентные и градуальные оппозиции представляют собой недо-Логос, лишь подготовку к полноценному мышлению, разбег для философии. А если они встречались и в более поздние периоды, то представляли собой инвазии языкового бессознательного, «жизненный мир» врывался в поле научной рациональности, как мятеж резидуального. Тем не менее, если мы рассмотрим два других Логоса — эквиполентный и градуальный и свойственные им модели медиации, например, центральность фигуры Ангела, понятой философски (градуальный тип оппозиций), мы вполне можем обнаружить не просто удобный инструмент для исторических реконструкций и герменевтики философских и религиозных систем прошлого, но и основу для поиска философской альтернативы, к чему кризисность нынешней цивилизационной ситуации нас активно подталкивает.
Часть 3. Открытый платонизм
Глава 6 Доплатоники. Сакральное мышление в философии досократиков
«Философия» как просветительский концепт
Термин «философия» применительно к эпохе Античности получил свое актуальное значение только в контексте языка современности. Это понятие нужно для апостериорного обозначения элементов автономной рациональности (которая стала базовой парадигмой в Новое время), опознаваемых в традиционном обществе. Понятие «философии» применительно к досократикам, пифагорейцам, Платону, Аристотелю, неоплатоникам и т. д. предполагает операцию выделения лишь вполне определенной линии в общем интеллектуальном наследии этих авторов и школ.
«Философским» (в современном значении) здесь является лишь то, что не совпадает с мифологией и религией, не обращается напрямую к стихии сверхрассудочной интеллектуальной интуиции, которая составляла важнейшую инстанцию в процессе сакрального мышления. Все, что не является «рациональным» (в современном понимании рациональности), отбрасывается как «иррационализм», «мистика», «профетизм» и т. д., т. е. как «нефилософия».
И, наконец, после этой искусственной операции выделения «философии» производится еще одно действие: деление этой «философии» (освобожденной от мистики) на «натурфилософию» и собственно «философию». «Натурфилософия» здесь рассматривается как промежуточная стадия между иррационально мистическим и рациональным процессом. Так как, по мнению современных, древние заведомо не могли понять устройство Вселенной, то их размышления в этом направлении были с необходимостью контаминированы «мифами» и «иррационализмом». Хотя сам факт стремления освободить осмысление космогенеза от религиозных элементов казался вполне «прогрессивным».
Все это закономерно с позиции языка современности, искусственно проецирующего свои собственные гносеологические аксиомы на глубокое прошлое.
Сами древние философы не проделывали такой операции и не выделяли «философию» как направление интеллектуальной деятельности, жестко разграниченное с религией, культом, сакральным, профетизмом и т. д. Рассудок всегда играл определенную роль в традиционном обществе, но никогда не доходил даже близко до отождествления себя самого с высшей инстанцией суждения. Он играл вспомогательную роль. Поэтому собственно «философии» в традиционном обществе не было и быть не могло. Более того, стремление выискать «философию» в греческой Античности больше свидетельствует о стремлении европейских просветителей Нового времени (наследующих своеобразно истолкованные моды Ренессанса) продлить в древность генеалогию своих собственных идей и подходов, нежели достоверное и искреннее обнаружение этого обстоятельства в ходе исследования истории.
Показательно, что в других традиционных цивилизациях — например, индуистской или буддистской — приблизительно тех же эпох, что и досократики, мы встречаем множество интеллектуальных школ, вполне приближающихся по степени акцента рассудочных функций к греческим философам, если не сказать больше. Но тот факт, что из этих тенденций исторически так и не выпестовалось стремление основать на полной автономизации рассудка самостоятельную и законченную гносеологическую систему, и они легко растворились в общем контексте сакральной цивилизации, делал их менее интересными для просветителей, и они оставались без внимания.
«Философы» Древней Эллады, особенно досократики, есть чистая абстракция. Те, кто фигурируют под этим именем в учебниках истории философии, были кем-то совершенно иным. Это были мыслители традиционного общества. Строй их мысли был целиком и полностью сакрален, и для адекватного понимания его следует расшифровывать именно в таком качестве. А для этого надо прежде понять, что такое сакральное мышление.
Сакральное мышление
Сакральное мышление есть мышление, структурированное интеллектуальной интуицией. Интеллектуальная интуиция, по определению, сверхрассудочна: она схватывает явление в целом и мгновенно и лишь затем транслирует результат такого познания аналитическому аппарату рассудка. Это прямое знание, которое достигается через специфическую операцию — радикальную интериоризацию бытия и бытийного внимания. Этот опыт можно уподобить «озарению», «созерцанию», «просвещению».
Результат мгновенного опыта деятельности интеллектуальной интуиции дешифруется затем различными органами — рассудочными и чувственными. Причем один и тот же опыт может интерпретироваться с существенным различием в зависимости от персональной организации человека — один расшифрует «озарение» как поток мыслей, другой — как видение, третий — как резкую эмоцию и т. д. Интеллектуальная интуиция не зависит от ее интерпретации органами мысли и чувств. Это обнаружение некоей объективной инстанции в бытии — «света природы» (Б. Спиноза).
«Сакральным мышлением» следует называть процесс рассудочной интерпретации опыта «озарения».
«Озарение» составляет ядро, источник и ось мышления. Рассудок отталкивается от этого импульса, черпает в нем энергию и маршруты движения, но не способен приблизиться к самой этой инстанции ближе определенного расстояния. Это как взгляд на солнце: длительная фиксация на ярком источнике света ведет к слепоте. Если упорствовать в этом, то можно либо разрушить личность, либо впасть в «священное безумие». Но понять это невозможно. Рассудок стоит к интеллектуальной интуиции спиной. Обрядовые жесты, связанные с прикрытием глаз от яркого света (в исламе, например) и соответствующие религиозные сюжеты (неопалимая купина и Преображение Господне на горе Фавор) ритуализируют это соотношение.
Сакральное мышление отличается от несакрального тем, что в своем процессе так или иначе учитывает инстанцию «озарения». Даже предельно удаляясь от «топоса» интеллектуальной интуиции (полагаемой, как правило, в сердце), рассудок стремится уловить начальные модуляции или, по меньшей мере, предугадать их.
В сакральном мышлении нет ничего специфически «религиозного» и «мифологического». Представление о «религиозном» и «мифологическом» как о самостоятельных инстанциях — тоже абстракция Просвещения. Человек Традиции не выделяет «религиозное» и «мифологическое» как нечто самостоятельное. Сакральное мышление совсем не обязательно центрировано на фигурах «трансцендентных субъектов». Сакральное мышление может быть обращено к любым реальностям — как видимым телесно, так и умозрительным, но в моменте «озарения» в любом случае (даже если речь идет о самых простых и земных вещах) происходит определенная трансфигурация субъекта познания, его молниеносный контакт со световым измерением бытия, где, в сущности, испаряется дуализм познающего и познаваемого. С большой натяжкой это можно интерпретировать как «религиозный» опыт или «одержимость» каким-то мифологическим существом (например, «музами» или «Аполлоном»), но сам по себе этот опыт не зависит ни от каких догматических или мифологических конструкций, все они служат лишь его апостериорной интерпретации. Если даже сам человек традиционного общества подчас довольно приблизительно описывает это состояние, то философы Нового времени тем более склонны нагружать этот процесс абстрактными и неверными структурами, отражающими гносеологические практики совершенно иного парадигмального контекста.
Когда человек традиционного общества думает (и говорит) об Аполлоне, мировом огне, политике, числах, музыкальных инструментах, растениях, олимпийских играх, войне, титанах, мертвых, детях или ремесленных инструментах, он всегда отталкивается от этого стержня интеллектуальной интуиции, от глубинного «озарения», которое и составляет основу парадигмы Традиции, транслируемую в рамках традиционного общества через весь его строй, уклад, всю его культуру, язык, образование, быт и т. д.
Философы-досократики были органичными членами традиционного общества. Следовательно, их произведения, системы, утверждения должны быть корректно помещены в соответствующий парадигмальный контекст, где интеллектуальная интуиция играет главенствующую роль.
Без этого чрезвычайно трудного для современного философа действия мы будем не изучать дух Античности, но оперировать с искусственными прагматическими (в чем-то пропагандистскими и как минимум полемиче-скими) концептами, составленными в Новое время.
Ионийская философия
В самой Древней Греции было принято возводить «философию» к великому ионийскому мудрецу Фалесу Милетскому. Иония была расположена на западном побережье полуострова Малая Азия и состояла из двенадцати самостоятельных полисов — Милет, Эфес, Клазомены, Фокея и др. Его по-следователями считаются Анаксимандр и Анаксимен. Несколько в стороне стоит тоже иониец, но придерживающийся своей собственной линии — эфесский царь Гераклит, оставивший, по одной из версий, царство, чтобы спокойно предаваться размышлениям об устройстве вещей.
Вода Фалеса
Фалес жил в самом конце VII — первой половине VI в. до н. э., был провозглашен первым из «семи мудрецов» в 582 г. до н. э., ему были приписаны сочинения в прозе «О началах», «О солнцестоянии», «О равноденствии», «Мор-ская астрология», от которых до нас дошли только названия. Считается, что Фалес получил свои изначальные знания в Вавилоне, Финикии и Египте. Фалес изучал небо, предсказывал солнечные затмения. Считается также, что именно он впервые открыл явление «прецессии», т. е. смещения годового положения Солнца относительно Зодиака. Фалес, по преданию, ввел календарь из 365 дней, разделил год на 12 тридцатидневных месяцев, а небесную сферу на 5 частей. Продолжая египетскую традицию, 5 дней перед зимним солнце-стоянием он считал «священными» — «днями богов». Фалес занимался геометрией, рассматривал свойства равнобедренных и прямоугольных треугольников, вписывал различные простые фигуры в круг и изучал их пропорции.
Аристотель писал о Фалесе (Метафизика, кн. I, гл. 3): «Из тех, кто первым занялся философией, большинство считало началом всех вещей одни лишь начала в виде материи: то, из чего состоят все вещи, из чего первого они возникают и во что, в конечном счете, уходят, причем основное пребывает, а по свойствам своим меняется, это они и считают элементом и началом вещей. И поэтому они полагают, что ничто не возникает и не погибает, т. к. подобная основная природа всегда сохраняется… Количество и форму для такого начала не все указывают одинаково, но Фалес, родоначальник такого рода философии, считает ее водою».
Это выведение всего сущего из стихии воды более всего известно при характеристике идей Фалеса. В Новое время, и особенно у материалистов, стало привычным рассматривать теорию происхождения мира из стихии воды как «прорыв к атеистической космогонии» и даже первый пример «материалистического мышления». Такое понимание Фалеса отражает лишь специфические гносеологические парадигмы самих современных философов, для которых религиозное и атеистическое, духовное и материальное представляются дуальными системами, в которых можно легко убрать один из полюсов или переставить их местами. Нечто похожее, действительно, имеет место, но только в философии Нового времени, где пары дух-материя, бог-мир приобрели совершенно специфический смысл, воплотивший всю историю процесса десакрализации мышления как основного направления развития и становления современной западноевропейской мысли.
Вода Фалеса — это элемент сакрального мышления. Помыслить ее мы можем, только реконструируя качественный характер «озарения», траекторию движения интеллектуальной интуиции, которые лежат в основе такого тезиса. Тезис о происхождении всего из воды — это сакральный тезис. В его основе — холистская интуиция воды, сакральный опыт воды.
Где, с кем и как этот опыт происходит? Фалес в данном случае лишь признак ситуации, ее свидетель и интерпретатор. Сама же идея о происхождении всего из воды берется в особом месте — в «сердечном топосе озарения», который, чтобы быть справедливым, не может принадлежать Фалесу как исторической личности. Он должен быть универсальным, принадлежать к пространству «света природы».
Фалес является проводником «озарения», он выступает как «пророк стихии», дающей через него знак людям.
Фалес причислен к «семи мудрецам» не случайно. Все в его фигуре символично — занятия и астрономией, и календарем и геометрией. По сути, это типологизированная функция сакрального знания, что не мешает ему быть и исторической личностью. Носитель и выразитель сакрального опыта первоначала не может быть выразителем мнения, догадки или умозаключения. Он «прорицает» о воде, выводит воду и знание о ней из тайных глубин к прозрачному созерцанию.
Ясно, что вода, о которой говорит Фалес, — инстанция весьма особая. Это невидимая живоносная мирообразующая пластика, которая выступает под видом различных стихий, вовлекающихся в круговорот, а потом возвращающихся к первооснове. Но при этом это не символ и не абстракция; реальная вода — источника, реки, моря, океана, дождя — это та же самая вода. Только в пространстве фалесова «озарения» эта реальная вода интенсифицируется до глубинного изначального опыта бытия, эскалируется до самой плоти бытия, которое, со своей стороны, сгущается до света великих вод.
Вода — это одновременно материальная субстанция, обобщенное рассудочное понятие, мифологическая инстанция, богиня, высшее присутствие, великая мать, плоть бытия, интуиция холоса.
Вода — первооснова проявления. В индуизме ее аналогом является «пракрити», «первозданная» или «природа». В то же самое время небесный мир индуизма — свара — описывается как «мир вод», населенный «водяными девами» — «апсарами». В Библии также говорится о «небесных водах» («маим»), которые были разделены в процессе творения «твердью».
Поэтому в определенном смысле можно назвать воду Фалеса «божественной».
Вода проявляет себя через жизнь. Жизнь проступает сквозь формы, тела и существ тотально и целостно. В мире нет пустот, есть только вода — явная и скрытая. Эта вода души, из которой слеплены тонкие аспекты людей, зверей, богов, предметов, сил.
Души есть у всего — у деревьев, кентавров, цветов, людей, магнита, нимф и божеств. Души — струи божественной воды, которые движут тела, питают их внутренней саморожденной энергией. Вода — двигатель мира, движение вещей — ее след. Не только люди, животные и растения, по Фалесу, питаются водой (извне и изнутри), она кормит испарениями солнце и луну, другие светила, камни и звезды.
Диоген Лаэртский, поздний и крайне эклектический автор, кратко описал учение Фалеса так: «Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств»[69]. Этой скудной информации достаточно для того, чтобы понять, почему именно Фалес был назван «первым мудрецом». Интуиция целостности (воды), опыт души и озарение божественным присутствием и являются основной сакрального мышления. Сам Фалес, по преданию, говорил: «Многословие вовсе не является показателем разумного мнения». Нам достаточно того, что мы о нем знаем. Нам достаточно этого ослепительного приглашения к мышлению о воде.
Есть ли в фигуре Фалеса что-то, что дало бы основание зачислить его в «философы» в современном смысле? Абсолютно ничего. Фалес — мудрец, т. к. его мышление принадлежит к безбрежному океану мудрости. Его личность функциональна. Его идеи являются прорицаниями. Его практика является обрядовой. Приписывание ему изобретения календаря, астрономии и геометрии ставит его в один ряд с мифологическими персонажами — такими, как Гермес Трисмегист или Будда Гаутама. Всякий, кто испытал опыт воды, вступает в это пространство.
Фалес принадлежит Традиции и сакральной реальности. И никакие ухищрения не смогут его оттуда изъять.
Беспредельный Анаксимандр
Учеником Фалеса считался другой «великий мудрец» Древней Греции — Анаксимандр Милетский. Анаксимандр — автор пропавших позже произведений «О природе», «Карта земли» и «Глобус».
Но самую главную мысль свою он сумел донести до потомков. Его мысль была об изначальности беспредельного. По-гречески «беспредельное» звучит как «апейрон» («a-» — частица отрицания, и «πέρας» — «предел»).
Апейрон тоже продукт сакрального мышления. Это первоначало, «архэ» (ἀρχή). Апейрон, «беспредельное», продукт интеллектуального опыта. Оно приходит в озарении и сообщает свое имя.
Возможно, просветителей заинтересовала искусственность составленного термина, его «механичность». Это, с их точки зрения, след рассудка. Вот, мол, доказательство того, что от философской мифологии «воды» ученик Фалеса приходит к чистой абстракции. Не приходит. Само слово «апейрон» — это обрядовая формула. «Ап» — та же вода, «апсу», первобездна.
Апейрон движется, он вечен, он не имеет ограничений, он все во всем. Он предшествует стихиям (как эфир), он вмещает в себя все и все из себя порождает, т. к. он и есть все.
Согласно Анаксимандру, апейрон действует, вращаясь, и это вращение творит пары — влажное и сухое, холодное и теплое. Когда пары сочетаются друг с другом, возникают стихии — земля (сухое и холодное), вода (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее) и огонь (сухое и горячее). Далее стихии выстраиваются по степени плотности: ниже всех — земля, залитая водой, которая укутана воздухом, а тот обнимается огнем. Небесный огонь движется в обратном направлении, воды испаряются, и обнажается земля. Она выходит умытая из океана и открывается новой жизни.
Над землей в воздухе располагаются три обода великой колесницы, полные отверстий, внутри они скрывают небесный огонь. Дыры в нижнем ободе — звезды, в среднем — большое отверстие Луны, в верхнем — Солнце; оно сияет ярче, т. к. ближе к стихии огня. Анаксимандр точно высчитал пропорции между этими ободами, они открыли ему тайну мироздания.
Люди произошли из ила на границе моря и суши. Их вызвал к жизни небесный огонь. Вначале они жили в воде, были покрыты чешуей и имели плавники. Первого подобного нам человека выносила в животе гигантская рыба, из которой он вышел и пошел бродить по берегу.
В конце времен все стихии и существа снова вернуться в апейрон.
«Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие за несправедливость и согласно порядку времени» (Анаксимандр). Живое бытие пульсирует, нарушает свою первозданность, а потом снова ее восстанавливает. Начало и конец проистекают из единого корня, управляются тактом его движений.
Мир Анаксимандра жесток и прекрасен. Это не догадка, это философ-ский факт. Реальность трех ободов с отверстиями, реальность людей-рыб, путешествие во чреве кита, иерархия стихий — все это бесспорные истины «озарения». Вселенная, которую описывает Анаксимандр, абсолютно достоверна с точки зрения интеллектуальной интуиции.
Во-первых, венец любого созерцания — беспредельное. Это тотальное головокружение, исчезновение мысли в сияющей бездне ее истока. Апейрон — то, что заставляет думать, жить, дышать, двигаться. Это само собой очевидно и принадлежит сфере прямого простейшего опыта.
Но рассудок действует через различения, следовательно, дальнейшая остановка внимания на двойственностях — парах. Пары имеют свойство дробиться, а внимание, сосредоточенное на конкретном, улавливает все больше симметрий. Из сухого, влажного, теплого и холодного прессуются стихии, творятся зоны мира. И это очевидно — огонь тянется вверх, камень падает вниз, вода течет, воздух летит. Другое дело, что у Анаксимандра это выстроено в золотом процессе сознания — все рвется, горит, течет и падает по-особому, по-философски. Будто живая Вселенная, сам величественный и бессмертный апейрон сжался до маленького размера мыслящего Анаксимандра и видоизменил его природу. Апейрон ударил молнией ему в голову, и внутренний взор охватил неспешное строительство мира из пар и стихий…
Человек производится небесным огнем, оживляется легким воздухом души, лепится из земли, смачивается водой. Он существо пограничное, тяжеловатое с одной стороны (водоплавающее и сухопутное), но и не чуждое созерцанию — отец огонь и мать душа не оставили его.
Рыба с человеком в чреве — важный образ мифов о происхождении. Таков первый аватара Вишну в индуизме — матсья, «рыба». Он же вынес из моря первочеловека — Ману. Плаванье Ионы в ките — воспоминание об этом же сюжете. Первые христиане в виде рыбы изображали самого Христа.
Интересно сосредоточить наше внимание на этой рыбе Анаксимандра. Думая о ней, непрерывно возвращаясь к ней, мы начнем понимать, что он имел в виду, в какой плоскости бытия двигался его упорный ионийский дух. Он был жителем Милета, как и Фалес. И много гулял по его улицам…
Интуиция воздуха Анаксимена
Анаксимен был последователем Анаксимандра. Так же, как и учитель, он написал сочинение «О природе» (Περί φύσεως). Прилежал астрономии и метеорологии.
Его сакральному мышлению было явлено озарение воздухом. Как и вода Фалеса, воздух Анаксимена — стихия в высшей степени любопытная. Это духовный умозрительный воздух, который открывается в опыте интеллектуальной интуиции как «безграничное». Абсолютный воздух, который содержит в себе мир. Это воздух-дух, ощутимый, неощутимый, созерцательный, световой одновременно.
Воздух Анаксимена превыше всего: разряжаясь, он превращается в огонь и эфир, сгущаясь, становится водой и землей. Разряжение дает жар, сгущение — холод. Но непрерывность стихиям дает именно он, священный воздух Анаксимена, безграничный и бесконечный, овевающий собой мир, порожденный им же самим.
Воздух движет телами мира — земляным солнцем, раскалившимся от быстроты вращения, светилами, камнями существами… Все это в руках воздушных вихрей, пронизывающих вселенную. В порыве ветра печать бесконечности.
Из воздуха состоят души, это и есть воздушные вихри, они бурлят в человеке, звезде, метеоре и магните. Они же порождают, сгущаясь, тела и горы, реки и благоухающие сады Ионии…
Прозрачные великие боги тоже воздушны, тонким хладом присутствуют они в бытии, одушевляя сверхконцентрацией воздушной благодати вселенную. Воздушные боги Анаксимена…
Земля, по Анаксимену, не плавает на водах, но парит в воздухе. Если учесть, о каких водах и каком воздухе здесь идет речь, то обе картины мира — и Фалеса и Анаксимена — не противоречат друг другу. Равно как и видение подводной земли Анаксимандра. Парящая земля, свободно плавает в изначальных водах и покоится на дне творения одновременно. В топосе озарения единая картина волшебных стихий переливается всеми интеллектуальными цветами: внутренний взор Фалеса видит воду, Анаксимандра — бескачественный апейрон, Анаксимена — воздух. Все вместе — это эллинское видение, ионийская молния смысла, мироутверждающий базовый опыт.
Интеллектуальная интуиция стихий едина, но структурируется она в сознании философов по-разному. Стихия чистого бытия столь тотальна и изначальна, что ее созерцание ускользает от жестких определений, уводит взгляд испытующего от сути философа в вортексы ослепительных картин.
Эллинское бытие — открытое бытие. Оно является одновременно таким и не таким, этим и не этим, видимым и умозрительным.
Фалес — Анаксимандр —Анаксимен — одна школа, одна традиция, одна линия, одна земля, одна филиация. От основателя к ученикам передается техника единого озарения… И что же? Опыт воды, опыт апейрона, опыт воздуха… Стихии меняются местами, уступают друг другу право верховенства… Немыслимо для точного рассудка просветителей. «Так воздух или вода?», — спрашивает парадигма современности.
«Воздух… вода… беспредельное… воздух… вода…», — отвечает Эллада. В Элладе стихии танцуют, движутся, открытое бытие открытых мыслителей, свободных и гордых, плескающихся в непрерывно длящемся озарении как нимфы в фонтанах. Это и значит мыслить, жить, дышать, изучать, заниматься наукой… И из звездных дыр светит небесный огонь, носится раскаленное земляное парящее солнце, вихри и струи оживляют птиц, людей, богов, кентавров и камни…
Это единая картина мира, но она по-настоящему открыта, свободна и активна.
Анаксагор и его ум
Выходцем из Ионии, из полиса Клазомены был другой греческий «великий мудрец» Анаксагор, который большую часть жизни провел в Афинах. Ученик Анаксимена, Анаксагор продолжил ионийскую линию умозрения, привнеся ее в Афины Перикла. Перикл, знаменитый правитель Афин и составитель знаменитых законов, был его близким другом. Это сочетание философа с политиком — устойчивая черта традиционного общества. В некоторых случаях фигуры философа и политика просто совпадают (к примеру, Пифагор и пифагорейцы), в некоторых эти начала функционально сближаются в виде сотрудничества или дружбы отдельных людей. В любом случае: власть имеет корни в мысли, мысль, развиваясь, переходит в зону власти, воздействует на нее, а через нее на мир. Это очень близкие вещи: мысль и власть, власть и мысль… Они уходят к одному корню, а там, где разделяются, там начинаются беспорядки, смещение, нестроение, упадок. Их союз — залог гармонии и процветания. Плутарх писал об этих отношениях: «Анаксагор сблизился с Периклом больше всего, больше всего придал вес его речам и серьезный характер его выступлениям перед народом». Это очень важно — «придать вес речам политика». Очень важно и крайне благотворно действует на народ.
Анаксагор в значительной степени прямо наследует визионерскую космографию своего учителя Анаксимена. У него также земля парит в воздухе, в воздухе зависли и раскаленные от движения светила — солнце, луна и звезды, гонимые ветрами духовными. Считается, что такое понимание космоса навлекло на него гнев афинской черни, видевшей в светилах божеств. Трудно сказать, так ли это: и в горячих летающих дисках так много божественного, и чернь была все же не так глупа, чтобы прямо отождествлять фигуру персонифицированного божества с объектами созерцания. Другая версия заключается в том, что Анаксагора гнали враги Перикла — Фукидид и Диопиф, не отваживающиеся задеть лично его. Как бы то ни было, настойчивые афиняне добились своего, и, осудив философа, принудили его удалиться в полис Лампсак.
Анаксагор проповедует любовь к созерцанию. Созерцание дает свободу, философствование делает людей счастливыми. Философия — это и метод, и путь, и цель.
По свидетельству Аристотеля, «когда кто-то, находившийся в тяжелом положении, спросил Анаксагора, ради чего лучше родиться, чем не родиться, он ответил: «Чтобы созерцать небо и устройство всего космоса». Созерцание делает человека свободным.
Это созерцание обращено на нечто главное, которое просвечивает сквозь все остальное. Анаксагор улавливает это главное, как нечто расположенное по ту сторону от перемен. Все одно, — учит Анаксагор, — и это одно не возникает и не уничтожается; просто нечто смешивается и приходит к бытию, потом разделяется и уходит из бытия, но ничего не возникает, и ничего не исчезает. Бытие живет, и жизнь его размеренна и прекрасна. И все вместе в этом бытии существует вечно, но так же вечно все это смешивается и разделяется, а поэтому вечность покоя дублируется накладывающейся вечностью изменений — движения и круговращения. «Все заключается во всем», — учил Анаксагор, и учение это поражает своей тотальностью до сих пор. Трудно передать опыт чистого созерцания, свободного от аналитических операций рассудка. Когда приходит видение «всего во всем», рассудок затихает.
«Все во всем» — это чистая целостность, убегающая от членений. Не отрицающая членения, но постоянно в целом и в каждом конкретном случае их преодолевающая. Этот тезис Анаксагора, который многие пытались истолковать, кажется, истолкованию не подлежит. Он выше толкований, он приглашает к полному освобождению, к погружению в светлую и тяжелую одновременно стихию какого-то сокровенного бытия. «Все» обычно мыслится как далекая абстракция, как погашение всего конкретного. И наоборот, имманентная множественность вещей навязывается нам как «множественное все», как «очень многое», но при этом не все. В максиме Анаксагора обе эти реальности — далекая законченность рассудочного обобщения и конкретная незаконченность имманентного опыта множественности — обретают совершенно иной смысл, открываются с иной стороны. «Все» — это далекое все — вспыхивает здесь и сейчас, прямо под рукой, и завершает своим неожиданным, невозможным явлением, это разрозненное, не законченное, давящее своей фрагментарностью онтическое эмпирическое «все».
Нам очень важны эти «все» и «все». К ним, собственно, сводится топос озарения Анаксагора. Анаксагор не хочет редуцировать имманентное «все» к стихии — к одной или нескольким; ему ближе иная операция: он стремится вывести это все из обманчивой игры «созданий-исчезновений», пробраться к «семенам» «всего». Так, Анаксагор учит о «гомеомериях» — «семенах». Этих «семян» существует бесконечное множество, и все они по сути своей вечны и неизменны, но только бесконечно смешиваются и разделяется. Это одно «все», и оно бесконечно, но бесконечно в той плоскости, куда еще надо проникнуть. Это проникновение обнаруживает другое «все», которое, одновременно, только и делает возможным это проникновение. Более того, это второе «все» позволяет увидеть первое «все» именно как «все», а не как «многое», причем как «все» актуально бесконечное, а не только представимое таковым, не потенциально бесконечное.
Это второе «все», делающее первое «все» по-настоящему «всем», Анаксагор называет «умом» — «νοῦς». «Ум» — это «все» сразу, дискретное «все», и именно он делает море «гомеомерий» фиксированной бесконечной онтологической структурой. Поэтому Симплиций писал: «Учение Анаксагора не просто бесконечно, оно бесконечно бесконечно». Когда мы берем «все во всем», мы берем сразу две бесконечности: прерывную единственную бесконечность «ума» (νοῦς) и непрерывную единую бесконечность «семян» (ὁμοιμερη). При этом «ум» и «семена» не являются рассудочными дуальностями, они всегда друг в друге. Поэтому, учит Анаксагор, «каждая отдельная частица заключает в себе целое», или «в каждом отдельном есть часть всего».
«Ум» Анаксагора участвует в космогонии, упорядочивая первоначальный хаос «семян». Но этот космогонический процесс ума, это упорядочивание не является одноразовым — смешивание и разделение происходят по-стоянно, космос созидается умом вечно, бесконечно, непрерывно и целостно. В одном месте Анаксагор описывает определенную последовательность: «Все вещи были вместе: затем пришел ум и связал их в порядок». Но это по-следовательность не временная, не онтогенетическая, а скорее, гносеологическая. Озарение может схватить в пределе все стадии этого процесса одновременно. «Все вещи вместе» — это «гомеомерии» в их чистом состоянии, в том, как их не различить, это чистая непрерывность бесконечной ткани, это наличное все в своем корне. «Все вещи» различаются через их полную неразличимость, они видны как мрак, т. к. то, что они «все», это возможно и подразумевается, но не выяснено. «Ум» здесь, на обратном полюсе от этой черноты, тоже неразличим, он «еще не пришел». Два «все» еще невидимы, но такое невидение непредставимо, в каком-то смысле нереально. «Затем» Анаксагора — это «теперь», «сейчас», ум «приходит» постоянно, он «приходит» вечно, и связывает все в порядок вечно. И через порядок вещи обнаруживают свои семена, но в то же время они остаются связанными друг с другом по одному, и с умом — по-другому, потому что ум, как учил Анаксагор, «существует сам по себе; ибо если бы он не существовал сам по себе, но был бы смешан с чем-либо другим, то он участвовал бы во всех вещах; эта примесь мешала бы ему править, а так, существуя сам по себе, он правит прекрасно».
«И над всем, что только имеет душу, как над большим, так и над меньшим, господствуем ум. И над всеобщим вращением господствует ум…Ум же всякий — как больший, так и меньший одинаков».
Для понимания досократиков чрезвычайно важно визуализировать этот «ум», который имеет мало общего с рассудком, с «духом» поздней идеалистической философии, с «идеями» Платона, с «мышлением» Аристотеля, с интеллектуальным экстазом неоплатоников. «Ум» Анаксагора — это «все», которое приходит, и «все» организует, не сливаясь со «всем» организованным, равно как и со «всем» изначальным. Важно даже не то, как ум организует порядок из семян, существующих как бесконечность возможностей, но как он приходит. На этом моменте прихода фиксируется бытие мыслителя, на этом таинстве скрещивания двух бесконечностей, которые в силу этого скрещения выступают из своей возможности в действительность, не порывая с возможностью, вечно питаясь ею, вечно оставаясь в ней, омолаживаясь соком своей корневой онтологии, не возникая и не исчезая, лишь смешиваясь и разделяясь снова. Ум высвечивается не умом, а не ум — умом. Тонкие грани ускользающей игры.
Есть большое искушение истолковать «ум» Анаксагора как ум не Анаксагора. Это опасный и неверный путь. Нам надо пробиться именно к его уму, к такому опыту ума, который открывается через «приход».
Очень важно, что «ум» здесь существует сам по себе и через вещи мира, и вещи мира существуют через него, т. к. в противном смысле они оставались бы только беспорядочными «семенами». Перед нами колоссальная космическая игра, где единство и пары, тожество и различия постоянно перетекают друг в друга, ускользая от строгой фиксации.
Чтобы адекватно понять это, надо стать соучастником этой игры, вовлечься в нее, увидеть пролетающие над головой парящие диски планет и звезд, воздух греческого космоса, аромат садов Древней Эллады, увидеть волны Эгейского моря, услышать шум городов и тревожный зов жрецов, призывающих афинян в Элевсис…
Эллинское «все», анаксагоровское «все во всем» — это не данность, но цель существенного поиска, для успешного осуществления которого необходим тщательный разбор философского наследия более двадцати веков. Это «все» скрыто под наносами совершенно иных моделей мышления, которые систематически давят на то, чтобы мы приняли этот досократиче-ский «ум», эти досократические «семена» за что-то, чем они никогда не являлись.
Нам относительно легко было с водой Фалеса и воздухом Анаксимена. Они напрямую обращались к архаическим аспектам нашего восприятия, нашего воображения. К ним можно было просто — резко и неожиданно — подтолкнуть, локтем в спину, заставив потерять равновесие. Но «ум» так и просится быть отнесенным в нечто привычное, он как-то качественно неархаичен, модернистичен, освоен. Он не пугает нас, порождая иллюзию, что с этим-то мы справимся… И порядок, и частицы, и семена — все это картина уже более привычная, и увод ее к сакральному первоопыту, к топосу озарения чрезвычайно труден. В этом кроме всего прочего и признак времени: Анаксагор по времени уже близок к Сократу и его эпохе, а значит, мы стоим на пороге начала царства рассудочного. Уже не за горами иссушающая хватка рационального.
Анаксагор — это перешеек. Это гостиная греческого рационализма. Но если мы не научимся дешифровывать по-эллински — архаично, жутко, внезапно, безумно — анаксагоровский ум, этот колючий, жестокий, упругий ум, приходящий как молния, как удар, как падение, мы не сможем никогда адекватно — по-гречески — прочитать ни Платона, ни Аристотеля.
Это нам первое испытание — Анаксагор. Справившись с ним, мы можем двигаться дальше, не теряя нить сакрального мышления. Если мы здесь завязнем, то изучение греческой философии в иные, сократические и постсократические, эпохи нам можно не продолжать.
Ум Анаксагора есть стихия чистого безумия.
Царь Гераклит: опыт Огня
В Ионии в городе Эфесе, самом крупном ионийском центре, жил царь Гераклит. Он не правил, то ли лишенный власти восставшей демократиче-ской чернью, то ли уступивший право на царство своему брату. Мысль Гераклита несет отпечаток царственной природы. Он царь-философ. Надменный и могущественный. Он мыслит, как правит.
Гераклит прозван был «Темным». За то, видимо, что устанавливал дистанцию между мыслью и людьми. И какую дистанцию… Он написал текст с уже привычным для нас названием «О природе», а может быть и текст «Музы», а может быть «Путеводитель точный к мете жизненной» или же «Мерило нравов, [или] Благочинный уклад поведения, один и тот же для всех» (Диоген Лаэртский).
Слова Гераклита и в древности были непонятны, требовали колоссального напряжения. Поэтому они казались загадочными.
Гераклит царственно схватил стихию озарения. И быть может, в его философских прорицаниях эта стихия выступает чище и ярче иных учений. В Гераклите есть что-то столь фундаментальное, столь захватывающее, что тысячелетия его образ преследует думающего человека. Гераклит и есть мысль, ее телесное воплощение, ее дрожь.
Гераклит учит об огне. Умозрительный и телесный, земной и небесный огонь Гераклита — это первоначало, это стихия стихий.
Когда он сгущается, из него получается воздух, вода и земля. Но потом они возвращаются к истоку, и отец-огонь вбирает в свое милосердное пламя мир.
История Вселенной — промежуток между пожарами. Все исходит из огня, и к огню возвращается.
Ткань бытия огненна, огнем исполнены души и силы, боги и тела.
Начало мира Гераклит видит во вражде. Огонь, раздваиваясь, порождает «космос». Конец мира происходит через «экпюрос» («εκπύρωση» — гр. «сожжение»). «Должно знать, что война (πόλεμος) общепринята, что вражда — обычный порядок вещей (δική), и что все возникает через вражду и заимообразно». Война — основа космогенеза.
В учении Гераклита важна тема «Логоса» — «речи», «слова». В ней Гераклит видит сжатую суть вечно сущего огня. Великий огонь, созидающий Вселенную и уничтожающий ее, распаляющий солнце и звезды, порождающий ветра, воды и земли умещается в крохотном, меньше, чем крохотном пространстве — это беспространственное пространство озарения, реальность молнии-мысли. В учении о Логосе вся суть сакрального мышления, его наиболее полно и емко выраженное определение, еще точнее — присутствие.
Важно: когда Гераклит был юношей, он утверждал, что не знает ничего. После какого-то момента — внезапно! — он стал утверждать, что знает все. Что это за граница между ничем и всем? Это и есть опыт озарения, стоящий в центре досократической философии. Это мгновенный и необратимый контакт со стихией Логоса, в случае Гераклита — прикосновение к сути Огня.
Истинное знание получается мгновенно; вот его нет, вот оно есть. И если это действительно знание, то оно уже никогда никуда не исчезнет, не будет приращено или сокращено. «Выслушав не мой Логос, но настоящий Логос, должно признать: мудрость в том, чтобы знать все как одно».
Философия — это охота за Логосом, за искрой великого огня. Она может быть безуспешной, и подготовительная стадия способна растягиваться на долгие эоны, порождать школы и системы. Над ними смеется Гераклит: истинное знание не требует времени и усилий, оно отменяет время и труды. («Многознание уму не научает»). Оно приходит как огненная птица высших небес, и затронутый Логосом никогда уже не будет таким, как был. Он и огонь отныне одно, и выше космогонической вражды и спасительного экпироса такой философ, думающий огнем, простирает крылья в ослепительных регионах вечности.
«Логоса-то люди и не понимают», — печально замечает Гераклит. Напрасно, ведь «люди — боги, боги — люди. Ибо Логос один и тот же». И «этос человеческий — даймон (бог)».
Каждая малая фраза его, и даже апокрифы, чрезвычайно важны для постижения сути мышления. Нет второго другого мыслителя, кто предложил бы нам картину сакрального мышления столь же внятно и емко. Нет ничего светлее и прозрачнее Гераклита Темного…
«Природа любит прятаться», — говорит Гераклит. Она бежит от нас во внутренне пространство, и там ее так трудно отыскать. Природа — родня огню, единосущна Логосу, поэтому она всегда оказывается с той стороны.
Озарение всегда оказывается не там, где, казалось бы, должно быть. («Большая часть божественных вещей ускользает от внимания по причине невероятности»). В этом царское искусство интеллектуальной охоты — надо подсторожить сложный гон священной мысли, граничащий с безумием, и ловко расставить силки, а потом удержать добычу. Ведь «тайная гармония лучше явной» и «много земли перекопают люди прежде, чем найти золото».
Эту тему продолжают и развивают другие высказывания: «Не чая нечаянного, не выследишь неисследимого и недоступного». Т. е. «если не ждать неожиданного, не достичь недостижимого и недоступного».
Нечаянное (неожиданное) — приступ озарения Логосом, сам же Логос недостижим и не доступен.
В сакральном мышлении отсутствуют строгие границы. Логос избегает фиксации, строгая дефиниция заведомо имеет дело с мертвым следом. Подлинная мысль жива и чудотворна, поэтому ближе к ней стоит тот, кто проламывается к преодолению крайностей. Мыслить в Логосе значит мыслить эсхатологически, значит, осуществлять гносеологический экпирос. Война, творя космос, разделяет стихии, огненный Логос их соединяет в небесном корне озарения.
И Гераклит совершенно фундаментально формулирует основной закон сакральной философии: «Путь вверх-вниз один и тот же». С этого начинается и этим же заканчивается подлинная и всеобщая мысль. «В одну и ту же реку входим и не входим, мы есть, и нас нет».
Более развернуто и уклончиво то же высказано им так:
«Сопряжения: целое и нецелое, сходящееся, расходящееся, созвучное несозвучное, из всего — одно, из одного — все». Целое и нецелое суть не-целое и не-нецелое. «Одно и то же в нас — живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти [противоположности], переменившись, суть те, а те, вновь переменившись, суть эти». И наконец:
«Бессмертные смертны, смертные бессмертны».
Так в умном огне!
Замечательна Вселенная Гераклита, в которую он сошел, «чтобы отдохнуть, но еще больше от этого устал». В ней солнце греется жаром Востока, и стынет, падая в холодное море Запада. А небесный свод опрокинутой чашей играет огненными движениями стихий.
Гераклит играет с детьми в кости, зябко греется у простого очага, смущая приехавших за мудростью странной простотой, отказывает жителям Эфеса в том, чтобы дать им законы, считая их недостойными.
Гераклит явно брезгует чернью, и особенно мыслящей чернью. Именно опыт грязного мышления заставляет его постоянно — снова и снова — утверждать жестокую силу дистанции. Кажется, Эфес и его жителей он ненавидел больше всего. Глядя на них, он переживал катастрофический опыт антропологической измены. «Люди не осознают того, что делают наяву, подобно тому, как этого не помнят спящие».
Им, скорее всего, посвящены эти вечные строки, горький плевок озаренного Логосом в «не слышащих и не видящих»: «свиньи грязью наслаждаются больше, чем чистой водой».
Представлять Гераклита как последовательного носителя мысли о переменчивости всего, совершенно неверно. Переменчивость всего отнюдь не фиксация наблюдений за вещами мира. Это следствие «ускользания природы», плод бегства топоса озарения от попытки пригвоздить его рассудочными средствами. Логос-огонь вечен, неизменен, постоянен. Он — сущий и ни от чего не зависит. И впустив его внутрь, в свой очаг, философ делит с ним праздник пламени. Пламя божественного огня неизменно. И оно столь же неизменно пронизывает изменчивый мир. Более того, изменчив мир не сам по себе, но перед лицом ускользающей природы, которая своей осторожностью, своей пугливостью, своей постоянной установкой новых и новых дистанций, своим танцем движет мир.
Пока не придет экпирос. И его последний поцелуй. Говорят, что, заболев водянкой, Гераклит измазал себя горючим навозом, чтобы выпарить воду. По одной версии его разорвали бешеные псы, по другой — он вылечился. В любом случае, какой великий жест, утверждающий великую дистанцию! Огненный дух сошел в помет, чтобы взойти на небо…
Учение Гераклита внятно и самодостаточно. Что бы из него ни потерялось, главное до нас дошло. Он бросил стрелу мысли в то, что над временем (ведь «один день равен всякому»), и, рванувшись туда сами — столь же отчаянно и жестоко, по-царски — мы там ее и обретем.
О, Гераклит! О, царь!
Италийская философия
В истории философии принято считать, что философия до Сократа развивалась параллельно в двух концах Эйкумены: на Востоке — ионийская школа, на Западе — италийская. Бытует мнение о самостоятельности этих философских очагов. Ионийская философия, в свою очередь, состоит из школы Фалеса и из одинокого Гераклита, а италийская школа — из пифагорейцев и элеатов. Позже обе линии свелись к Афинам, где через Сократа, Платона и Аристотеля превратились в нечто совершенно иное (или, по меньшей мере, считается, что они превратились в нечто иное). Хотя это тема отдельного исследования.
Рассмотрим философию «Великой Греции»: так называли в древности греческие полисы — Кумы, Неаполь, Посидония, Элея, Регий, Локры, Кротон, Сибарис, Метапонт, Тарент на юге Апеннинского полуострова; Сиракузы, Акрагант и другие города на побережье Сицилии.
Пифагор: бобы и числа
Великий философ Пифагор родился на острове Самос в Эгейском море. Считается, что он учился у Фалеса в Милете, потом был посвящен в сан жреца в Мемфиса в Египте, оказался в Вавилоне в плену, и после освобождения персидским царем Дарием Гистаспом осел в италийском городе Кротоне, где и основал свою школу, постепенно переросшую в Пифагорейский союз.
Считается, что именно Пифагор впервые употребил слово «философ» применительно к своим последователям и ученикам, членам Пифагорейского союза, состоящего из братств («гетерий»). Показательно, что этот союз был одновременно мощной (сетевой) политической партией, т. к. его члены (делившиеся на две категории — «акусматики «и «математики») активно участвовали в политической деятельности, стремясь установить в полисах «Великой Эллады» структуры правления, вытекающие из основных принципов пифагорейского учения.
В случае пифагорейства мы видим совпадение трех явлений, которые позднее будет принято разводить: это собственно, «философия», политика и религиозно-жреческий орден со своими культами и обрядами посвящения. Это свойство сакрального мышления — в нем никогда одна сфера не может быть жестко отделена от другой; основные виды человеческого (и нечеловеческого) бытия тесно переплетены. Важно: неверно считать, что эти направления — философия, религия и политика — еще не разделились. Они не мыслимы были в разделении, причем не только в случае пифагорейцев, но и во всем остальном досократическом греческом мире. Мысль, власть, культ были единым целым, развертыванием общего озарения. В данном случае речь идет о пифагорейском озарении.
Пифагор был сыном Аполлона, считался одним из его воплощений. Антропологический статус Пифагора был весьма особенным. Его называли «великим мудрецом». Но явно осознавая недостаточность такого определения, греки ввели для него специальный видовой титул: «Разумные живые существа подразделяются на [три вида]: люди, боги и существа, подобные Пифагору», — писали древние греки.
Пифагор не просто мудр, он фундаментально надчеловечен, соткан из более тонкого вещества. Его дух и тело прозрачны. Озарение и происхождение от солнечного бога гармонии дали ему специальное качество. «Такие, как Пифагор» — это и есть «философы» в досократическом смысле. Надлюди. Мысль меняет природу существа. Возвышенная природа вращается в регионах мысли. Пифагор — это антропологический статус, звание в иерархии существ — между человеком и богом. Там и вращаются волны познания.
У Пифагора было от отца золотое бедро, и река Кас приветствовала его, когда он проходил мимо: «Χαΐρε Πυθαγόρας!»
Пифагор учит о необходимости «очищения» и «отделения». В этом состоит первая фаза интеграции в Союз. Ищущие мудрости должны научиться молчать, слушать, соблюдать диету, аскетические практики, строго следовать системе ритуальных запретов: не есть бобов, разглаживать постель после сна, не касаться белого петуха и т. д. Это касается в первую очередь «акусматиков», «слушателей». Им вообще запрещалось говорить в течение нескольких лет. Только слушать. Так воспитывалось внимание.
Вторая ступень посвящения называлась «математиками», от греческого «матема», «знание сути». На этом уровне открывалось полное учение о числах, гармонии мира, о богах и Вселенной, о душах людей и других существ. Это учение пифагорейцы были обязаны хранить в тайне, оно было достоянием только членов гетерий Пифагорейского союза.
Считается, что Пифагор развил учение о «метемпсихозе», «переселении душ». Сам он отчетливо помнил странствия своей души от Аполлона до петуха через чреду различных людей, в частности, сына Гермеса Эфеальта. И учил вспоминать своих последователей.
«Метемпсихоз» — важнейший элемент сакрального мышления. В нем проявляется интуиция глубокого. Душа человека или другого существа, движущая сила их наличного бытия, фундаментальней, чем ее телесные проявления. Она, конечно, еще далеко не самое неизменное и важное, как высшие начала, но все же посерьезней, чем преходящее телесное бытие. Душа в теле — как большее в меньшем. Это вывод опыта души, сосредоточение на ней внимания. Если молчать несколько лет кряду и слушать мудрые наставления философов, никаких сомнений в этом не останется. Большее в меньшем, различимое как таковое, схваченное и распознанное опытным путем. А раз телесное имеет строгие границы наличия, то «большее, чем тело» должно иметь внушительную степень свободы и простираться за границы. В этой пифагорейской душе нет позднейшей монотеистической самостоятельности от тела или подобия платоновской «идеи». Мигрирующая душа Пифагора слита с телом, явлена через него, но через дисциплину и аскетику она экзальтируется до качества самостояния, ироничного безразличия к своей телесной тени.
Этим ироничным безразличием пропитано все учение Пифагора. Оно же объясняет выразительный ужас бобов. Бобы считались эллинами душами мертвых, возрастающими из Аида. Это тени в чистом виде. Тело же живого человека — это полутень. Для души тень, для тени — душа. Бобы как оболочки теней фиксируют тело на самой теневой точке, противоположной метемпсихической подвижности души. Отсюда запрет на бобы становится первым пифагорейским законом. Члены Союза чтили его столь свято, что один пифагореец дал себя убить преследователям, не в силах укрыться на бобовом поле, что легко спасло бы ему жизнь.
Эти же тени должны быть тщательно очищены после сна разглаживанием постели, с ними же связаны и все остальные пифагорейские предписания, кажущиеся сегодня столь странными — не поднимать упавшее, не прикасаться к белому петуху, не шагать через перекладину, не ощипывать венка и т. д.
Важна заповедь и другого рода: не ходить по большой дороге. Пифагорейский союз обращен к тем, кто ходит по дороге узкой. Это аристократия знания, надчеловеческое братство самостоящих душ, укрепленных духовным созерцанием и концентрированной политической волей. Пифагорейцы-математики — это души, призванные упорядочить сети телесных проявлений. Души, напоенные аполлоническим светом, закаленные жреческим праксисом. Они противопоставлены не телам, но теням, т. е. телам без внутреннего солнечного напряжения, без рывка внутрь. В пифагорействе мы видим намеки на учение о недочеловеке. Недолюди — те, кто идет по широкой дороге, те, чьи тела похищены покойниками Аида, чье бытие растрачивается зря и вовне. Рассеянность души по Пифагору — величайший грех.
Пифагорейцы вставали до восхода солнца и шли встречать рассвет на берег моря. Они делали это изо дня в день, из года в год, веками… И свет великого солнца всякий раз открывался им во всей чистоте, в своем интеллектуальном величии из очистительных вод. Пифагорейцы купались вечером сами, а потом ужинали все вместе и шли думать дальше…
Пифагор учил также о числах. Числа его — числа озарения, плоды сакрального опыта. Мы знаем об этом учении только из трудов поздних пифагорейцев, нарушивших запреты молчания, и то в пересказе Платона и еще более поздних философов. Числа Пифагора — это Логосы. Они несут в себе высшие аполлонические энергии, способные открыть створки наличного мира. Сакральные числа — это сгущенное все. Они не количественны, но качественны, они не поддаются счислению, и операции с ними суть обрядовые теургические жесты, культ, призывающий высшие силы. Числа рассматриваются и осмысляются на вершине опыта души.
Аскетически выученная душа, вспомнившая все и саму себя осознавшая, совершает второе пифагорейское действие: бросается в мир матемы, мир, где вечные числа живут стройной силой бесконечных божеств. Это озарение математикой. Каждое число бесконечно и едино, несложимо и неразложимо. Оно отдельно и непрерывно, само и иное. Число живет, и мысль о нем потрясает основания Вселенной. В числе скрыт мир, и счисляющий его творит и разрушает стеклянные этажи возможных, будущих и прошлых космосов. Естественно, это очень ответственное дело.
Рассудок у пифагорейцев, конечно, присутствует, но функцию он выполняет более чем вспомогательную. В основном он заведует точным исполнением великой пифагорейской заповеди — «не давай ласточкам жить под крышей». Ласточки тоже тени — как залетевшая в дом птица — к смерти. Человеческие мысли, лишенные молниеносной оси Аполлона, тоже тени. Ничуть не лучше бобов.
Отступление о философии ласточек. Если Пифагор учился у египетских жрецов, он должен был знать, что ласточка — это символ Изиды, именно так эта богиня прилетела в Библос, на поиски мертвого мужа Осириса. Ласточка — Totengeleitvogel, птица-мертвоводительница. Снизу — белая, сверху — черная, как провозвестие зимнего солнцестояния. У греков ласточка играла ту же роль — на процессиях мистерий ее несли поющие дети, одетые в белый спереди и черный сзади костюмы.
Ласточка дает любовь, потомство и жизнь дому и живущим в нем, но уходя, она забирает жизнь с собой. Пифагор хотел чего-то более фундаментального, нежели эти циклы веретена Великой Матери, Великой Ласточки. Он хотел построить системы по ту сторону любви и смерти, в самом центре вечности. Вдали от славного города Библоса, от таинственных гор и черной матери.
Пифагорейцы достигли многого. Кротон и некоторые другие полисы были, по сути, в их руках. Так, Пифагор принудил трусоватых жителей Кротона встать на борьбу против демократического тирана Сибариса, изгнавшего достойных аристократов из этого города. И неожиданно для самих себя войско Кротона победило превосходящие силы Сибариса. Великий аристократический ответ полубожественного мудреца — пример ободряющий слишком осторожных сторонников справедливости и предвещающий неизбежную погибель восставшей мрази, орды недолюдей, наевшихся бобов. Победа Кротона над тираном Сибариса — триумф солнечного числа над пустопорожней скорлупой тени, великое достижение мысли. В этом оптимальное сочетание культа, мышления и военно-политической воли. Благодарные жители Кротона признали духовную и политическую власть Пифагорейского союза, и сам Пифагор составил для них законы — говорят, самые лучшие в Греции.
Пифагор мыслил огонь как ограниченное, а воздух как неограниченное. Между ними, как между сакральными числами 1 и 2, простирается вся драма космоса.
О гибели Пифагора рассказывают следующее. Богатый, но не просветленный аристократ Килон просился войти в Союз, но был отвергнут. Тогда он стал бороться с пифагорейцами, опираясь на недовольство плебса, уставшего от спасительной солнечной дисциплины. По одной из версий Килон и его сподвижники подожгли дом, где собирались пифагорейцы, и большинство погибло в огне. Говорят также, что верные ученики выстлали своими телами путь для спасения пожилого учителя. По другой версии в огне погибли все.
Политическая доминация Пифагорейского Союза в италийских полисах длилась около полувека. Потом пифагорейцев стали постепенно вытеснять «демократы». Пифагорейцы мужественно отстаивали свои идеи — в определенный момент по «Великой Греции» прокатилась волна пифагорейских восстаний. В целом, к концу VI века до н. э. пифагорейцы были изгнаны из Италии и остатки гетерий двинулись в Афины. Последняя волна их — Филолай, Архит — повлияла на Платона и «Академию». Пифагорейская мысль стала важной составляющей неоплатонизма. Продолжателем прорицательской миссии Пифагора (его воплощением) считал себя знаменитый эллинский маг Аполлоний Тианский.
Пифагора нет. Нет его гетерий. Но остались числа, эти божественные числа… И бобы… И тени…
И все же: не позволяйте ласточкам жить у вас под крышей.
Элеаты
Другая ветвь италийской философии связана с городом Элея в «Великой Греции», где вошел в зенит своей славы философ Парменид, основавший «онтологическую школу», где проживал последние годы его учитель Ксенофан, пришедший туда из Малой Азии, и откуда почерпнули первые импульсы своего умозрения ученики и последователи Парменида — Зенон и Эмпедокл.
Бездна земли Ксенофана Колофонского
Ксенофан был современником Гераклита и Фалеса, и его родной город Колофон находится как раз между Милетом и Эфесом. Но он в юности покинул родной город, раздраженный изнеженностью и идиотизмом его обитателей. Он ездил по Греции, пока не достиг ее западных границ. По преданию, принимал участие в закладке города Элея, который стал синонимом целого направления в философии.
Ксенофан логически завершает ионийскую философию умных стихий. С облегчением мы встречаем у него учение о том, что «все возникает из земли» (по свидетельству псевдо-Плутарха в «Стромата»). Нетрудно вообразить, что Ксенофан видит абсолютную землю как основу бытия, которая, разряжаясь, производит из себя все остальные стихии. Не исключено, что именно Ксенофана имеет в виду Ницше, увлекавшийся досократиками, в своем знаменитом афоризме «Братья мои, будьте верными земле».
Эта Земля Ксенофана требует такого же интуитивного опытного напряжения, как и стихии других ионийцев. Она — эта земля — должна предстать в особом мгновении озарения перед внутренним бытием философа — огромной, безмерной, великой массой. Эта земля — абсолютная Родина, и корни ее уходят в бесконечность. Симплиций сообщает нам, что Ксенофан использовал такое выражение — «бездна земли».
Бездна земли — это характерный вираж топоса озарения. Земля здесь открывается как беспредельная сущность, как умозрительный эквивалент бытия.
Космос Ксенофана начинается из земной бездны, которая в перводвижении выдавливает из себя сок воды. Из этой пары — «земли и воды» — проистекает все остальное. «Земля и воды есть все, что рождается и растет». Земля слишком абсолютна в самой себе, чтобы порождать. В исторгнутой воде она преодолевает эту абсолютность, вуалирует бездонность своих корней.
Из земли и воды состоят тела мира и их души. Макробий сообщал: «По Ксенофану душа состоит из земли и воды». Земноводная душа — реальность более чем серьезная. Земля дает ей абсолютную фундаментальность, венчает с бездонностью корней. Вода придает душе подвижность и гибкость, делает ее вполне конкретной душой, слитой и раздельной одновременно с другими душами, с богами и явлениями мира.
Земная составляющая души. Одно это уводит нас вглубь, провоцирует на пасмурное — несколько болотное — тяжелое размышление. Обратите внимание: в этом натурфилософском определении нет ничего унижающего человека. Земной аспект души, ее включенность в бездонную массу изначальной стихии ни в коем случае не унижает ее качества. Это просто иная парадигма умного взгляда. Важнейшая — т. к. замыкает цикл движения ума по стихиям.
Вода как первоконкретика, выжатая из тотальной матери-земли, порождает и все остальное. От животворного прикосновения к абсолютной земле вода истончается и выбрасывает вверх потоки воздуха, ветра, облака. Важнее всего в мире Ксенофана облака. Их вода производит с особым тщанием и любовью. Им предстоит завершить циркуляцию стихий и загореться. Облака загораются. Сами по себе, по внутреннему велению земли, которая суверенно правит в них. Звезды, планеты, метеоры — все это не что иное, как облака, загоревшиеся от преизобилия в них жизни. Луна же — «свалявшееся облако». Даже само солнце есть море искр, рожденных влажными испарениями.
Ксенофан учил, что солнц много. В каждой местности — свое. Солнце загорается утром и гаснет вечером. И больше его нет, солнца. У каждого места, у каждого климата, у каждого народа солнце и луна — свои. Они рождены их собственными облаками, а те, в свою очередь, водами, а воды — родной землей. Наше солнце есть выражение нашей земли. Странно, что никто, кажется, не догадался сделать из космософии Ксенофана основу тотального патриотизма. Ведь его стихии вплоть до светил и планет абсолютно национальны, физически созданы Родиной.
Эсхатология Ксенофана также земляная. Когда мир устает быть самим собой, он «тонет в грязи». Можно предположить, что грязь становится все более и более плотной, пока не исчезает в земляной бездне. Люди, боги, живые существа, светила и облака постепенно превращаются в грязь, в невнятную смесь сгущенной воды. Существа встают на земные пути и возвращаются к тому, из чего произошли. Из грязи в грязь.
Но конец мира, по Ксенофану, не является чем-то из ряда вон выходящим. Грязь Ксенофана священна, животворна, и поэтому, поварившись сама в себе, испуская пузыри сомнения, проникаясь лучами подземной, внутриземной бездны, эта грязь рождает заново. И вот уже булькают снова земноводные души, из всемирного болота появляются первые недоуменные тела… То там, то здесь серое насыщенное землей облако уже отрывается от серой туши абсолютной грязи и медленно карабкается вверх… Новое начало. Новый мир встает из грязи, чтобы тучно ползти к вороху солнечных искр… «Грязь полагает начало новому рождению».
Если бы Ксенофан учил только этим замечательным истинам, едва ли он стал бы вдохновителем элейской школы. Тяжесть его ироничного ума привела к исследованию тайной природы бездны.
И эта природа бездны открылась ему как «единое». «Единый бог, из богов и людей величайший, не подобен смертным ни телом, ни мыслью». Это жуткая и непостижимая реальность — «весь он видит, весь мыслит, весь слышит»; «всегда в том же месте остается, нисколько не движимый, и также нисколько не приличествует ему переходить с места на место». Ксенофан, по Диогену Лаэртскому, прорицает: «Существо божье шарообразно и нисколько не подобно человеку».
Понятие «единого» («Единый бог из богов и людей величайший, не подобен смертным ни телом, ни мыслью») очень подозрительно. Оно слишком противоречит духовному богатству эллинского созерцания. Интуиция «единого» слишком страшна, чтобы оставить человека прежним. Проникновение в видение «существа божьего» впервые мы встречаем именно у Ксенофана. Шарообразное существо, всевидящее, всеслышащее, ни в чем на людей не похожее, неизменное… При этом, уточняет Ксенофан, оно «не дышит».
Бытие проступает как «единое», как «единое божество». Это шок. Это выбор какого-то особого пути мышления, неизвестного ионийцам, отличного от пифагорейства. Что-то фундаментальное происходит в философском космосе вместе с Ксенофаном, заканчивается арсенал изначальных стихий, представляемых в топосе озарения. И дойдя до земли, погрузившись в ее бездну, мысль сталкивается с «единым божеством».
Это божество Ксенофана: оно совпадает и не совпадает с целым. Совпадает, потому что для него вне целого нет места, а его единство не позволяет ему пребывать в какой-то части целого. В этом божестве есть много от земли, от ее корней, от земной бездны. Но вместе с тем оно не совпадает с целым, т. к. является «умом целого». Цицерон много позже писал так: «Ксенофан, приписав целому ум, утверждал, что оно и есть бог».
Единый бог бесконечен, не имеет никакой формы, но имеет форму шара. Это не противоречие, как кое-кто из историков философии и доксографов подумал, это вполне по-гречески. Бесконечность здесь имманентна, вечность — на расстоянии вытянутой руки.
Вдумываясь в Ксенофана, остается чувство, что что-то непоправимое произошло… Или еще нет? Или показалось?
Шар бытия Парменида
Парменид продолжил дело Ксенофана. Он был одержим тканью чистого бытия, его единства, его единственности, его неподвижности и его шаровидности. Но философия Парменида имела и иной непосредственный источник. В своей философской поэме «О Природе», которая дошла до нас в пересказах и фрагментах, он описывает опыт философской инициации так.
Парменид на двухколесной колеснице, запряженной двумя многомудрыми конями, отправляется по особой тайной тропе в гости к богине. Эта богиня Дике (дословно: правосудие, закон, справедливость) и открывает философу видение бытия.
Путешествие к дому богини таково. Парменид в сопровождении «солнечных дев», Гелиад, покидает «δόμα Νύκτις» («дом Ночи») и со своими вожатыми движется к свету. Этот путь, говорит Парменид, лежит далеко от торной «тропы людей». Это «путь богини», тайная дорога, отыскать ее начало не так просто.
Парменид достигает «врат путей Ночи и Дня». Эти символические врата описаны подробно. Их створки сотканы из эфира, висят на медных стержнях, заперты на железный засов.
Гелиады умоляют богиню отомкнуть врата эфира юному Пармениду, и та берет его за правую руку, оставляя на ней свой неизгладимый вечный след.
Австрийский философ Е. Топитш верно отмечает сходство этого описания с классическим сценарием путешествия шамана на небо. Кони, духи-помощники, врата, ритуальные жесты.
Далее богиня начинает излагать Пармениду содержание «пути истины». Посвящая его в знание, она постоянно подчеркивает: «есть два типа знания — путь истины и путь мнения».
Путь истины труден и скрыт. Это опыт, который способна транслировать лишь сама богиня. Это инициатическое начало философии. Путь истины лежит в самом топосе озарения, в тайном портике между Ночью и Днем. Здесь пребывает «хорошо закругленная истина», как выражается богиня (η άλήθεια ευκύκλη). Богиня уверяет: «Безразлично, откуда бы ни начинать, ибо я снова вернусь к исходному пункту». «Хорошо закругленная истина» — это точная формула сакрального мышления. В нем познается сразу все вместе, и если это «все вместе» познано, то познано, считай, и все по отдельности. И наоборот, если по-настоящему познано что-то отдельное, то из него прорастает знание и «всего вместе». Подлинная истина всегда «хорошо закруглена».
Поэма «О Природе» делится на Пролог, первую часть, повествующую о «пути истины», «пути богини», и вторую часть, описывающую «путь людей», «путь мнения».
В первой части все сосредоточено на абсолютности и неизменности шара бытия. «Бытие есть», — утверждает Парменид, завороженный открывшимся ему зрелищем онтологических врат. И в экстатическом припадке созерцания продолжает: «а небытия нет». Его можно понять. Находясь там, идя такими путями, все оно именно так и откроется. Бытие заполняет все, самодовлеет, не оставляет ничего вне себя. Опыт чистого бытия некоммуникативен. Сам Парменид сумел подружиться с «солнечными девами», сделать из них возничих, проводников и кого еще — мы только догадываемся… Он отыскал колесницу, разведал тайный путь, долго и быстро скакал, — так что ось пела свирелью, — добрался до секретных эфирных врат, столкнулся с богиней, умудрился выпросить у нее ключи, получить волшебное рукопожатие и распахнуть врата Ночи и Дня — на медных крюках, с распахнутым железным засовом. И после всего этого мы считаем, что способны грубо втиснуть в нашу простую, ничем особенно не просветленную голову великую мысль юного героя о том, что «бытие есть, а небытия нет». Это высказывание не бесплатное, не развоплощенное. К нему прочно привязана цепь приключений, перипетий, метаморфоз. Эти метаморфозы Пролога существенны. Если мы игнорируем их, то попадаем не в откровение онтологического космоса Парменида, а куда-то еще. Во всяком случае, мимо него.
Я хочу сказать без обиняков следующее: заключения Парменида о «бытии бытия и небытии небытия» не являются рассудочными постулатами и не сводимы к логическим тавтологиям. В них напрямую содержится результат прямого онтологического опыта, опыта преображающего контакта с чистым бытием. Тонкость в том, что прежние философы, досократики вовлекали нас в драматические метаморфозы стихий, воспитывали нашу интуицию, щадили хрупкий разум от перегрузок и ослепления светом, увиденным вплотную. Нам показывали онтологические горизонты через переливы живого космоса; священные воды, ветра, огни и земли сохраняли нас от повреждений. Мы додумывали, следуя за Фалесом, Анаксимандром, Пифагором и Гераклитом, последние инстанции, предвосхищали их, останавливаясь на почтительном расстоянии и позволяя лучам греческой истины постепенно выжигать в нас то, что препятствует ее усвоению, и параллельно, нашей активной оперативной духовной эллинизации. Парменид честно описал, чего ему стоило путешествие, не скрыл от нас его условий. Но все же… Вот перед нами его вывод: «бытие есть, небытия нет», — и в этом есть нечто искушающее. Да, нас ввели в искушение, мы быстро забыли про богиню и врата, поместив тончайшие пророческие откровения в напичканную случайным хламом чашу нашего рассудка.
«Мыслить и быть — одно и то же», — провозглашает Парменид слова богини. Шар бытия охватывает все, и нет мысли вне его, и мысль едина с ним. Это утверждение никак не доказывается и ничто не отрицает. Это просто так — там, на пороге Дня и Ночи, там именно так…
Бытие не имеет начала, не возникает, не исчезает. Оно всегда одно и то же, ничто в нем не меняется, ничто его не делит. Для него нет вчера, сегодня и завтра. Это один и тот же миг, одно и то же место. Бытие есть бытие, одно едино и единственно. Симплиций сопоставлял «шар бытия» Парменида с космическим яйцом орфических культов. Вполне вероятно, что так оно и есть, но это сопоставление нас не сильно продвигает. «Хорошо закругленный шар» бытия Парменида — это молниеносный вызов.
Надежнее скорее переходить ко второй части поэмы. В ней изложен «путь мнений», «дорога смертных». «Узнай затем мнение смертных, слушая обманчивый строй моих стихов», — говорит богиня. Далее она излагает ему космософию, построенную на интуиции двух первоначал — света и тьмы. В основе космоса лежат две стихии: огонь (свет) и земля (мрак). Озарения Гераклита и Ксенофана накладываются друг на друга. Выдвижение здесь пары стихий в качестве космогенных причин очень показательно: у преж-них мыслителей-досократиков чистое бытие пряталось за одной из стихий — в бездне главной стихии. Она была одной из, но вместе с тем первичной. У Ксенофана, говорившего откровенней всего, чистое бытие скрывалось в бездне земли. У Гераклита таинственный Логос — в огне. Парменид же, наученный «новому пути» богиней, посвятил «чистому бытию» свой несравненный экстатический гимн. Он сообщил о нем прямо и светло, но эти прямота и светлость столь опасны, что выжжен рассудок и сгорели зрачки тех, кто без должных усилий и соответствующей подготовки поместил онтологическое откровение в свой ум. Чрезмерная онтологическая резкость первой части объясняет, почему во второй части мы имеем уже пару стихий в качестве основных.
Далее знакомо: промежуточные стихии — вода и воздух — созданы из смеси светлого (огненного) начала с темным (земляным). Между огнем и землей царит безумное напряжение, оживляющее космос. Это напряжение носит имя иной богини — Афродиты. «В центре Вселенной богиня, которая всем управляет». Она и ее сын Эрот «царят, посылая души из видимого мира в невидимый и обратно».
Парменид пишет о двух стихиях: «Но т. к. все именуется светом и ночью и эти названия прилагаются к тем или иным вещам соответственно своему назначению, то все полно одновременно света и темной ночи, причем перевеса не имеет ни то, ни другое, т. к. ни одно не причастно другому».
Вот они, ворота Дня и Ночи. Они — и между ними живая любовь, связывающая вещи (по Аристотелю, Парменид утверждал, что «раньше всех богов он насадил любовь») — торжественно вращают «венцы мира» (στεφανή). Так мы видим «путь мнения», «путь смертных». И на этом пути эфирные врата навсегда замкнуты: двойственность не размыкается, снова и снова бросая души тела из ночи небытия в день пробуждения, и назад.
И лишь тот, кто смог отомкнуть засов, добраться к тайному порогу с обратной стороны, кто смог размягчить сердце суровой многокарающей Дике, тот получает озарение чистого бытия по ту сторону пульсирующего ритма огня и земли, в их вечном кровавом рыдающем плодоносном смертельном браке…
Совершенно бесперспективно противопоставлять первую и вторую ча-сти поэмы, задумываться об их несоответствии. Обе важны так же, как важен пролог. «Мнение смертных» неверно, но только по столь большому инициатическому счету, что, чуть отпустив сверхнапряжение мысли, оно окажется верным и мудрым. «Обманчивый строй стихов» богини истинен хотя бы потому, что их произносит она. Даже ложь, шутки и оговорки богов выше людской мудрости. Богиня говорит правду во всех частях сочинения Парменида. Но главное — это учесть Пролог.
Если в первой части «небытия нет», то во второй — «небытие есть». Есть, и слава Богу. И одно не противоречит другому, и истина, и «обманчивый строй стихов» открывают нам одну и ту же картину.
Вот он, шар бытия… Вот он… Но мрак покрывает восторженные зрачки, и голос изменяет, и нервы лопаются… Бытие есть, небытие есть, бытия нет, небытия тоже нет… Бытие есть небытие…
Есть философские вопросы, в которых полезнее запутаться, чем осрамиться. Надо сохранить Парменида от тех, кто пришел за ним.
Он и его философия — далеко не то, за что их принято считать. Мы еще за много верст от рационализма, в живом средоточии полноценной эллин-ской досократической мысли.
Неподвижно летящая стрела Зенона Элейского
Ученик Парменида Зенон сосредоточил свое внимание на «пути истины». Трудно сказать наверняка, сумел ли он соблюсти все необходимые предварительные условия для получения прямого онтологического озарения Парменида. Здесь вступают в игру слишком тонкие материи, т. к. любой профетический прорицательский опыт может быть субтильно подменен. Если изложить «путь истины» слишком выпукло, наглядно и откровенно, то он может повернуться обратной стороной. И в результате получится нечто намного худшее, чем даже «путь мнения», чем «обманчивый строй стихов». Получится имитация мысли, неправомочное святотатственное надругательство над богиней, низвержение высшей онтологической инстанции в полую плоскую бездну обезьянничающего рассудка.
Зенон вызывает подозрения. Мы не вправе точно судить, оправданы ли они. Смысл в том, что восклицания Парменида, сделанные в момент предельного напряжения прямого онтологического опыта, не являются логическими операциями. Это пророчество о бытии. Это не тезис, не догадка, не рассудочная аффирмация. Даже если пророчество по видимости доказывается, его сила не в аргументации, а в особом качестве. Пророчество испускает особый свет. И у Парменида он фиксируется, а сам посвятительный опыт путешествия к вратам Дня и Ночи тщательно описывается. Зенон продолжает это описание, но не факт, что опыт передан ему тщательно, и он преемствует сам дух пророчества. А, может быть, и преемствует.
Считается, что Зенон отличался именно тем, что доказывал справедливость «пути истины» своего учителя Парменида. Но если сам Парменид восклицает, то Зенон защищает уже высказанное, обороняясь от возможных возражений. Защита истинности слов учителя о бытии стала основной задачей философии Зенона. Для того чтобы осуществить эту задачу, Зенон выстраивает систему «апорий» (по-гречески «апория» дословно «преграда», «непроходимость», «тупик»). Апории Зенона представляют собой систему логических рассуждений, призванную свести к абсурду предполагаемую точку зрения, обратную основному онтологическому тезису Парменида — о том, что только бытие есть, а небытия нет, что бытие неподвижно, и, следовательно, движение не есть бытие, и его, собственно, нет и т. д. У Зенона, таким образом, рассудочное начало поставлено на службу сверхрассудочной интуиции, и призвано защищать ее от прямых атак рассудка, не служащего никакой высшей инстанции.
Апории Зенона призваны привести работу автономного рассудка в тупик. Вот один пример: «летящая стрела неподвижна», — провозглашает Зенон. Он абсолютно прав. В каждый конкретный момент летящая стрела есть только в том месте, где она есть сейчас. В другой момент — в другом месте. Но ее нет между этими местами. В каждом месте, которое летящая стрела занимает, она покоится. И нет того места, в котором она не покоилась бы. И доказать обратное невозможно. Позже киник Антисфен, споря с Зеноном, встал и принялся ходить, бурча под нос, «а все-таки движение есть, я же хожу?!» Не убедил.
Другая апория: Ахилл и черепаха. Ахилл, учит Зенон, никогда не догонит черепаху. Черепаха ползет медленно, быстроногий Ахилл бегает быстро. Но за то время, когда Ахилл настигнет черепаху, черепаха сделает маленький шажок. Быстроногий Ахилл тут же ее настигнет снова, но, глядишь, а она сделала и еще один шажок, теперь уже совсем маленький… И так повторяется до бесконечности, Ахилл все бежит и бежит за черепахой, и не может догнать. И не догонит никогда.
До сих пор лучшие умы человечества бьются над этими замечательными загадками, и не могут разобраться, в чем дело. А те, кто считает, что это дело совсем простое, глубоко ошибается. На первый взгляд, кажется очевидным, что Ахилл черепаху догонит и перегонит, но Зенон со своими шажками тоже чрезвычайно убедителен. Что-то здесь обманывает нас: либо опыт, либо ход мысли. Скорее всего и то, и другое. Истина Парменида именно в том, что неправ рассудок, как неправы чувства. Надо лететь в свирельной колеснице к эфирным воротам. Здесь же — миры апорий, лабиринты, тупики, пещеры, расселины, уводящие от сути блики.
В Зеноне настораживает то, что «путь мнений», развенчиваемый им, им же десакрализируется — за счет сведения его к сухой стерильной рассудочной игре. Сам Парменид поступал тоньше и деликатней, описывая огонь, землю и Афродиту. Огонь, земля и богиня Любви — пусть они и «обман» — куда симпатичней наморщивших лоб людей, силящихся осознать, в чем подвох логических построений остроумного мудреца.
Апории решаются, впрочем, через правильное описание качества прерывности непрерывности. В парменидовском бытии прерывность и непрерывность совпадают; это бытие шарообразно (конечно) и бесконечно, в нем нет до и после, в нем нет времени, оно и есть все время. Там, где прерывность и непрерывность не совпадают, там, где есть «до» и «после» — в мышлении и в чувственном опыте — возникают неснимаемые противоречия. Из этого онтолог делает вывод: мышления и чувственного опыта нет, есть только истина, которая где-то там…
Эмпедокл, нежный философ
Эмпедокл, сицилийский философ из Акрагаса, был простым обыкновенным богом. Он не умер, но исчез в жерле вулкана Этна, возвратившись на Олимп. И божественная лава выкинула оттуда после его ухода медную сандалию. На память, удивление, смех и радость всем нам. А до этого ему показалось, что в родном городе слишком прохладно. Тогда он пробил отверстие в окружающих город скалах, и теплый воздух хлынул на Акрагас, превратив его в настоящий сицилийский курорт. Непринужденным жестом… Какая божественная легкость…
Богом Эмпедокл стал не сразу. Он пишет об этом так в своей «Физике»: «Был уже некогда отроком я, был девой когда-то, был кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной». Постепенно ум, рассеянный и в деве, и в отроке, и в кусте, и в рыбе, собрался в Эмпедокла. Этот ум философ называл «священным умом», «мыслями быстрыми вкруг обегающим все мирозданье».
Эмпедокл был учеником Парменида Элейского, но во многом наследовал и ионийскому Гераклиту. Это самое тонкое и привлекательное сочетание. В нем есть нечто от высшей истины. Очень точно Платон назвал философию Эмпедокла «нежной». Вот у него, у Эмпедокла, мы не видим той двусмысленности, которая мерцает в Зеноне. Кажется, Эмпедокл внял Пармениду совершенно адекватно. Чутко вслушиваясь в неизменность единого, он сосредоточился на «пути мнения», на второй части парменидовской доктрины. Отсюда и тепло к Гераклиту и предельное (почти запредельное) изящество эмпедокловой мысли.
Эмпедокл учил, что есть четыре стихии (элемента, формы), и они неизменны, божественны и живы. Зевс-огонь, Гера-воздух, Аид-земля, Нестис (сицилийский бог) — вода. Неизменны они и все время меняются, сочетаясь и распадаясь. Все в мире духовно, душевно, телесно и живо одновременно, видимо все и невидимо. Элементы, движимые силой, постоянно носятся, сталкиваются, сливаются и расходятся; рожденные их игрой миры возникают и рассыпаются, чтобы снова возникнуть, из живой лавы прекрасных просветленных стихий. Все элементы равны, но равнее других огонь, он стоит особняком, сбивая остальные три элемента в оппозиционную группу. Огонь и воздух по Эмпедоклу — мужские стихии, вода и земля — женские.
Эмпедокл старается говорить о стихиях с надлежащим почтением. Огонь — это «горячее лучезарное Солнце». Воздух — необъятное небо». Вода — «бурное море» и «темная хладная влага». Земля — «сокровенное твердое мира начало». («Сокровенное», т. е. «скрытое», невидимое — отсюда «Аид», по-гречески «невидимое»).
Среди всех живых сил божественного мира Эмпедокл выделял две главные — Филия и Нейкос (Любовь и Вражду). Любовь все соединяет, Вражда разделяет. Они бывают вместе, бывают по очереди. Вся реальность — продукт этой сложной игры слияний и разделений, основанной на корнях стихий. Эмпедокл, «нежный», примиряет Единое Парменида и воинственный мир (под знаком Вражды) Гераклита. У Эмпедокла все вместе — единство, дуальность, последовательность, одновременность… Воистину «священный ум».
Неизменность вселенной проявляет себя в четырех основных фазах, которые непрерывно повторяются. Первая фаза целиком под знаком Филии. Вражда здесь пребывает за пределом. Фаза доминации Филии характеризуется неразделенностью стихий. «Там ни быстрых лучей Гелиоса узреть невозможно, ни косматой груди земли не увидишь, ни моря: так под плотным покровом Гармонии там утвердился шару подобный, окружным покоем гордящийся сфайрос». «Сфайрос» — сакральный шар Парменида, чистая парадигма холизма. Это золотое единство было, есть и будет.
Но Вражда не дремлет, и начинает свой путь из зоны сумеречного пограничья (периферия «гордящегося сфайроса») к центру вещей. Это вторая фаза сакральной истории циклов. Холос стихий начинает распадаться на части, а части еще на части и т. д. Вторая фаза проходит под знаком «войны и мира», «Вражды» и «Любви». Царство Филии слабеет и отступает, Нейкос упорно давит на ткань бытия и пробирается к центру вещей.
В третьей фазе Нейкос царит во Вселенной, все вещи разрознены и совершенно не подходят друг к другу. Стихии, частицы, фрагменты бытия носятся в светопреставленном мраке, движимые силами хаоса… Черный мир Нейкоса напоминает «железный век» Гесиода, а, может быть, и еще более страшные времена. Здесь Любовь, Филия, уже вытеснена за пределы вселенной; темна Вселенная и холодна, лишенная чистой живой Любви.
В четвертой фазе Любовь снова движется к центру, смещая с царственного трона хаотический Нейкос. Дробные россыпи элементов, частей, осколков и фрагментов начинают интересоваться друг другом, пытаются слиться. Начинается брачный процесс реальности. Эмпедокл ясно видит священным умом, как оно все происходило. По сообщению Симплиция, Эмпедокл учил, что вначале возникли отдельные органы и части растений, животных, людей. Ото всюду на земле росли глаза, руки, уши; в воздухе носились глаза и пальцы, по водам плыли отдельно корни и кроны, а из огненной жижи выпадали плавники и крылья…
«Выросло много голов, затылка лишенных и шеи, голые руки блуждали, не знавшие плеч, одинокие очи скитались по свету без лбов».
Под силами Филии части скреплялись между собой. «Крупно тогда одинокие члены сошлись, как попало, множество также других прирождалося к ним беспрерывно. Множество стало рождаться двуликих существ и двугрудых, твари бычачьей породы с лицом человека явились, люди с бычачьими лбами, создания смешанных видов: женской природы мужчины, с бесплодными членами твари». Отсюда ведут свое начало циклопы и кентавры, песеголовцы и человеко-быки, русалки и сатиры, и много кто еще… Остатки этих первых слияний в Элладе можно было встретить, говорят, вплоть до III века, пока последние язычники не увидели «похороны Дианы». «Быкорожденные мужеликие» постепенно ушли. Остались только те, чьи элементы слились более прочно и надежно.
Поэтому, по Эмпедоклу, люди — сгустки Любви. Они стали порождать друг друга через любовь только после того, как слившиеся элементы плотно привыкли друг к другу.
Сгустком Любви в человеке является кровь. «Питается в бурных волнах крови и отсюда происходит подвижная мысль человека, потому что мысль в людях — это кровь, омывающая сердце». В крови все стихии пребывают в гармонии, они уравновешены. Кровь — вещество «гордящегося сфайроса», зародыш вселенной первой фазы космического ритма.
«Нежность» — самое главное качество «священного ума». Сакральные лучи ласкают, поднимаясь из крови, омывающей сердца, восходя к огненным сферам небес, созданных из застывших кристаллов. Огонь отражается в зеркале кварца и наступает день. Темный воздух со сгущенным облаком Луны закрывает его, и наступает ночь. Филия и Нейкос, Зевс, Гера, Аид и Нестис проявляют себя сквозь мир, существ и людей, творя своим бытием духовные ритмы духовной плоти, разлитой по всему, испаряющейся, пылающей, застывающей, играющей в лучах непреходящей увлекательной драмы.
Жест Эмпедокла с Этной парадигмален. Чувствуя дыхание старости — могилы, земли и жадных челюстей Нейкоса, короля гниения, он добровольно уходит в огонь, к отцу, к самому себе, к свету своей души. Души того, кто был когда-то кустом, а стал богом среди богов.
Колдовской костюм Демокрита — убийцы шара
В описаниях древнегреческой философии привычно уничижительное отношение к «софистам». Ранние софисты (Протагор, Горгий, Гиппий, Антифонт, Продик, и поздние: Критий, Трасимах, Алкидим) после Платона были ущемлены в правах, от философии их отлучили. Возможно, это несправедливо, т. к. с точки зрения рациональной проработанности их методы ум-ствования были вполне адекватными. Другое дело, что их разум был совсем «не священным», не обнимал бытие, и даже не пытался это сделать. Однако к ним можно было бы быть снисходительнее — они были довольно скромны, и их скепсис в отношении обобщений более говорит о природе рассудка, на который они ставили, нежели об их серьезном намерении подорвать сакральное мышление. Они были шутниками-провокаторами, «канатными плясунами», развлекавшими народ на рыночных площадях. И такие персонажи часто встречаются в самых сакральных цивилизациях — своего рода, трикстеры, путающие ложь с истиной, серьезное — с дурашливым. Не случайно Платон и Аристотель так часто полемизируют с софистами, а Платон называет их именами диалоги. В каком-то смысле рационализация сакрального Платоном и Аристотелем и была ответом на вызов софистов, которые, развенчивая миф, подвигали его защитников на разработку новых гносеологических стратегий. Сакральное, таким образом, не просто игнорировало автономный рассудок, но и починяло его, трансформируя его механизмы.
А вот совершенно иную и гораздо более зловещую роль играли другие философы — атомисты. Эти не оспаривали миф как таковой, но предлагали такой миф, который бы изъял из верного холистского мифа сакральных досократиков его главное содержание, его ядро. А это гораздо страшнее. Вместо мифа о целом они воздвигли цоколь «антимифа» в форме «мифа о частном». С софистами Платон спорил, книги Демокрита яростно жег в кострах. Эти костры из демокритовых книг пылали в зеленых благоухающих аллеях Академии, напоминая теплыми ночами об опасном пределе, где священному духу Эллады грозит величайшая опасность, с которой он может и не справиться. Даже костры из пергаментов атомистов отравляли воздух, насыщая его черным соком того, что грядет…
Греческая философия — это Иония, Сицилия, Афины… Но никак не Фракия. Разве может прийти что-то дельное из Фракии? Из Абдер?
Оттуда пришли Левкипп и его ученик Демокрит, подрывники греческой сакральности. Целых трудов от них не дошло, и большинство сведений у нас есть о Демокрите. Все в нем и его биографии довольно сомнительно. Во Фракии были чрезвычайно распространены бродячие колдуны, потомки которых стали известны как «черные маги». Классический костюм фракийского волшебника состоял из обтягивающего тело трико в черно-белую шашечку, как у его ренессансного потомка Пьеро. Иногда черные пятна осознавались как «дыры». В учении Демокрита можно легко распознать основные черты «черномагического» кодекса. Это, по сути, антимиф, антисакральность.
Самое чудовищное в этом учении — теория «атомов» и «пустоты». Здесь происходит бласфемическое перевертывание базовых установок элеатов. Ранее мы видели, особенно у Зенона, как экстатический монизм Парменида мог субтильно соскользнуть к автономизации рассудочного. Стоило только перейти от «священного ума» к обычному, и парменидовские аксиомы (особенно «первого пути») оказывались основой злостного навета на сакральность. Уже Зенон балансировал на грани, Эмпедокл старался вернуть мысль о едином в животворное русло огненного мифа, но фригийское колдовское братство воспользовалось этим для создания глобального подрывного учения. Весь ужас его человечеству еще предстояло испытать на себе спустя пару тысячелетий. Демокрит перенес свойства целостной «сферы» Парменида с единого на частное. И назвал это «частное» — «атомос», «неделимым». В элейской оптике «неделимым» («атомарным») было только само сверкающее бытие, Единое, «гордящийся сфейрос» Эмпедокла. Скользкие фракийцы обрушили эту конструкцию, выдвинув «антибога», иную «неделимость» — «неделимость очень малого» — вместо неделимости Всеобщего, Единого, Целого. Элейская неделимость Целого исключала наличие пустоты, небытия. «Небытия нет!» — увлеченный богиней, восклицал пророчески Парменид. И в это он вкладывал все, что мог. «А вот и неправда, небытие есть!» — ехидно отвечали Левкипп с Демокритом, низвергая солнечный путь, обрушивая солярную онтологию элеатов.
Как это стало возможно? Полупреступление начал Зенон, перенося (пусть частично и с оговорками) учение о Едином и о Бытии с уровня пророческой интуиции на уровень бодрствующего сознания. А Демокрит завершил дело, отталкиваясь уже от рассудочного понимания «единства», «бытия» и «небытия». Более того, когда мышление в парменидовски-онтологических терминах стало возможным на рассудочном уровне, и молния онтологической трансфигурации выносилась за скобки, эту модель можно было применить к чему угодно, и тогда произошло самое страшное: «небытие» приобрело статус бытия, превратившись в «материальное простран-ство», в «вакуум», в «протяженность», а «бытие» стало мелкой, крохотной, невидимой материальной частицей, в бесконечном дроблении носящейся по мертвой пустоте. Это и был отныне мир. Нетрудно угадать в таком мире творение Нейкоса. Вот он черномагический культ Вражды, не одухотворенной огненной вражды Гераклита, от которой веет духом высшего покоя, но Вражды в чистом виде.
Атомизм — учение Нейкоса, в нем основой является черная бескачественная пустота, набитая частичками атомов. Атомы постоянно движутся, каждый из них отделен от другого пустотой и никогда не может слиться. Пустота может быть большей или меньшей, но есть всегда, поэтому атомы одиноки, печальны, голодны и бессмертны. Из них складываются тела, души и множество миров, которые затем рассыпаются. Когда пустоты между атомами меньше, складываются предметы и существа, когда ее больше, они распадаются.
Всем правит железный закон механики, атомы и пустоты подчинены року, который ничего не оставляет без причины. По Демокриту все имеет причину, все разлагается на атомарные составляющие. Но эта причина мерт-вая, т. к. не имеет никакой цели. Для сакрального сознания вопросы «почему?» (причина) и «зачем?» (цель) практически совпадают. Вещь, существо, явление происходят потому, чтобы стать. Это так, потому что каждая вещь инкрустирована в бытие без зазора, причины сливаются со следствиями, чистые токи Вселенной замыкают цепочки «священного ума», и куст является кустом, чтобы потом стать подростком, девой, петухом или Пифагором, и так без конца. «Все во всем», потому что «все для всего» и «все из всего». Фригийские колдуны разрывают золотую цепь: причина есть, и она неотменима, фатальна. А вот цели нет. Атомы и пустота позволяют объяснить, почему? Но отказываются говорить — зачем? Такого вопроса нет. Демокрит этот вопрос запретил. Незачем. Конечно, «незачем», коли тупые и мелкие атомы, дробь мира, шныряют в пустоте без смысла и без цели, не возникая и не исчезая, в вечном изгнании…
Такая же мертвая возникает у Демокрита и математика. В ней нет фигур как цельных явлений, есть атомарные ансамбли. Так, шара (!), по Демокриту, нет; есть множество одинаковых пирамид с крохотными основаниями, с сомкнутыми вершинами — многоугольник с бесконечно большим количеством сторон. Причем все эти многоугольники отделены между собой атомарно микроскопическими пробелами, пустотами. «Почему мы этого не видим?» — вопрошали наивные греки. И снова Демокрит переворачивал элейские парадигмы с ног на голову. Парменид утверждал, что Единое как истина, неизменное и чистое бытие, непознаваемо, т. к. его от нас застилает завеса чувств, «мир мнений»; дробность чувственного восприятия отделяет нас от чистой онтологии, познаваемой мудростью. Демокрит крадет аргумент, но прикрывает им прямо противоположное: «мы не видим атомов и пустоту, т. е. абсолютную множественность и дробность мира, его анти-онтологизм потому, что нам не позволяют этого сделать чувства». Вот это подмена, только вдумайтесь! Фактически перед нами мертвый мир современной материалистической физики. Жесткий детерминизм физических явлений, полное отсутствие телеологии, дифференциальный метод исчисления.
Но это же и есть колдовской костюм: белые шашечки — атомы, черные (или дыры) — пустота. Бесконечно малое есть, бесконечно большое пустое пространство тоже. Эти две реальности в сговоре друг с другом — черная пустота и белые мелькающие точки. Прозрачный делирий Нейкоса.
Демокрит учит о душе так, как это делают «черные маги». Душа состоит из красных огненных атомов. Они цепкие, крепче телесных, но так же, как и тела, рассыпаются. Из частичек огня состоят души камней, растений, животных и людей. Из них же сотканы «боги воздуха». Причем все это смертно, все это распадается, все это, имея причину, не имеет цели. Бесцельны боги, бесцельны люди, бесцельны травы, бесцельны звезды.
Неудивительно, что политика и этика у Демокрита была наихудшей из возможных. Он был теоретиком радикальной демократии (человек как атом), а в нравственной сфере учил об «эвтюмии» — «хорошем настроении», «наслаждении» — как о высшей добродетели. И наконец, он считал, что человечество культурно развивается, придумывая все более и более совершенные механические устройства, от чего «хорошее настроение» у всех повышается. Для философского греческого мира это, конечно, уже полная дикость.
Показательна полемика Демокрита с софистом Горгием, тоже жителем Абдер. А Горгий, кстати, учил о том, что ничего нет. Не слабо, тоже фракиец. Это важно: софисты отказываются от мифа и онтологии, играя в парадоксы рассудка, они скептичны в отношении познания, с грустью рассматривают пределы мышления. Но Демокрит как настоящий «черный маг» не удовлетворен этой половинчатостью; ему мало релятивизировать бытие, ему надо создать «анти-бытие». Он служит «воздушным богам», сцепившимся в воздухе и источающим телесный смрад и ужас. А те требуют своего: черная экзистенция умирания, бытие к смерти, бесцельное и преходящее творение, помноженное на бесконечность других таких же — столь же бесцельных и преходящих — хочет быть зафиксирована, отлита в умный гранит. Это нечто большее, нежели скепсис и сомнение, это жало иной, негреческой, несакральной, недосократической реальности.
Демокрит несет в себе смерть эллинам. Это анти-грек. В нем, как в колбе,уже копошатся черные души Галилея, Декарта, Гоббса и Локка, творцов «современности», основателей механического мира атомизированных обществ. Они живут в Демокритовой пустоте, строят Демокритовы демократии, разглядывают в голландские стекла Демокритовы частицы. Мир Демокрита нам знаком, мы в нем живем. Но солярный мир досократиков, мир сакрального мышления — это его полная антитеза.
Где Демокрит получил свое черное вдохновение? Посещал ли он в своих странствиях запретные регионы Малой Азии или Каспийских Ворот? Встретился ли с тревожными магами Фригии или добрался до башни Сатаны близ Киркука в Северном Междуречье? Все это покрыто тайной.
Логически Левкипп и Демокрит завершают досократический период. Это его конец, причем более суровый и существенный, нежели эпоха сакральных рационализаций Платона и Аристотеля и их школ. Это конец абсолютный, парадигмальный. Это конец всего.
Итак, мы показали сакральное измерение досократической философии. Можно было бы теоретически пойти и иным путем — описать орфическую традицию, известные нам религиозные представления и мифы греков, через Гесиода и Гомера, воссоздать инициатические ритуалы и мистерии, а затем сопоставить их со сведениями о досократиках. Это вполне легитимный подход и, возможно, однажды мы это проделаем, вернувшись к данной теме на ином витке. Пока же задача была иной — выделить сакральное у досократиков не через прямое формальное сопоставление с учениями, однозначно относимыми к области культа и мистерий, но напрямую, пользуясь их же собственным языком, оторванным, однако, от интерпретационных парадигм Нового времени. Мы ставили задачу подумать о досократиках досократически. Двигаясь по этой траектории, мы подошли к пропасти — нас подстерегла зияющая пропасть атомизма. А над ней — добротный навесной мост Платона и Аристотеля. Это важные призывные тропы, но по ним мы отправимся в другой раз.
Глава 7. Вертикальная топика философии Платона
Платон и платонизм в философии Хайдеггера
К Платону и платонизму можно подходить с разных позиций — тема бескрайняя. Однако, познакомившись с реконструкцией структуры становления западной философии Хайдеггером, с осмыслением ее судьбы как голограммы судьбы всей западной цивилизации, невозможно не учитывать взгляд этого мыслителя на платонизм. Даже если бы мы хотели осмыслить Платона иначе, нам все же пришлось бы прежде рассмотреть хайдеггерианскую топику, т. к. в противном случае она начала бы постоянно атаковывать наши реконструкции из области имплицитных философских интуиций как своего рода инвазии «философского бессознательного».
Когда мы говорим «Хайдеггер», то имеем в виду не только его самого и его труды, но и тот колоссальный переворот в философии, который связан с его именем и который затронул практически все ее стороны и в первую очередь, постмодерн, прямо вытекающий из хайдеггерианства, феноменологии и структурализма.
Хайдеггер считал, что на Платоне завершается этап Начала западной (греческой) философии или Первого Начала. Досократики в этом смысле могут быть рассмотрены как «доплатоники», и именно в досократической фазе свершается принципиальное рождение Логоса из Мифоса, т. е. собственно философия. То, как происходило это рождение в Древней Греции — от Фалеса до Платона — по сути, предопределило все дальнейшее: и самого Платона, и все последующие «заметки у него на полях».
По Хайдеггеру Логос родился как-то не так. Он проскочил в своем рождении какой-то важнейший момент, упустил его из виду, скачкообразно перепрыгнул важнейшую бездну (вопрос о бытии и сущем, вопрос об истине, вопрос о ничто), не проследил тщательно и скрупулезно пункт перехода онтического в онтологическое и как раз у Платона достиг своей кульминации в форме «двухэтажной топики», «навсегда» закрепляющей референциальность (идеи/образцы — явления/копии) как основу философского метода. Первое Начало — это период рождения Логоса. У Гераклита Логос рождается. В Платоне он уже рожден. Платонизм, таким образом, это фиксация появления на свет Логоса. Логоса западноевропейской цивилизации. Этот Логос есть судьба Запада. Долгое время он мыслился единственно возможным и универсальным. Но на последнем этапе бытия этого Логоса, когда мы вступили в эпоху его конца (Начало Конца — Декарт и Новое время, Конец Конца — Ницше и европейский нигилизм), оказалось что он смертен (Логос умер) и необходима альтернатива. Традиционалисты обратились за альтернативой к Востоку (Р. Генон, А. Корбен и т. д.), структуралисты — к архаическим культурам (К. Леви-Стросс, М. Элиаде и т. д.). Сам Хайдеггер обозначил движение к другому Началу, которое должно состояться на Западе, там же, где началось Первое Начало, и для этого необходимо распознать смысл западной истории и разгадать тайну судьбы западной философии. А это значит, что Платон лежит в центре внимания всех: и тех, кто старается осмыслить природу первого Логоса, и тех, кто ищет альтернативы. Более того, Платон завершает собой путь от предлогоса к Логосу, а значит, он есть нечто абсолютное, задающее параметры Логоса раз и навсегда, и начинает путь от Логоса к его развитию (юность — неоплатонизм), фиксации (зрелость — Средневековье), склонению (старость — Новое время) и рассеиванию, энтропии (предсмертная агония и смерть — современный нигилизм, постмодерн).
Платон — это западноевропейская философия как она есть.
Такой подход Хайдеггера безукоризненно верен. Он верен, т. к. включает в себя все другие точки зрения на Платона и не исключает никакие из них. И вместе с тем он не включается ни в одну более общую, а, следовательно, более верную интерпретацию, т. к. всегда что-то останется вне ее. Быть может, что-то и будет однажды предложено, но для этого потребуется осуществить деконструкцию самого Хайдеггера, а это сегодня никому не по силам даже в отдаленном будущем, ведь прежде надо освоить и досконально осмыслить самого Хайдеггера (а до этого пока далеко, как до Луны).
Теперь о критике Платона Хайдеггером. Во-первых, эта критика располагается на интеллектуальной карте хайдеггерианской философии в целом, а значит, не является чем-то заведомо понятным: вроде, один философ критикует другого. Ни Платон, ни Хайдеггер не являются «одним» и «другим» философами; оба они намного больше, чем философы — они фундаментальные поворотные вехи западноевропейской судьбы, а значит, отношения между ними не сводятся к «мнению» одного о другом. Тектонические плиты смыслов подходят к разлому. Это нечто гигантское и поэтому требует тщательного и внимательного разбора.
Сразу можно сказать, что Хайдеггер критикует не Платона, а западноевропейский Логос в целом, воплощенный в Платоне как в кульминационной точке. Этот Логос — сама философия Первого Начала. Изучая досократиков, Хайдеггер исследует, как этот Логос возник. Изучая Средневековье, Новое время, немецкий идеализм и Ницше, он исследует, как этот Логос прожил свою жизнь, а также почему и когда он умер. Поэтому Платон для Хайдеггера — это метонимическое имя Логоса, синоним философии Первого Начала.
Во-вторых, Хайдеггер видит путь к другому Началу философии не через доказательство несостоятельности Первого Начала. Вся судьба Логоса — от досократиков до Ницше — должна быть осмыслена как нечто «завершенное», и своей «завершенностью», «прожитостью», «продуманностью», содержащимися в ней «откровением» и «забвением», «провозглашением» и «умолчанием» привести нас к позиции, откуда начнется другое Начало, Er-eignis. Этой позицией, по Хайдеггеру, является «da» Dasein'а. Но обнаружить это «da» мы можем только через деконструкцию (Хайдеггер говорит о «деструкции») всей западноевропейской философии и, следовательно, через осмысление и переосмысление Платона.
С этими двумя поправками мы видим, что тема «Хайдеггер vs Платон» превратилась в нечто настолько масштабное, что от первоначальной формулировки не осталось и следа. Следовательно, принимая хайдеггерианскую локализацию Платона на шкале истории западноевропейской философии, мы имеем полное право отложить рассмотрение «критики Хайдеггером Платона» на потом; более того, мы просто обязаны это сделать, если хотим добиться достоверных результатов.
Поэтому мы фиксируем и удерживаем в дальнейшем в сознании следующий пункт: философия Платона — это финальное оформление рожденного западноевропейского Логоса и, постигая Платона, мы постигаем именно его, причем в образцово законченной и в то же время полной жизненных сил и исторических перспектив форме. Это юный Логос, Логос-юноша. Таким мы его и будем воспринимать.
Логос и философский Бог
Что такое Логос? Сам Платон использует этот термин в техническом смысле. Мы же имеем в виду философский Логос, т. е. то, что делает мышление философским мышлением, сознание — философским сознанием, т. е. доведенным до своего логического предела и выведенным за него самосознанием.
Логос — это:
1. радикальный разрыв одного и другого, т. е. операция корневой сепарации без немедленного воссоединения разделенного (соединение поэтому либо отсутствует, либо откладывается, но осуществляется в любом случае опосредованно и апостериорно) — отсюда изначальная семантика глагола λέγειν — «жатва»;
2. вертикальная организация самой процедуры разделения, т. е. неравновесность, включенная в сам процесс разделения (наделение операции разделения положительным значением, хотя речь идет о принципиально негативном, смертоносном действии).
Разделение первично и по отношению к тому, что разделяется, и по отношению к тому, кто разделяет, и по отношению к тому, как происходит разделение. Разрыв первичен.
Отличие философского сознания от нефилософского в том, что первое радикально, а второе — нет; в первом разрыв необратим и предстает как свершившийся факт, как особое явление (называемое позднее духом), а во втором — обратим и представляет собой «почти разрыв», «предельное натяжение», в критической точке (строго накануне разрыва) ослабевающее и переходящее в реверсивность. Логос эксклюзивен, он исключает из себя. По-этому Логос имеет в себе изначально нечто нечеловеческое, невыносимое для человека. Отсюда рождается концепция философского Бога — того, кто способен выносить опыт разрыва. Чтобы выносить его, необходимо самому быть разрывом, Логосом. Отсюда загадочное высказывание Гераклита: «Логос и любит и не любит называться Зевсом». «Любит» — потому, что он и есть Бог. «Не любит» — потому что он не Бог людей, а Бог философов, т. е. тех, кто стоит принципиально выше людей. «Выше» потому, что философы любят то, чего люди ужасаются и избегают, страшась больше, чем собственной смерти. Люди (в отличие от животных) мыслят, но в отличие от философов, люди мыслят плохо, толкаясь на периферии Логоса, опасаясь подойти к нему по-ближе. Люди мыслят спиной к Логосу, они подозревают, что, взглянув ему в лицо, они немедленно исчезнут, и этот роковой поворот станет их последним жестом. Скорее всего, они правы. Но философ — тот, кто идет дальше, кто идет в противоположном от людей направлении. Он идет к центру — к ужасу. Хайдеггер говорил: «Дух — вот что по-настоящему страшно».
В основе философии Платона лежит первое освоение Логоса, первое законченное и задокументированное путешествие вдоль его вертикали. Это путешествие повторяется от диалога к диалогу, движение меняет направление, внимание путешествующего останавливается на деталях, переходит от одного предмета к другому, пробует различные регистры описания, подбирает формы из языка обычного мышления, превращая их в то, что позднее будет осмысленно как философские термины.
Преступления философской души («Федон»)
Структура Логоса как разделяющей вертикали описана по-разному в разных диалогах.
В «Федоне» Сократ перед смертью описывает структуру фундаментальной пары тело/душа. К этой же теме примыкает фигура «демона» Сократа, невидимого существа, пребывающего с другой стороны материальной действительности и направляющего наиболее принципиальные решения и действия в жизни и мышлении Сократа. Собственно философским здесь является радикальное отделение души от тела, невидимого от видимого, а также приписывание как раз невидимому, скрытому, внутреннему превосходства и абсолютизированных качеств — вечности, бессмертия, свободы, созерцания истины и т. д. В вопросе души Платон осуществляет обе главные операции Логоса:
1. четко отделяет душу от тела, выводит их в отдельные категории сущего;
2. располагает результаты разделения иерархически: ставя душу над телом, невидимое — над видимым, демона — над человеческим индивидуумом.
Тем самым мы имеем дело с первой версией философской антропологии или философской психологии, придающей Гераклитовскому тезису «ήθος ανθρώπω δαίμον» рационально развитую форму.
Это карта антропологического Логоса — душа/тело — развивается и уточняется в иных диалогах всякий раз, когда речь идет о человеке и его месте в мире. Здесь мы имеем дело с парадигмой антропологии, выстроенной строго вертикально, причем эта вертикальность обеспечивается внутренней близостью самого акта разделения и той инстанции, которая позитивно оценивается в иерархизации разделенного. Импульс к разделению, работе Логоса, исходит сверху, из невидимого, из того, что выступает не само по себе, а через свои следствия, и постигается от обратного — через операцию отрицания нераздельной связности, непреодолимой вязкости феноменального мира. Вступление души в игру есть эпифания внутренней вертикали, немедленно организующей восприятие совершенно иным образом, нежели это делает нефилософское сознание, полностью уловленное стихией единого сущего, данного в форме множественности никогда не разделенных до конца между собой пар. Душа — это введение иного в это, опрокидывание привычного человеческого опыта. Суд над Сократом, помимо его чисто социально-этической подоплеки, — это суд людей над философом как над тем, кто не только утверждает неочевидное, травматичное, ужасающе-разрушительное, опрокидывающее привычные эвиденции обыденного мышления, но и обосновывает на этом опыте свое поведение, в том числе в публичной сфере. Философия на самом деле преступна, как преступна душа. Душа, понятая философски, т. е. радикально, нарушает закономерности мира, в котором душа и тело должны быть слиты в общем моменте, «напрягаясь, но не разрываясь». Поэтому она «переступает» подразумеваемые границы человеческого. Душа, взятая как таковая, имеет в себе нечто нечеловеческое, т. е. божест-венное/демоническое. Для обычных людей душа дана через саморастворение в телах, которые она оживляет и раскрашивает. Для философа душа — это точка, через которую Бог рвется в мир; через которую пытается заявить о себе Логос. Так философ становится в оппозицию людям. Он обнаруживает себя как разрушитель, носитель противоестественного (для людей) негатива. Кстати, сократовское «я знаю, что ничего не знаю», можно понять и так: уязвленный ответом пифии, что Сократ мудрейший среди людей, и не найдя никого более мудрого, чем он сам, Сократ задумывается над природой соб-ственной мудрости и обнаруживает… что у нее нет содержания, что ее по-следний смысл в ее негативности, в ее уничтожающей, все разделяющей, убийственной остроте. «Ничего не знаю» значит «являюсь только носителем самого бога/демона, который знает все через незнание индивидуума, истончившего себя до философской прозрачности».
В «Теэтете» Сократ поясняет: «Среди богов зло не укоренилось, а смертную природу и этот мир посещает оно по необходимости. Потому-то и следует пытаться как можно скорее убежать отсюда туда. Бегство — это посильное уподобление богу».
Душа философа, Сократа перед смертью, бежит «отсюда туда». И это бегство по оси Логоса делает философа радикально иным, чем все остальные.
Горизонты вертикальной эротики
На другой карте (в диалоге «Пир») вертикаль Логоса очерчена через фигуру Эроса. Эрос осмысливается как развернутая метафора крыльев, взлета, радикального путешествия по открывшейся траектории трансцендентного Логоса. Сущность любви у Платона состоит в проживании полета, взлета, головокружительного восхождения от этого к иному. Снова мы имеем дело с разделением и вертикалью: в истоке эротического чувства лежит острое ощущение разделенности, доходящее до пароксизма и невыносимой ностальгии. Снова мы безошибочно опознаем присутствие Логоса и его лезвия: это он разрезает мир по живому, оставляя незакрывающуюся рану — рану великой Любви. Но есть две любви: горизонтальная (Афродита Пандемос) и вертикальная (Афродита Урания). Первая является человеческой, в ней относительное разделение индивидуумов, тел и стихий уравновешивается их вялым тлеющим тяготением друг к другу, стремлением прилипнуть и сомкнуться в трудно различаемый комок сущего, подобно петле — состоящей из одного и того же, но имеющей два тянущихся друг к другу конца. Эта человеческая любовь эфемерна, т. к. не основана на реальной травме: в ее основе лишь видимость разделения, а не само разделение, а значит, и снимается она не экстатическим восторгом, а расслаблением удовлетворенных сытых позывов. Такая пандемическая любовь есть промискуитет, сенсуализм, простое дополнение к многочисленным практикам «заботы о себе», не выходящим за пределы квазиотделенности сцепленных между собой элементов.
Вертикальная любовь, связанная с Афродитой Уранией, в корне отлична. Она ориентирована перпендикулярно к миру людей, она его разрезает, вспарывает, оставляя невыносимую боль, порождающую стремление. Это и есть бытие Эроса — разделяющего и указывающего путь к истоку этого разделения: никогда здесь, всегда там. Смысл Эроса в экстатике, т. е. в выходе за свои пределы, в полете, в броске во внутреннее измерение, в головокружении от чувства бездны и высоты: мы понимаем, что находимся высоко, только распознав под ногами разверзшуюся бездну.
В вертикальной эротике Это любит То, страдает по Тому, мучается без Того, стремится к Тому, летит к Тому. Наличие самой этой ностальгии конституирует оба полюса небесной Любви: и ее низ (данность) и ее верх (цель, задание).
Эрос есть философ. Эрос и философ выражают ось Логоса, натянутую между концами, которые созидаются самим этим натяжением. Поэтому философ имеет крылья. Это крылья философской души. Души людей — курицы.
Вертикаль «Государства»: полюс идей
В «Государстве» Платон дает детальное описание всей карты мира, калиброванного с помощью Логоса. В знаменитой параболе пещеры он показывает, как соотносятся между собой два типа сознания: обычное и философское. Обычное сознание приковано к теням, отражающимся на стене пещеры. Люди, созерцающие тени, боятся повернуть голову к источнику света, т. е. к выходу из пещеры. Философ, ударенный Логосом, отделяет себя от людей и идет к истоку. Достигая выхода из пещеры, он созерцает ослепительный свет. Когда его глаза привыкают к свету, он начинает различать парящие идеи.
Так выстраивается окончательная топика платонизма, фиксирующая два полюса, между которыми натянута струна Логоса. На верхнем конце располагаются идеи, светлые сущности, которые и есть настоящее бытие. Они вечны, изначальны, бессмертны. Они благи и прекрасны. Познание их, созерцание их (ιδέα, идея есть то, что мы видим) есть постижение истины и истин бытия.
На низшем полюсе расположен плотный театр. Слова θέατρον и θεορία образованы оба от глагола θεάομαι — смотреть, созерцать, видеть. И простое сознание, и философское заняты созерцанием, но смотрят в противоположные стороны. Плотин говорил, что для философского познания «необходимо закрыть глаза». Философа и обычных людей отличает качество театра, т. е. созерцания. Для обычных людей театр воспринимается не как театр, но как сущее, хотя на самом деле, это не настоящее сущее, а его тень, грубый суррогат сущего. Грубость суррогата состоит в том, что обычное созерцание стремится поглотить солнечные лучи человеческого взгляда, вобрав его в постоянно сгущающуюся массу низших регионов плотного мира. Плотский театр есть ловушка для души, которая организована таким образом, что обещает смысл только в области внешнего, заменяя одну фигуру другой, на что душа растрачивает себя в ожидании, пока не гибнет от тщеты эффективно организованного аттракциона.
Театр философа другой. Он начинается с того, что внешний мир распознается как подделка, как «всего лишь театр». Это момент «удивления», «подозрения», «распознавания» искусственной природы и структуры того, что для обычного сознания воспринимается как естественное и органичное. Философ внезапно[70] (εξαίφνες) замечает нестыковки в пьесе; его взгляд падает на не имеющие отношения к месту предметы или детали, которые забыли убрать рабочие сцены. Философ распознает, что мир не то, за что он себя выдает. И философ ищет выхода из зрительного зала, несмотря на возмущение потревоженной дремлющей публики. Он бежит из театра прочь. Это есть опыт смерти. Закрывая глаза в отношении пьесы, которую все смотрят, философ (подобно персонажу неоконченной пьесы С. Малларме «Igitur») сам спускается в склеп и задвигает над собой могильную плиту. Это прощание с людьми и их миром. Это побег.
Когда философ выбрался и достиг входа в пещеру, его глазам открывается иное зрелище, «иной театр». Но теперь это теория, прямое созерцание чистого истока мира и его содержания.
Так мы имеем на сей раз детальное описание структуры бытия, на нижнем полюсе которого располагается «плотский театр» вечно спящего человечества, а на верхнем — световидные горизонты парящих идей, созерцаемых в теории. Между этими полюсами структурируется поле Логоса, великая механика смыслов.
По этой модели верх/низ строится Государство. Вверху — философы, которые правят. Они проводят время в созерцании идей. Ниже — подвижные «стражники», способные освоить нечто из теории, но не сумевшие освободиться от иллюзий «плотского театра». Еще ниже артизаны, ремесленники, погруженные в производство и воспроизводства мира из плоти. И наконец, рабы, носители обыденного сознания, лишенные каких-либо дифференцированных свойств. Иерархия Государства — иерархия сознаний. Власть и социо-политическая организация акциденции основной вертикальной струны различающего Логоса. Государство тотально: оно есть эффективная метафора как Вселенной, так и отдельной личности. Человек есть то, чья цель состоит в том, чтобы стать философом. Мир — это то, что тянется к небесному свету.
Вот такую законченную картину можно назвать «двухэтажной топикой». Два мира: мир идей и мир теней. Отсюда платоновская теория истины, основанная на соотнесении между собой идеи и тени: это референция, сопоставление одного сущего с другим (истинно сущего, идеи), с мнимо сущим (вещью).
Вертикальный космос «Тимея»
В «Тимее» мы имеем дело с еще одной картой Логоса. Здесь перед нами развертывается картина возникновения космоса. И снова привычное разделение на два начала (здесь два рода): мир образцов (парадигм) и мир явлений (феноменов).
Мир образцов вечен, неподвижен, бессмертен, не имеет ни начала, ни конца, самотождественен, целен. Это то, что находится по ту сторону Логоса.
На другом конце — мир явлений, генезис, становление. Этот второй мир подвижен, постоянно изменяется: рождение и смерть образуют в нем непрерывные циклические смены, он развертывается во времени.
Пока оставим в стороне вопрос о «третьем начале», χώρα, пространстве. Платон полагает его под миром феноменов, как его подоплеку. Но в целом это ничего не меняет (пока, по меньшей мере); о связи χώρα и χάος мы поговорим отдельно.
Здесь философская топика Логоса помещается в ткань мира и организует опыт мира, физику мира в соответствии со своей фундаментальной структурой. Природа мыслится и воспринимается отныне философски, т. е. разделенно и иерархично. Верх (парадигмы) и низ (феномены) удерживаются в их положении мощью духа.
Мир окончательно раздвоен, разнесен. Можно сказать, удвоен: за каждой вещью, если она феномен, т. е., явлена, стоит нечто скрытое. И это скрытое постулируется философией заведомо как истинное, подлинное и настоящее. Космос как красота и есть результат глубинной работы Логоса: Логос строит мир феноменов, иерархизируя все его составляющие — стихии, вещи, отношения, движения, состояния и т. д. Плотное отсылается вниз, тонкое поднимается вверх. Между ними выстраиваются множественные комбинации. Все это движется, возникает и исчезает, но … движется, возникает и исчезает только потому, что это предписывает Логос с его нормативно-идеальными установками. Ведь без вечной и неизменной идеи невозможно было бы узнать, что такое движение. Без вечности непонятно время. Без мысли о смерти нельзя прийти к выявлению жизни. Порядки всех пар и всех взаимопереходов как вертикальных, так и горизонтальных, все это работа рук Логоса. Демиургия есть совершенно философское занятие. Философ и демиург есть одно и то же лицо. Демиург, созерцая парадигмы (образцы), организует по ним феномены мира. Так же в точности поступает философ, созерцая в теории идеи, он из пятен окружающего смутного мира выхватывает строго обозначенные (обрезанные) образы (фрагменты) и складывает их в эйдетические ряды.
При этом философ проделывает и еще одну операцию. Будучи в отличие от Демиурга не на верхней границе феноменального мира (в точке «демиургического сечения»), но внутри этого мира, философ еще выступает как «недвижимый двигатель», который поддерживает структуру космического порядка, распознает телесные энигмы плотского театра и возводит их по-средством герменевтики сквозь «демиургическое сечение» к чистоте теоретического созерцания. Другими словами, философ есть «младший брат демиурга», имманентный демиург.
Война предела и беспредельного в «Филебе»
Разделенные пары Платон исследует в самых различных контекстах. Номенклатура этих контекстов и задает параметры всей философии.
Так, в диалоге «Филеб» Платон останавливается на соотношении между собой двух начал: «предела» и «беспредельного», πέρας и άπειρον.
Это снова два полюса, соединяемые/разделяемые Логосом. «Предел» есть то, что делает «это» «этим». То есть предел представляет собой фундамент идентичности всего, что бы мы ни взяли. В греческой традиции предел мыслился целиком положительно — как то, что придает миру стройность, красоту, упорядоченность. Иными словами, «предел» родственен Логосу. Это вполне прозрачно, предел — это то, что разделяет и сополагает. Разделенное наделяется обязательно иерархическим смыслом — это/то, низ/верх, время/вечность и т. д. Предел является общим и для определения этого и того, т. к. граница, которая делает одно одним, а другое другим, касается и того, и другого, не относясь ни к тому, ни к другому. Поэтому принцип предела есть основа идентификации.
Смутное представление о пределе есть и в обыденном сознании, и даже в зачаточном сознании животных и растений. Прокл в известном пассаже о подсолнухе (и загадочном растении селенотроп) приписывает ум растениям: ведь подсолнух следует за солнцем — значит различает, где солнце, а где нет, и поэтому ему известен предел (селенотроп так же предан луне и ее движениям, как подсолнух, гелиотроп, солнцу).
Беспредельное полагается пределом как его антитеза. Так Логос осмысливает не только себя в своей базовой разделяющей, кладущей предел функции, но и в том, чем он не является. Предел режет беспредельное, чтобы определить его, но тот стремится вырваться из-под его хватки, увернуться, остаться собой. В этой войне развертывается примордиальная драма происхождения всех вещей. В системе неоплатоника Дамаския пара предел / беспредельное относится к самой первой инстанции мира, далеко предшествующей появлению бытия. Предел и беспредельное есть уже тогда, когда ничего нет. В этом смысле «война есть отец вещей».
Диалектическая вертикаль «Парменида»
Диалог «Парменид» можно рассматривать как кульминацию платонизма. Здесь негативная природа Логоса, его контрфеноменальная ориентация выражена самым отчетливым образом. В этом диалоге Платон в форме обычного сократического диалога излагает учение о едином и его отношении к бытию, которое станет главным мотивом всего неоплатонизма и предопределит основные моменты метафизики в целом.
Главное в этом диалоге состоит в философском понимании единого, ἓν. Обыденное сознание, если его заставить мыслить о едином и если у него это получится (что далеко не гарантировано), обязательно отождествит единое с бытием. Все, о чем можно говорить (истинно или ложно), обобщается предикатом «есть». Причем в «Софисте» Платон показывает, что и небытие тоже включается в «есть», например, коль скоро мы говорим о ложном высказывании, сообщающем нам о том, чего нет, но само-то высказывание есть…
Итак, самое общее («есть») приводит нас к единому. Единое есть бытие, т. к. все остальное явно представляет собой части целого. Одни части относятся к одному целому, другие — к другому. Только «бытие» объединяет их все, представляя как части единого, т. е. бытия.
Вот по этому недофилософскому строю мышления и наносит удар «Парменид» (почти в ироничной противоположности историческому Пармениду, утверждавшему как раз тождество бытия и единства — ὂν и ἓν). Сократ показывает, что строгое размышление о бытии в структуре различающего Логоса обязательно помещает его внутри предела (πέρας), а значит, отграничивает от небытия. Поэтому бытие уже двойственно, поскольку является одним из двух, имеет границы (самотождество) и является частью более общей инстанции, т. е. настоящего единого (ἓν), которое не может совпадать с бытием.
Отсюда делается радикальный вывод: бытие не едино, а единое не есть, т. е. не совпадает с бытием. Бытие и единое различны.
Это уже высшее разделение, на которое способен только Логос. И продолжая свою классическую работу, Логос и здесь выстраивает иерархию — единое выше бытия. Так возникает новая и самая дальняя пара радикального Логоса: теперь он натянут, как струна, между первым моментом, единым, и вторым моментом, бытием. Таким образом, открывается еще одно головокружительное пространство для метафизической ностальгии — напряженная тоска бытия по единому и уничтожающая над-бытийная мощь единого, реорганизующая бытие в соответствии со своей бездонной структурой. Здесь Логос упирается в открытую им самим бездну вверху.
Но т. к. бытие свернуто содержит в себе множественность, то это единое становится трансцендентным измерением по отношению ко всему, доводя трансцендентность до предельного накала, до последней ступени. Отношение к несуществующему единому соразличных (высших) форм существующего неоплатоники позднее назовут «генадами», т. е. такими моментами бытия, которые соотносят себя с этой высшей трансцендентностью и трансформируются в силу этого соотношения подобно тому, как вещи трансформировались через их приведение к идеям, возведение к образцу.
Как философствуют молнией: открытый Логос
Кратко освежив в памяти известные всем сюжеты платоновских диалогов, зададимся вопросом: откуда берется Логос? Как реализуется этот исключительный опыт, жестко противостоящий, всем типам обычного опыта, разнородный по отношению к ним, уникальный и… на самом деле божественный, потому что только он делает богов богами, заставляя душу философа бежать вместе с ними от этого к тому?
Это чрезвычайно тонкая и деликатная тема. Представляется, что мы имеем дело с событием, т. е. с тем, что происходит не многократно и периодически, но раз и навсегда, скачком, как внезапное вторжение в сознание чего-то, что ему радикально чуждо. Логос, лежащий в основе философии, резко отличается от мышления как такового. Мышление никогда и ни при каких обстоятельствах к Логосу само по себе не приходит. Оно мыслит мир в мире, постоянно возвращая травматическую остроту разделенности к убаюкивающему единству опыта.
Философия не рождается просто из достижения особой точки интенсивного мышления. Иначе она родилась бы в разных культурах и контекстах. Философия уникальна, как удар, полученный извне.
Логос вторгается в мышление, обрывая в нем то, что только натянуто; делая необратимым то, что является реверсивным; ставя одно жестко над другим там, где любые отношения, так или иначе, уравновешивались ранее.
Но чтобы в человеческое мышление что-то вторглось извне, но при том не из области подчеловеческого мира, где сознание еще менее интенсивно, необходимо, чтобы «вовне» мышления имелось особое место. Однако, как только мы говорим о месте (откуда мог бы прийти Логос), мы уже оказываемся в «двухэтажной топике» платонизма, которая, как мы видели, является следствием Логоса, но никак не его причиной. Поэтому Ницше, и особенно Хайдеггер, так внимательно занимались досократиками: они хотели понять, как Логос рождался до Платона, стремясь вынести за скобки впитавшуюся в нашу философскую культуру картографию платонизма.
Ревелятивно отождествление Гераклитом Логоса с молнией. Очень точно: молния бьет в мышление, раскалывает его и вокруг этого огненного зигзага, идущего ниоткуда, с черных грозовых туч, строится в будущем философия. Молния становится осью, вдоль которой структурируется космос, возводится платоновское государство, развертывается процесс познания. Философская молния. Трудно сказать, была ли ассоциация «молния-молот», классическая для древнегерманской мифологии, аллюзией в названии «Так философствуют молотом» у Ницше. Всякое действенное философствование есть философствование молнией.
Есть мир (все), который вне удара молнии пребывает в самоубаюкивающей дреме, где все концы с концами сходятся, а если не сходятся, то и на это находится какое-то утешение. Пока молнии нет, все смиренно наблюдают «плотный театр» и удовольствуются им. Никто не осознает это как это, в том смысле, что не то. Это — все, а все — это. Удивляться нечему, т. к. все лежит по эту сторону, и места для дива, чуда не остается. В этом мире все включено.
Но вот вспышка и удар. И мир расколот. Это произошло столь стремительно, что никто не заметил. Никто, кроме тех, в кого эта молния попала, кого ослепила, изувечила. У них навсегда остался отпечаток: огненная линия, показывающая радикальное отличие этого от (впервые замеченного) того.
Но прежде Платона, освоившего область того, населившего ее идеями, парадигмами, душами, началами и т. д., некоторое время Логос оставался открытым: на одном конце было то, во что он ударил (а ударил он в сознание), сохранившийся на сетчатке внутреннего глаза оттиск молнии, ее печать, а вот на другом конце был еще не мир номер два, не κόσμος νοητικός, но открытое пространство, брешь, расщелина, нечто неозначаемое… То есть до Платона (хотя, может быть, и до Парменида) мы имели дело с открытой философией, где солнечный театр идей (теория) еще не стал дублирующей аналогией телесного театра теней. Такой открытый Логос, молния, пока не имеющая с той стороны того, кто ее метнул, для нас чрезвычайно важен. И снова, но уже иначе, мы можем вспомнить слова Гераклита «Логос любит и не любит называться Зевсом». «Не любит» теперь, потому что Он не Зевс, потому, что Зевс придет потом, а еще до Зевса там, т. е. не-здесь, есть нечто предваряющее, нечто открытое, нечто вакантное, еще не получившее ни имени, ни лица, ни наличия.
Начальность и конечность Логоса у Платона
Теперь давайте снова посмотрим на те вертикальные карты Платона, которые мы бегло наметили. Снова обратимся к Хайдеггеру: для него Платон — это Конец Начала, но это все еще Начало. Под «Началом» следует понимать родившийся, но еще открытый Логос, уже свершившийся опыт удара молнии, но до полноценного возведения «второго этажа», т. е. до структурирования онтологии и метафизики. Платон, как мы видели, основательно запротоколировал то, что находится там; отныне вертикальный мир был тщательно описан в своих основных чертах — вплоть до горизонта идей и образцов. Поэтому он «Конец». Но он еще не совсем Конец, а «Конец Начала». Следовательно, Начало в нем еще должно действовать. Мы поймем это, если еще раз подчеркнем, в чем же состоит начальность Логоса — в его открытости. Теперь нам остается только идентифицировать те моменты, где у Платона мы встречаемся именно с этой открытостью, а значит, с «начальностью».
Это наиболее наглядно проявлено в следующих моментах.
1. Сама структура платоновского учения, форма построения диалогов, специфика пайдейи в ранней «Академии» наводят на мысль, что систематизация платоновского учения, приведение ее в интегральный вид есть позднейшее влияние средних платоников (кульминацией чего был собственно неоплатонизм). Одновременно сам Платон лишь развертывал карты своей топики как визионерские версии, как световые этюды, призванные не столько затвердить догмы, сколько пробудить способность к творческому и самостоятельному путешествию по вертикальным мирам Логоса. Сами диалоги построены как открытый дискурс, в котором Логос играет как в зеркале. Все диалоги выстроены вдоль вертикали, но эта вертикаль мыслится как нечто живое, динамическое, неизменно меняющееся, и поэтому подлежит не тавтологической констатации, а диалектической игре. Эта вертикаль убегающая отсюда туда, но она никогда не находится строго в одном и том же месте, как молния никогда не ударяет в одну и ту же точку дважды. То, что второй полюс Логоса в разных диалогах и даже в рамках одного и того же диалога разными его участниками подчас описан по-разному, указывает на то, что для самого Платона важен лишь сам Логос как ось, а не то, куда он ведет и откуда он исходит.
2. Среди доктринальных конструкций открытостью отличается апофатическая диалектика единого в «Пармениде». Разведение единого и бытия в разные стороны снова открывает трансцендентный этаж, делает его прозрачным. Так как единого нет, но оно первично по отношению к бытию, вся пирамида порядка погружается своей вершиной в верхнюю бездну, растворяющую всякую попытку сгустить персонажей мира образца по аналогии с фигурами «плотного театра». Единое «Парменида» придает любой трансцендентности открытый характер, т. к. утверждает, что любое созерцаемое на том конце Логоса никогда не есть последнее, и что за ним обязательно есть еще свободное место. Это место принципиально, т. к. вводит в игру небытие.
3. Наконец, неопределенность Платона в отношении множественности идей и наличия одной, высшей идеи (идеи Блага в диалоге «Государство»). Это стало проблемой для средних платоников при соотнесении платонизма с теологией и особенно с монотеизмом. Если принять наличие высшей идеи, мы на самом деле замыкаем молнию сверху и венчаем ее конкретной фигурой. Но в других местах ни о какой строгой иерархии среди идей Платон не говорит, и может сложиться впечатление, что идей много и они равны между собой. Множественность идей — тонкое приглашение к тому, чтобы воспринимать Логос открыто. Ницше заметил: «сущность божественности в том, что существуют Боги, а не Бог». Множественность, равно как и колебания относительности наличия или отсутствия одной высшей идеи, это тоже следы начальности у Платона, признаки того, что в центре внимания именно сам Логос как таковой, во всей свежести его огненного опыта.
А теперь зайдем с обратной стороны, и посмотрим, в чем конечность Платона? Здесь общим ответом является как раз закрытие Логоса сверху, помещение на ту сторону молнии дубля нашего мира, удвоение бытия и, соответственно, создание предпосылок для референциальной теории истины и той онтологии и метафизики, которая расцвела, оформилась и рухнула в постплатоновские времена.
Эта конечность, открывающая путь в Средневековье и даже Новое время, состоит в симметричном дуализме, в иерархизации идей и выдвижении Блага как высшей монистической инстанции, в придании парадигмам и самим идеям статуса высшего сущего, что могло быть позднее интерпретировано как эссенциализм, а еще позднее — как рационализм. Платон наметил тот путь, двигаясь по которому Логос, по определению имеющий нижнюю границу (в лице сознания), может быть заперт и сверху.
Таким образом, мы можем в дальнейшем проследить две основные линии, по которым пойдет развитие бесконечно насыщенных платоновских интуиций — открытый платонизм (к которому тяготели неоплатоники, мистики и апофатики) и закрытый платонизм (ставший платформой для теологов, догматиков и рационалистов). В открытом платонизме продолжал кипеть начальный огненный Логос, в закрытом — зрели те философские узлы, которые привели западную цивилизацию к нигилизму и духовной гибели.
Глава 8
Недуальный платонизм: ноэтические структуры в системах неоплатоников
Дуальный и недуальный платонизм
Топика Платона несет в себе имплицитно самые разные возможности развития и толкования. Она может быть взята в самых разных наклонениях, Логос может быть истолкован в ней и как нечто закрытое, и как нечто открытое. Платонизм настолько универсален, что бесполезно спорить о том, что им является, а что нет. Задачей Платона было описать структуры Логоса, а, следовательно, он наметил основные траектории, не высказав в отношении каждой из них ничего определенного, открывая дорогу бесчисленным интерпретациям, которые и составили содержание истории философии Запада. Лишь атомизм и эпикурейство не попадали в этот контекст (не случайно сам Платон, по легенде, предлагал сжигать тексты Демокрита в своей «Академии»). Это объясняется тем, что атомизм радикально противоречил вертикальности, составлявшей ось платонизма. Вместе с тем статичная метафизика Парменида и диалектика Гераклита увязывались у Платона без больших проблем. Более того, поздние неоплатоники и атомизм сумели включить их во всеобъемлющий интеллектуальный синтез, одновременно интегрировав в него и Аристотеля, прочтенного платонически.
Среди разнообразных версий платонизма мы предлагаем выделить две основные и наиболее общие, являющиеся базовыми для бесчисленного числа вариантов и детализаций. Мы предлагаем назвать это «дуальным платонизмом» и «недуальным платонизмом». Схематически различие здесь сводится к следующему.
Недуальный платонизм, ставший доминирующим направлением в неоплатонизме, начиная с Плотина и Оригена (в христианском контексте), исходит из того, что различия (разрывы) и иерархии, постулируемые ударом Логоса, представляют собой степени вертикальной непрерывности, восходящей к непрерывности надбытийного единого. Но эта непрерывность есть нечто совершенно другое, нежели непрерывность феноменального потока сущего. Это непрерывность самого Логоса, который объединяет различные уровни бытия осью своего травматического наличия. Для всего феноменального, и даже шире, для всей области бытия, Логос есть разрыв, а, следовательно, установление иерархических дуальных оппозиций. Но внутри самого Логоса, напротив, царит самотождество, обеспеченное трансцендентным единством. В таком недуальном платонизме мы имеем дело с развитием и позднее концептуализацией открытого Логоса, диалектически размыкающего любые онтологические фиксации на всех феноменальных и ноэтических уровнях.
Дуальный платонизм, который мы рассмотрим позднее, напротив, основывается на радикализации намеченных Платоном оппозиций: идеи/вещи, образец/копия, вечность/время, бессмертное/смертное, постоянное/возникающие и т. д. Здесь размыкающая работа Логоса и конструирование им иерархических оппозиций доводится до конца, что приводит к появлению радикальных пар таких оппозиций, которые вообще не снимаются. То есть здесь Логос как то, что разрывает, сам мыслится как разрыв. В определенном смысле элементы дуального платонизма мы видим в самой логике Аристотеля, чьи главные законы как раз воплощают в себе процедуру радикального деления А и не-А, что рано или поздно не может не привести при формулировке онтологии к паре бытие/не-бытие, где не-бытие мыслится как радикальное ничто, возвращаясь на новом витке и уже с полной философской ответственностью к тезису Парменида «небытия нет», изящно опровергнутому Сократом в «Софисте».
Недуальный и дуальный платонизм имеют множество форм и, более того, чаще всего комбинируются друг с другом, так что чистые версии не так легко обнаружить. Но сами эти полюса толкования Платона помогают упорядочить структуру философии как таковой.
Для предварительного обзора возьмем лишь две наиболее яркие модели: недуальный платонизм неоплатоников и дуальный платонизм христианских гностиков (в первую очередь, Василида). Здесь мы сосредоточимся на обзоре неоплатонизма.
Особенности неоплатонизма
Неоплатоническая традиция, восходящая к александрийцу Аммонию Саккасу, довольно подробно изучена в наше время. Основные труды представителей этого направления изданы, снабжены полноценным научным аппаратом и детально прокомментированы. На этот счет существует внушительная литература, позволяющая составить себе довольно законченное и детальное представление о рассматриваемом явлении. Сегодня любой может познакомиться с материалом, поэтому нет нужды вдаваться в детали.
Для нас здесь важно выделить лишь несколько моментов.
1. Неоплатонизм представляет собой стремление к построению на основе трудов Платона универсальной философской системы, которая включала бы в себя все формы философствования — от самых возвышенных и теологических до самых прикладных и банальных. Неоплатоники хотели ни больше ни меньше как сделать Логос тотальным, возвести все знания и все возможные эмпирические явления к ноэтическим образцам, описать все существующие эйдетические цепочки, т. е. полностью задокументировать структуры и маршруты ноэтического космоса, создать полную карту духовной географии. Платон служил им в этом путеводной звездой, но применяли они платонизм к тем аспектам, которых сам Платон не касался. Для неоплатоников Платон был внутри них. Отсюда стремление к его обожествлению и установлению теургического контакта с его бессмертным духом с помощью прямых эвокаций. Логос для неоплатоников понимался как нечто совершенно конкретное, отсюда истории про то, как Порфирий однажды нашел Логос в виде прекрасного младенца, а Ямвлих обнаружил юного мальчика Эрота в священном источнике.
2. Неоплатоники понимали Логос как нечто открытое, не имеющее верхнего предела, уходящее в ту область, которая превышает как ум, так и бытие. Отсюда радикальный трансцендентализм неоплатонических систем, всегда добавляющий еще один этаж к любой, самой развернутой, иерархии. Начиная с Плотина единое, ἔν осмысливалось апофатически, а, следовательно, свойственная Логосу негативность проводилась на всех уровнях. Нигде ничего не могло быть тождественно самому себе. Высшее снимало низшее, и самое высшее снималось небытием единого.
3. Неоплатоники (и этот момент иногда упускается из виду) выстраивали свои системы в прямой философской полемике с гностиками, которые, напротив, отстаивали радикально противоположный подход — неснимаемой травматической оппозиции, трагизм и отчаяние, вытекающие из инакового понимания сущности Логоса. Неоплатоники, таким образом, прекрасно осознавали сущность вызова гностицизма, брошенного в терминологии той же платоновской топики (хотя, быть может, изначально гностицизм исходил и из негреческих, скорее всего иранских философских систем). Не случайно Плотин говорит, что гностики извратили учение Платона. «Извратили» надо понимать в том смысле, что дали дуали-стическое толкование. Поэтому развертывание неоплатонизма с самого начала во многом строится на стремлении дать ответ дуализму, преодолеть дуализм, построить такую картину, в которой дуализм был бы попросту невозможен.
Между Платоном и его Академией и неоплатониками располагается период так называемого «среднего платонизма». Здесь мы имеем ключевую фигуру Филона Александрийского, впервые попытавшегося соотнести платонизм с монотеистической теологией. Эта линия будет в дальнейшем развиваться как в христианстве, так и в иудейской Каббале и исламском эзотеризме (исламский платонизм, суфизм, шиизм). Неоплатоники отозвались на этот вызов развертыванием системы философского политеизма, названного Проклом «платоновской теологией». При этом «философская теология» неоплатоников мыслилась как универсальная система, дающая ключ к интерпретации любых религиозных систем.
С другой стороны, уже средние платоники стали пытаться привести учение Платона в систематизированный вид, придать ему непротиворечивую форму. И хотя сами они этого не завершили, неоплатоники получили в наследство эту эстафету, с которой во многом справились. Для этого им пришлось привлечь не только труды самого Платона, но и обширный арсенал греческой философской мысли — пифагорейство, аристотелизм, Стою и т. д.
Умный космос неоплатонизма
Неоплатоническая модель начинается с εν, Единого, стоящего радикально выше сущего (ὂν), а поэтому апофатического. Дамаский прибегает даже к такой формуле — «Сверх-Единое», и предпочитает говорить о Невыразимом (ἄρρητος), настолько он стремится очистить ἒν от каких бы то ни было атрибутов. В том числе и от него самого.
Вслед за «Парменидом» Платона, неоплатоники дружно утверждают, что ἒν не есть, оно сверх-есть. Это его принципиальное свойство. Потому что оно радикально выше и первичнее, чем бытие. Оно абсолютно трансцендентно (επέκεινα) и апофатично; ἓν не смешано и не причастно ничему. Ниже его все смешано и причастно, хотя и относительно, и на каждом уровне проявления в разных пропорциях.
Неоплатонизм оперирует с тремя базовыми моментами, объясняющими устройство метафизики и онтологии: μονή («неизменное сохранение тем же самым»[71]), πρόοδος («выход за свои пределы», на латыни «emanatio»), επιστροφή (возврат в изначальное состояние[72]). На таком циркулярном порядке устроено бытие. При этом ἓν, не участвуя и не пребывая ни в чем и нигде, озаряет собой все бытие. Интенсивный контакт с трансцендентным и неприкосновенным εν конституирует божественные «генады», т. е. лучи сопричастности с тем, к чему ничто не может быть сопричастно. «Генады» различаются между собой по степени насыщенности апофатическими лучами и образуют множественные иерархические уровни бытия, нисходящие постепенно от εν в сторону космоса — и так вплоть до его пределов. Пределом всего процесса развертывания ἕν служит материя (чаще всего неоплатоники понимают ее в духе Аристотеля как ὓλή, а не как платоновскую χώρα).
Единое исходит (πρόοδος) из себя и конституирует Единое-Многое. Оно же Сущее. Здесь начинается область Ума (Νοῦς), ноэтический космос или сфера высших божественных генад. Зона божественного Ума — бескрайняя и обширная и, начиная с неоплатоника Ямвлиха через Сириана до Прокла и Дамаския, ей придается центральное значение в рассуждениях философов этой школы.
Выделим самое общее: в Уме есть три основных уровня — высший умопостигаемый (νοητός), средний — умопостигаемый/умопостигающий (νοητός / νοερός) и нижний умопостигающий (νοερός) или демиургический. Иерархия здесь подчеркивает платоновскую версию происхождения космоса: демиург созерцает идеи и творит по их подобию мировую душу и космос. Поэтому то, что постигается умом (интелигибельное), стоит выше того, что его постигает, т. е. умопостигающего, интеллективного. В структуре Ума (Νοῦς) высший уровень умопостигаемого остается всегда тождественным самому себе, на среднем уровне он выходит за свои пределы, а дойдя до умопостигающего, возвращается назад к истоку.
Ум — это второе начало. Оно же есть сущее, единое-многое, единое-двойственное, единое-тройственное. Из всего сущего это самое единое и самое высшее. Но оно высшее и единое относительно (всего остального, что ниже его, т. е. всего того, что есть), а относительно единого (сверх-единого), оно не первое и не высшее.
На нижнем уровне Ума располагается демиургическая зона, которая повторяет весь процесс: сохранение, выход за пределы, возврат. Демиург испускает богов (новые боги), которые делятся на три главные категории — сверхкосмические, азональные (или свободные) и внутрикосмические. На всех уровнях повторяется сохранение в себе высших начал, выход за пределы средних и возвращение низших, замыкая цикл, снова к высшим. Такой умной жизнью живет божественный космос.
Далее, демиург творит мировую душу, ψυχή, в которой единое и многое уже расходятся; единое — на стороне души, многое — на стороне феноменального космоса.
Три начала — Единое, Ум, Душа — составляют главную триаду. И в ней снова три момента: постоянство, исхождение, возвращение.
На уровне души и в каком-то смысле под ней, на ее периферии, располагается мир эйдетических серий, нисходящих к материи. Тела — это эйдетически оформленная материя, со всех сторон окружаемая и опекаемая интенсивной божественной жизнью. Боги, ангелы, демоны, герои, души пронизывают мир стрелами посвящения низших в высшее (телетархия) и передают умную жизнь от высших к низшим. Чувственный космос есть не просто копия, икона умного космоса, но и его живое выражение. Поток становления, череда смертей и рождений и снова смертей, есть замкнутое на себе отражение иного, вертикального времени, которое развертывается перпендикулярно времени космическому и состоит из постоянства вечности, выхода за пределы и возврата.
Человек закрывает глаза
Человек в такой картине мира также есть звено в общей цепи постоян-ства, исхождения за пределы и возврата. Будучи телесным, он стоит на довольно низкой ступени, но при этом имеет живую душу и ум, а, следовательно, снабжен всем необходимым для возврата, επιστροφή, который составляет судьбу и задачу людей. Мы ушли, чтобы вернуться. Погрузились в материю и обрели тело, чтобы с ними расстаться, оттолкнувшись от крайней границы космоса, и начать восхождение, полет. Полет — сущность человека как существа крылатого. Отсутствие крыльев есть унижение и аномалия. Небесная Родина неумолимо тянет к себе. Философ слышит ее зов ясно и отчетливо, отвечает на него размышлением и молитвой. Он отращивает крылья души и собирается домой.
Познание в таком мире достигается через «закрывание глаз» (Плотин). Единое невидимо, т. к. апофатично. Генады невидимы. Все самое важное невидимо, но стремиться надо именно туда, двигаясь внутрь и вверх. Вовне есть только путаница. Знающий себя, знает все, т. к. он знает душу и ум, а они получают посвящение от вышестоящих еще более лучших родов. Вовне же только заблуждение, мутные отсветы и уводящая от сути суета.
Все круги космоса принципиально одинаковы, различается только плотность материи и, соответственно, интенсивность жизни и ясность мышления. В лучшем мире все кристально понятно всем. В менее лучшем (платоники вообще не произносят слово «плохой», «дурной», «злой») — не всем. В еще менее лучшем все понятно малому числу. Отсюда политическая задача платонизма — правильное мышление есть возврат, вокруг оси возврата должна выстраиваться социально-политическая конструкция лучшего общества. Править должны философы-созерцатели, закрыв глаза. А остальные должны смотреть на них и вдохновляться. Все внутри. Все во имя возврата.
Онтология «Парменида»
Систематизация платонизма у неоплатоников и акцентирование сверх-онтологического единого у Плотина постепенно привели их к построению общей ноэтической онтологии на основании специфического анализа диалога «Парменид». Видимо, первым упорядочил гипотезы «Парменида» учитель Прокла Сириан, а сам Прокл и Дамаский придали этому форму законченной, развитой диалектической онтологической доктрины. Построенную на «Пармениде» онтологию можно считать кульминацией неоплатонизма и наиболее полным оформлением идей Платона в нечто законченное и завершенное.
Нас интересует первые пять гипотез, которые описывают все возможные уровни мира — как умозрительного, так и феноменального. Остальные четыре гипотезы у неоплатоников остаются чисто логическими конструктами, тем не менее, Дамаский пытается и их включить в общую онтологию, хотя они не представляют собой ничего нового в той онтологии, которая вытекает из первых пяти гипотез.
Пять гипотез, выдвигаемых «Чужестранцем» (ξένος) в диалоге Платона «Парменид», сводятся к пяти фундаментальным утверждениям некоторого принципа, которому соответствует (в толковании неоплатоников) какое-то измерение космоса. Напомним эти гипотезы:
1) ἓν (единое);
2) ἓν πολλά (единое многое);
3) ἓν και πολλά (единое и многое);
4) πολλά και ἓν (многое и единое);
5) πολλά (многое).
Первая гипотеза: предонтологическое единое
Первая гипотеза описывает единое, которое не может иметь никаких предикатов, т. к. наличие предиката уже вносит некоторую дуальность и, соответственно, множественность. Это касается самого общего предиката — бытия: ибо если мы утверждаем, что «единое есть», мы уже подразумеваем наличие двух — единого и бытия. Отсюда делается радикальный вывод: о едином нельзя сказать, что оно есть (равно как и то, что его нет). Но самое главное: единое первичнее, чем бытие, и даже чистое бытие как универсальный предикат. Если единое, то другого нет, и сказать о том, что единое просто, некому и незачем. Единое сверхбытийно и непознаваемо. Но при этом является основой всего. Это уровень метаонтологии. Апелляция к единому как к главному и движение к единому (ἓνωσις) — для неоплатоников есть основа их открытой метафизики, открытого Логоса. Наличие этой инстанции в качестве главенствующей придает всей неоплатонической конструкции уникальный характер, т. к. привносит во все дальнейшее оттенок относительности — перед лицом сверхбытийного предонтологического единого все уровни мира утрачивают свое самотождество, которое становится относительным, диалектическим и динамичным. Если все исходит из единого, о котором невозможно сказать как о чем-то существующем, то все вещи оказываются укорененными в предбытии, в некоторой изначальной бездне, что, собственно, и позволяет мирам пребывать в движении — горизонтальном и вертикальном. Раз единое не тождественно ничему из того, что есть, но является главным принципом, то и все остальное есть не что иное, как символ другого, по отношению к самому себе.
Такое понимание единого превращает любое знание в апорию, в парадокс или сверхлогическую процедуру. Обобщающей процедурой становится в таком случае επιβολή, интеллектуальная интуиция, в которой одновременно сосуществуют три главных онтологических, ноэтических и космологических момента: μονή, πρόοδος и επιστροφή. Рассмотрение любого уровня бытия и любой вещи требует одновременно признания их постоянства (относительной самотождественности), перехода в нечто иное и низшее по отношению к ним, чему они служат причиной (каузальной несамотождественности: вещь никогда не есть вещь, но и причина иной вещи) и возврата в предшествующее и высшее по отношению к ним, следствием чего они являются (инициатической, «телестической», «телеархической» зависимости от исходной инстанции и призыва вернуться к ней). Так все начинает двигаться во всех направлениях, вплоть до радикального «хеносиса», возврата к предбытийному единому, который однако не снимает множественности, т. к. ни один из моментов не является эксклюзивным и предпочтительным: единое параллельно множественному, и «хеносис» не отменяет ни бытия, ни его развертывания во множественность (то есть πρόοδος). Отсюда рождается понятие о «генадах», т. е. о сопричастности некоторых онтологических инстанций предонтологическому единству. Все вообще является в той или иной степени генадой, т. к. нет и не может быть ничего, чему не предшествовало бы единое. Но вместе с тем, есть уровни космоса, расположенные ближе к единому, и есть те, которые дальше от него. Эта иерархия рассматривается в последующих гипотезах.
Вторая гипотеза: учение о Нусе
Учение об Уме является осью всего неоплатонизма. Это учение вытекает из анализа второй гипотезы «Парменида» ἓν πολλά (единое-многое). Этой гипотезе Прокл и Дамаский уделяют основное внимание в своих работах, т. к. именно здесь обнаруживаются все существенные признаки платонизма как философии.
Вторая гипотеза утверждает: если единое есть, то оно есть многое. Эта апория теоретически уже должна быть нам понятна, коль скоро мы продумали весь объем смыслов, заложенных в первой гипотезе. На этом уровне нео-платоники размещают бытие — то бытие, в обладании которым было отказано ранее единому. Теперь бытие признано, но в единстве ему отказано. Однако бытие не может быть сразу многим, т. к. в отношении всех конкретных вещей, которые есть, именно предикат бытия выступает самым общим и, соответственно, первичным. Среди всего того, что есть, именно бытие есть единое. Но в отличие от единого, которое не определяется признаком бытия, само бытие не может быть высшим единым. Оно может быть единым только по причастности, по касательной. Это «второе единое», являющееся единым по отношению к тому, что следует за ним, и не являющееся таковым по отношению к тому, что ему предшествует.
Бытие как единое-многое уже в полной мере описывается тремя моментами интеллектуальной интуиции: оно есть то, что оно есть (μονή); оно содержит в себе многое и, исходя из самого себя, становится причиной многого, в дальнейшем обретающего действительность, но коренящегося именно в бытии (πρόοδος); оно есть лишь символ, знак предонтологического единства; оно замещает его и стремится к возврату к нему, к инициации в него (επιστροφή). Таким образом, вторую гипотезу можно понять только как апорию, т. к. бытие равно себе и одновременно неравно себе в двух смыслах, что оно выше себя (символ единого) и ниже себя (корень/причина многого).
Единое-многое есть второе в общей иерархии. Но первое для всего сущего. Здесь 2 = 1, второе есть первое. Как первое (для всего остального) оно является бытием. Как второе — Умом, т. е. промежуточным моментом между по-настоящему первым (единым) и всем остальным. Неоплатоники (как и герметики) называли эту инстанцию Высший Ум, νοῦς, Нус, а термин λόγος сохраняли для описания разума более низкого порядка. Поэтому следует различать это техническое неоплатоническое употребление термина «логос» (с маленькой буквы) от Логоса в обобщающем смысле (с большой буквы) — как основы всей вертикальной, трансцендентно ориентированной топики. Отождествление Ума и бытия дает нам онто-гносеологическое тождество самого Парменида, для которого, как явствует из поэмы, νοιεἶν было эквивалентно εἶναι. Но у неоплатоников, вслед за платоновским «Парменидом», а не собственно Парменидом-философом, это тождество бытие = Ум есть не первичное, а вторичное, и, следовательно, единство бытия/Ума есть диалектическое, открытое, динамичное и подвижное.
Ум-Нус, как мы уже говорили выше, рассматривается, в свою очередь, как нечто тройственное, состоящие из трех принципиальных уровней: бытие = интеллигибели (это μονή), жизнь (πρόοδος) и Ум как созерцание = интеллективы (επιστροφή). Умом называется все вместе и одновременно: бытие = ум как идеи, то, что созерцается; бытие = умная жизнь и бытие = ум как созерцание, то, что созерцает.
На уровне второй гипотезы — единое-многое — полностью развертывается вся структура метафизики: самотождество умного бытия выходит за свои пределы (жизнь) и возвращается назад через инстанцию созерцания. Причем эти моменты мыслятся не последовательно (вначале одно, потом другое, а затем третье), но одновременно, симультанно. Ум есть и остающееся собой бытие, и бытие, выходящее за свои пределы, и возвращающееся к самому себе после своего выхода. Ни один из этих моментов не является лишним: это гарантировано вторичностью бытия перед лицом несуществующего единого. Если бы бытие-Ум было первым в полном смысле этого слова, то метафизика была бы закрытой: самотождество бытия=Ума было бы абсолютным, выход за свои пределы — относительным (и временным), а возврат — одноразовым и ставящим предел времени. Собственно говоря, так и будет обстоять дело в моделях платонизма, организованного по принципу закрытого Логоса. Но система открытого Логоса, утверждающего бытие как вторую гипотезу, как единое-многое, делая бытие относительным, а не абсолютным (перед предбытием единого), делает одновременно динамику внутри бытия — все три момента его ноэтического развертывания и свертывания — если угодно, «абсолютными», а точнее, столь же абсолютными/относительными, сколь и само бытие=Ум.
Вторая гипотеза описывает, таким образом, весь космос, т. к. в его динамической структуре уже заложены все возможные моменты онтологиче-ских движений — здесь есть и «абсолютность» самотождества, и драматизм выхода за пределы, и триумфальное восхождение к истоку.
Для Прокла и Дамаския описание структуры второй гипотезы и всех заложенных в ней моментов с учетом платоновских диалектических категорий (а не абсолютных — покоящееся/движущееся, большое/малое, старое/новое, неделимое/делимое, подобное/неподобное, предельное/беспредельное, не прикасающееся/прикасающееся), перечисленных в том же диалоге, составляют основу интеллектуальной теологии. Каждая инстанция имеет выражение в божестве. Божества иерархизированы по уровням бытия: высшие (мужские, небесные, генадические) — сверху; низшие (женские, хтонические, приземленные) — снизу. Но на уровне бытия=Ума все божества имеют ноэтический характер, т. е. представляют собой различные аспекты интеллекции.
Третья гипотеза: мировая душа
Третья гипотеза «Парменида» представляет собой фундаментальный переход от мира принципов, начал к миру феноменов. Между ними располагается космогонический момент: т. е. демиургическое сечение. Низший, третий уровень бытия=Ума может быть представлен в двух аспектах: с одной стороны, он есть возврат изобилия беспредельной интеллектуальной жизни (символизируемой у неоплатоников образом Ночи или Июнги, особой колдовской птицы) к ее истоку (первому уровню второй гипотезы), а с другой — дальнейшая трансляция бытия на низшие инстанции. То есть порядок интеллективов (νοερά) основан на созерцании идей (νοητά) и представляет собой возврат лучей первоначала (бытия-Ума) к нему самому, но он же есть та инстанция, которая транслирует полученные свыше лучи дальше, вовне. Таким образом, конец ноэтического мира, его низшая точка, становится началом иного, принципиально нового и радикально низшего мира — мира явлений, κόσμος αισθητικός. Это и есть демиургическое сечение. Демиург, таким образом, есть пограничная инстанция, где завершается «ноэтический» цикл диалектики Ума и начинается «эстетический» цикл диалектики явленного космоса.
Низ второй гипотезы, активный интеллект, становится вершиной третьей гипотезы, ее непосредственной причиной.
Третья гипотеза конструируется введением во вторую гипотезу союза «и», και. Это принципиально. В рамках второй гипотезы разделение было, но его не было; оно было лишь намечено, но тут же снято. Поэтому вся зона бытия=Ума была единой, будучи множественной, т. к. множественность еще не получила автономного наличия, пребывала как возможность и как таковая снималась в замыкающей инстанции интеллективов. Внедрение «и» придало множественности характер самобытия, а значит, оторвало единое от многого, поместило между ними четко выделенную границу. Это «и» есть демиург, т. е. результат обращения интеллективов не внутрь и вверх, а вниз и вовне. «И» есть момент создания видимого, феноменального, явленного космоса.
Демиург, выступая во второй гипотезе как момент επιστροφή, теперь становится самотождественной инстанцией и причиной дальнейшего πρόοδος. Предел этого демиургического исхождения (πρόοδος) есть как раз третья гипотеза (единое и многое). И она же служит моментом возврата (επιστροφή) для всего поля демиургемы, т. е. «творения». «Единое и многое» — это созданная демиургом (а через него Умом в целом: ведь демиург действует исходя из общей структуры второй гипотезы) душа мира, ψυχή.
Мировая душа есть первое и главное творение демиурга. В ней единое и многое конституируются как три относительно самостоятельные инстанции: «единым» выступает вся область второй гипотезы (то есть единое многое, а также и ее трансцендентное первоначало — первая гипотеза, вложенная во вторую гипотезу); «и» есть сама душа как первопродукт демиургии и, следовательно, печать демиурга и сумма демиургемы; «многое» — это вся совокупность эмпирических чувственных феноменов, «κόσμος αισθητικός». Здесь мы имеем дело с иным «многим», уже не снятым и только намеченным, как во второй гипотезе, но наличествующим и (относительно) самостоятельным, что подчеркивается наличием «и».
Мировая душа есть, таким образом:
1) единое и многое вместе, т. к. в ней осуществляется переход от зоны единого ко многому; в нее изливается демиургом Умное, созерцаемое им самим, и из нее проистекает телесное, а сама она сопрягает и то и другое;
2) жизненная причина материального космоса как момент исхождения (πρόοδος) Ума из самого себя;
3) момент возврата (επιστροφή) космоса к своей умной причине.
Душа является началом космоса и его суммой, его концом. Через нее космос обретает порядок, движение, действительность, разумность и спасение. Она посвящается демиургом в таинства второй гипотезы (и даже первой) и, в свою очередь, посвящает в них космос, давая смысл, символическое значение и жизненную мощь всему сущему. Все в («эстетическом») космосе сводится к душе как космическому единому, концентрируется в ней как точке истока и возврата. Душа космоса не просто живая, она есть космическая жизнь, а сам (эстетический) космос (многое, πολλά) является ее телом.
Поэтому для Платона и неоплатоников мир — это живое и разумное существо, имеющее душу и тело, а также демиургическую причину и Ум, уходящий еще выше, чем демиург.
Неоплатоники рассуждают, явно имея в виду полемику с гностиками, почему зона второй гипотезы, область бытия=Ума, κόσμος νοητικός, где принципиально содержатся все возможные моменты соотношения многого и единого (а соответственно, все комбинации категорий платоновской диалектики), была недостаточна, и зачем по-требовалась демиургия феноменального мира. Для объяснения привлекается понятие Блага (ἀγαθόν) как верховного принципа всей модели. Единое благо, поэтому оно не держит свое единство только в себе и для себя и исключает бытие только для себя, но развертывает его для других, т. е. выражает себя через отрицающую его самого вторую гипотезу (единое-многое), т. е. через бытие. Платоники подчеркивают, что высшее начало является «благим» в том смысле, что оно не является «завистливым» и готово выйти за свои пределы, отдать себя не-себе. Этим объясняется и появление Ума, где все возможности выхода за пределы исчерпываются интеллектуально, и дальнейшее появление космоса, где исчерпываются возможности феноменального проявления. За всем этим саморазвертыванием вплоть до низших возможных пределов стоит именно «благая» интенция единого как первоначала. Отсюда и принципиально «благое» качество демиурга и демиургии в целом (снова в отличие от гностиков-дуалистов): демиург благ именно потому, что он творит, т. е. выплескивает то, что сам созерцает над собой, дальше в мир — в мировую душу, а через нее еще дальше — в материю.
На уровне третьей гипотезы вполне применимы и теологические образы: пространство третьей гипотезы так же населено богами, как и область бытия=Ума. Но это иные боги: сверхкосмические, свободные и внутрикосмические. Первые принадлежат к высшим областям мировой души и соединяют ее с зоной Нуса. Они задают одновременно парадигмы живому космосу. Свободные (или азональные) боги занимают промежуточное положение (могут действовать и как парадигмы, и как живые соучастники внутрикосмических процессов). Внутрикосмические боги привязаны к определенным точкам космоса (κλήροι) и их опекают. Ниже внутрикосмических богов располагаются хоры демонов, героев и душ. Все эти иерархии воплощают в себе аспекты мировой души, выступают проводниками в нее, посвятителями (телетархами).
Четвертая гипотеза: эйдетические тела
Четвертая гипотеза звучит как «многое и единое». Это взгляд на «эстетический космос» со стороны феноменов, т. е. с обратной от души стороны. Многое, которое созерцает обычное зрение, состоит из тел. Каждое тело имеет форму (μορφή или είδος) и материю (ὓλή). Это аристотелевский подход, но он был включен в неоплатоническую систему. (Многие идеи Аристотеля проникли в Средневековье через арабов, которые, в свою очередь, познакомились с ними не напрямую, а в изложении неоплатоников; это привело к тому, что средневековый аристотелизм был лишь отчасти аристотелевским, а в значительной степени весьма своеобразным и неоплатоническим). Телес-ность тела — это то, что делает его относящимся ко многому. А вид тела, его форма отсылают к его архетипу, а конкретно, к его бытию внутри души мира. Все наглядные вещи мира, таким образом, суть выражения мировой души. Сами по себе они множество, но через свой вид, через свой эйдос, через заложенные в них универсалии (свойства, подобия и т. д.) они восходят к космическому единству души.
Тела поэтому представляют собой символы души, а душа есть символ Ума, тогда как Ум есть символ единого. Ничто не закрыто, все равно себе и одновременно неравно себе в обоих смыслах — в том смысле, что указывает на высшее (скрытое, внутреннее), и в том смысле, что является причиной (силой, движущим импульсом) для другого (низшего).
Пятая гипотеза: материя
Осталось рассмотреть «многое». Это зона пятой гипотезы. Ее неоплатоники вслед за Аристотелем называли «материя», ὓλή. Здесь многое существует только как многое, не обладающее никаким единством.
Материя является границей мира, ниже которой ничего нет. Сама она не обладает бытием, т. к. в ней нет ничего от Ума и бытия, кроме того, она не является первоначалом, т. к. она не является единым. Она представляет собой начало разделения, приобретающее действительность только через обнаружение в составе тел — как то, что делает их отличными друг от друга. Это принцип чистой недостаточности, привации, внутрибытийного не-бытия.
Материя не является ни добром, ни злом, т. к. не имеет свойств и не обладает бытием. Она необходима как предел исхода первоначала вовне (πρόοδος) и, следовательно, тоже определенным образом соучаствует во Благе, коль скоро служит его целям.
При этом сама по себе она никакого содержательного начала не несет и представляет собой только умозрительно обобщенную совокупность помех: тело тем более материально, чем слабее угадывается в нем образ, эйдос, чем более без-образным, без-видным оно является.
Претворение камня в статую есть переход от многого ко многому и единому, т. к. камень получает внятную форму (героя, бога, духа), а, следовательно, наделяется душой (история с Пигмалионом). На этом основана неоплатоническая теургия. Теург, оживляющий статую, просто продолжает то, что начал делать скульптор — он продолжает траекторию восхождения от многого к единому, но только не от пятой гипотезы к четвертой, а от четвертой к третьей и далее, призывая по закону эйдетических аналогий снизойти в мир феноменов, специальным образом к этому подготовленный, обитателей высших (божественных — душевных и ноэтических) областей мира.
Гипотезы онтологически невозможного
Все пять первых гипотез «Парменида» исходят из единого. Поэтому они и помещаются в онтологическую схему. Вторая, третья, четвертая и даже пятая гипотезы становятся действительными только потому, что заведомо была утверждена первая. Мир неоплатонизма является «хенотическим», т. к. все его зоны, регионы, иерархические уровни и эйдетические цепочки объедены и обеспечены первичным предонтологическим έν.
Остальные четыре гипотезы, с пятой по девятую, осуждаемые в том же диалоге, исходят из не-единого. Это чисто умозрительные логические построения, которые не обладают онтологическим основанием. Дамаский, правда, пытается и их ввести в состав онтологии как пропозицию взгляда изнутри материи.
Шестая гипотеза утверждает, что единого нет, но многое есть, а, следовательно, многое может при определенных обстоятельствах сочетаться во единое. Это единое будет составным, коллективным, искусственным, т. е. не будет обладать первичностью подлинного единого (с отрицания которого и начинается вторая серия гипотез). Одни неоплатоники говорят, что такое допущение есть просто игра Ума. Другие (Дамаский) — что так может мыслиться единство со стороны тела. Иными словами, такое единое есть атомарность, сингулярность.
Седьмая гипотеза гласит: (единого нет) и многое предоставлено самому себе. Пока еще не известно, есть или нет это многое в тех или иных аспектах, но важно, что здесь мы имеем дело с исчезновением любого, даже условного, единства. Это уже не атомарные тела, а предтелесные атомы, не имеющие качеств. Или просто «пустое понятие».
Восьмая гипотеза: (единого нет), но многое есть для многого. То есть отдельные сингулярности существуют через взаимодействие. Мы имеем дело с инфернальным миром, где слепые низменные силы, недооформленные тела сталкиваются друг с другом, не составляя вообще никакого единства, но обнаруживая свое темное и смутное наличие через опыт соприкосновения со своими границами. Это гипотеза либеральной демократии или онтологического ада.
Наконец, девятая гипотеза: (единого нет), но и многого нет для многого. Последняя гипотеза концептуализирует чистое ничто. Заметьте, не то «ничто», которое мы имели в пятой гипотезе из первой серии, потому что там «многое», хотя и будучи чисто многим, конституировалось в нечто ноэтиче-ски (как минимум) позитивное наличием единого; теперь же многое не обосновано вообще ничем, ни самим собой, ни другим, а, следовательно, не есть вообще ни в каком смысле.
Эти последние четыре гипотезы, которые большинство неоплатоников вообще не рассматривали всерьез, тем не менее соответствуют атомистской философии Демокрита, Эпикура или Лукреция, в Средневековье представлены в форме номинализма Росцелина и Оккама, а в Новое время стали основой научной картины мира. С точки зрения неоплатонизма, это вполне можно назвать «лжефизикой» или миром, сконструированным из чистого ничто. По Дамаскию, этот мир тем не менее возможен, но представляет собой материальный Тартар.
Нооцентрический космос
Сейчас мы можем свести структуры пяти гипотез к общей схеме, чтобы представить их наглядно.
Здесь мы видим одну важную закономерность: в центре всей системы неоплатоников стоит демиургический Ум, в его двояком понимании — это Ум, созерцающий идеи (теория), и Ум, созидающий вещи, космический. Вся Вселенная таким образом становится нооцентрической: высшие начала стягиваются к Уму сверху, а низшие, в свою очередь, стягиваются к нему снизу. Смысл космоса в Уме. Но Ум есть, в свою очередь, последний предел в исхождении единого, ради которого единое и открывало себя: ведь нигде, кроме Ума оно не может отразиться, т. е. самоосознаться. В этом смысле телес-ный космос ничего не добавляет к Уму, но лишь продлевает его структуры до естественных пределов, где Ум постепенно гаснет (в материи уже не отражается ничего).
Ум оказывается, таким образом, самым главным моментом всей конструкции: поднимаясь к нему из телесного космоса через мировую душу, существа восходят к самой главной инстанции, соучаствуя в изначальной великой драме мира (раскрытия единого), и это является целью «хеносиса», оживляющего телеологию всех творений; с другой стороны, Ум есть последнее дно, которого может достигнуть чистое бытие, т. к. в Уме в свернутом виде уже наличествует весь феноменальный космос — более того, в этом феноменальном космосе нет ничего, ни единой детали, которая могла бы добавить что-то к тому, что уже содержится в Уме. Отсюда вытекает значение философии для неоплатоников: философия как практика реализации Ума есть абсолютная практика, обладающая космическим и сверхкосмическим значением. По сравнению с ней любое занятие и любое состояние являются полным ничтожеством.
Важно, что человек, даже пребывающий в телесном мире, где правят законы времени и становления, обладая Умом, потенциально превосходит весь космос и даже мировую душу. Уступая им в статусе первичности, он способен благодаря Уму выйти за их пределы и стать «отцом своей собственной матери» (души), по выражению шиитских мистиков. Нооцентризм дополняет структуры космических иерархий важнейшим свойством: он делает космос открытым и с опорой на разум позволяет человеку не просто сравняться с богами, но и превзойти их.
Симметрии неоплатонической онтологии
Схематизация нооцентрической Вселенной показывает еще одно соответствие. Если представить себе два космоса — ноэтический космос (вторая гипотеза и отчасти первая) и эстетический космос (гипотезы с третьей по пятую) как две половины окружности, мы сможем заметить крайне важную симметрию: ноэтический космос отражается в эстетическом по принципу обратной аналогии, т. е. чем выше начало ноэтическое (или предонтологическое), тем ниже его пара в феноменальном мире.
Предбытийное единое имеет своим аналогом материю (пятая гипотеза). Бытие в Уме переходит в мир тел (отсюда связь ноэтического чистого бытия и телесной наглядности эмпирически сущего). Умная жизнь (ранг трех ночей или трех Июнг в реконструкциях «Халдейских оракулов») обращается в мировую душу. И наконец, созерцающий идеи «отеческий интеллект», νοερός, Сатурн («первый потусторонний» — ἅπαξ επέκεινα), опрокидывается в демиурга Зевса («второй потусторонний» — δίς επέκεινα).
Так в мире феноменов последние становятся первыми, а первые последними. Это составляет неоплатонический секрет демиургии и открывает бескрайние перспективы для ноэтических операций. Стрелки на схеме показывают, что возврат к единому, «хеносис», начинается с точки Ума.
Однако картина будет еще более законченной, если мы сложим эту схему пополам вертикально. Тогда она будет подобна восходящему (или заходящему) над морем солнцу. Верхняя половина — это само солнце, а нижняя — его отражение в воде. Эстетический мир есть, таким образом, отражение мира ноэтического в переменчивых водах материи. И лишь тот, кто идет по солнечному лучу, обращенному к нему самому (интеллект), к источнику света, способен перейти от волнений и перемен к насыщенной и живой динамике светового мира.
Глава 9 Вызов Василида (дуальный платонизм, пневматика и сотериология гностика Василида)
Значение среднего платонизма и фигура Филона Александрийского
Платоническая топика может быть интерпретирована как в недуальном ключе (неоплатоники), так и в строго дуальном. Структура дуального платонизма логически основывается на радикализации противопоставления мира идей и мира явлений, парадигм и копий. Такая оппозиция у самого Платона не просто намечена, но составляет характерную черту его философии, ее специфику. Сам Платон, никогда не строивший системы, не уточнил, какое толкование является верным, оставив эту возможность открытой. Это и стало предметом спора двух направлений, резко обозначившихся в момент перехода от среднего платонизма к неоплатонизму.
Средний платонизм и его проблематика представляли собой в этом вопросе ключевой водораздел. В рамках среднего платонизма, складывавшегося преимущественно в Александрии, огромное значение имела фигура Филона Александрийского. Его философия отличается тем, что наряду с собственно платонизмом, расширенным через обращение к неопифагорейству, включая учение о Логосе, в ней самым серьезным образом ставится теологиче-ская проблематика в ее монотеистическом оформлении. Филон отмечает собой точку встречи платоновской философии с монотеистической религией, а следовательно, закладывает основы собственно теологии, во многом предвосхищая или даже учреждая эту область в целом. Теология есть религия + платонизм (понятый в самом широком смысле — как вертикальная топика Логоса). Причем это касается всех монотеистических религий — как иудаизма, так и будущего христианства и ислама. Филон проходит этот путь первым, закладывая траектории для дальнейшего развития всей этой важнейшей области.
Филон, соотнося платонизм с догматами ветхозаветной религии, ставит вопрос о философском описании фигуры Бога, о ее соотношении с Логосом и актом Творения. Тем самым подготавливается как почва для христианской теологии, так и собственно философия Филона, складывающаяся на пересечении иудейства и эллинства, т. е. ветхозаветных догм и платонического логоцентризма.
Филон решает эти проблемы в рамках иудаизма. Христианство привносит радикально новые принципы, связанные с верой в совершившийся приход Мессии, с соответствующим изменением самих онтологических условий мира, с вызревающей уже у апостолов идеей Боговоплощения и троичности Божества. Но прежде чем христианская догматика окончательно оформилась в период Вселенских соборов, первые христиане двигались по самым различным маршрутам, предлагая широкий спектр путей для развития собственно христианского богословия. Все эти пути, однако, были самым тесным образом связаны с иудейской догматикой, с одной стороны, и с эллинством как платонизмом — с другой. Поэтому платонизм Филона, как бы его ни толковали в дальнейшем, намечал собой широкое поле для дальнейших теологических конструкций. И если в контексте иудаизма значение его философских теорий на первых порах имело довольно ограниченное значение и стало актуальным лишь позднее, при становлении иудейской мистики и особенно Каббалы, то для христианства, где иудаизм напрямую сталкивался с греческой интеллектуальной традицией, это напротив, было основополагающим.
Дуалистические структуры у гностиков
Одним из путей развития христианского богословия на раннем этапе становления Церкви было течение гностиков. Гностицизм имел различные версии и разрабатывал подчас весьма экстравагантные доктрины. Но общим для гностиков было противопоставление Нового Завета Ветхому и вытекающая из него оппозиция Бога Ветхого Завета Богу Нового Завета. Гностики, как и все остальные христиане, принимали иудейскую предысторию прихода Мессии (без этого христианство невозможно), но толковали ее не в терминах «продолжения» и «завершения», а в терминах ниспровержения Ветхого в пользу Нового, отмены «эры закона» наступлением «эры благодати» и даже триумфа нового благого Бога над старым. В этом ключе старое (ветхое) приравнивалось ко злу. Новое же прославлялось как благо. Это вполне можно назвать теологической революций, где «первые стали последними», а «последние первыми».
Когда этот чисто религиозный иеро-исторический дуализм переходил в область эллинской интеллектуальной картины мира (то есть в зону, так или иначе связанную с платонизмом), напряженность внутрииудейской эсхатологической проблематики тускнела и рассеивалась, т. к. грекам эта тема в ее иудейском контексте была далека и безразлична. Поэтому присущий христианству в его гностическом толковании драматизм должен был формулироваться как-то радикально иначе. Вот здесь-то и вступает в дело дуальный платонизм с его напряженной оппозиций образца и копии, идеи и явления. Как Ветхий Завет противопоставлялся Новому, так и мир копий противопоставлялся миру образца, рассматривался как его враг, как зло, как узурпация. Внешние органы чувств и воспринимаемый ими материальный мир брались как злое начало, агрессивно блокирующее доступ к интеллектуальному, духовному созерцанию. Мир земной радикально противопоставлялся миру небесному, материя и тело мыслились как армия зла, восставшего на армию небесного света.
Теперь оставалось только связать между собой эти два драматических дуализма: иеро-исторический и космологический (в платоновско-ноэтиче-ском издании), что и произошло в гностицизме, закрепившем такой подход в своих разнообразных теоретических конструкциях.
Позднее, как мы знаем из истории, гностицизм был отвергнут христианской ортодоксией, но для того, чтобы это произошло, сама ортодоксия должна была бы утвердиться окончательно, а это происходило постепенно и по-этапно, и полемика с гностиками сыграла в этом процессе не последнюю роль, т. к. само отвержение гностицизма приводило ортодоксов к четким формулировкам альтернативных принципов, постепенно принятых как нормативное и обязательное толкование христианских догматов.
Гностики были экстремистами в двух смыслах: с точки зрения религии в ее историческом и экклесиологическом толковании и с точки зрения философии, в которой они столь же жестко противопоставляли копию и образец, становление и вечность, феномены и идеи. Если преодоление гностицизма стало во многом движущей силой для выработки принципов христианской ортодоксии, утвердившей недуальность соотношения иудаизма и христианства, Ветхого и Нового заветов, то полемика с философским и космологическим вызовом гностицизма стала важнейшим моментом при становлении неоплатонической традиции — от Плотина до самых последних неоплатоников (Прокл и Дамаский). Кроме того, дуализм гностиков с самого начала был объектом развернутой критики в контексте собственно христианского платонизма, что мы видим у Климента Александрийского и особенно у Оригена. Соответственно, вызов гностицизма был отражен в области священной истории, неоплатонической философии и становящегося христианского богословия. Так как на всех направлениях победу одержали противники гностиков, то мы знакомы преимущественно с работами и аргументами его критиков. А это значит, что большинство тезисов пристрастны, а панорама гностических представлений с необходимостью искажена в полемических целях. Даже само значение гностицизма существенно занижено. На самом деле, уже тот факт, что опровержение взглядов гностиков занимало столь существенное место во всех упомянутых направлениях и столь существенно повлияло на формулировки догматов, признанных позднее ортодоксальными, указывает на то, что этот вызов был чрезвычайно острым и содержательным, в чем-то конститутивным для построения всей системы догматической ортодоксии в философии и теологии христианского периода истории.
Для нас дуалистический платонизм гностиков имеет в первую очередь философское значение, и в детальное описание догматико-богословских вопросов, связанных с гностицизмом, мы углубляться не будем. В гностицизме нас интересует в первую очередь возможность дуалистического толкования платонического Логоса и построение на его основе особой философско-теоретической топики.
Василид: исторический контекст
В качестве показательного образца дуалистического платонизма возьмем теории гностика Василида, отрывки которых сохранились в трудах его критиков.
Историки полагают, что Василид был сирийского происхождения и в Сирии познакомился с «тайным учением», восходящим к апостолу Петру через некоего Главкия. Позднее он прибыл в Александрию, где учил с 117 по 130 годы и умер в 140 году. Соответственно, он родился во второй половине первого века и принадлежит к третьему поколению после апостолов. О гностиках упоминают уже самые ранние христианские тексты (Симон Маг в «Деяниях апостолов», николаиты в «Откровении св. Иоанна Богослова» и т. д.).Следовательно, Василид относится к более ранней интеллектуальной традиции. Но в отличие от предшествующих гностиков, у Василида, даже в сохранившихся выдержках из трудов его противников, мы впервые встречаем стройную философскую и теологическую систему. Позднее на основании осмысления дуализма его взглядов, а также глухих сведений о его путешествиях в Персию, сложилась легенда о том, что он был «персом».
Показательно, что Василид обосновывается именно в Александрии, где за столетие до него учил Филон. Очень важным является то обстоятельство, что Аммоний Саккас (175–242 н. э.), учитель Плотина и Оригена, родился лишь спустя 35 лет после кончины Василида. Нумений Апомейский (вторая половина второго века) также принадлежит к следующему поколению. По-этому типологически Василид относится к среднему платонизму, предшествующему собственно неоплатонизму. Кроме того, Василид — самый первый среди христианских платоников, которые, так же как и он, формировались в Александрии, но позднее самого Василида. Причем учение Василида для них было важнейшей вехой философской и богословской традиции, хотя и воспринятой критически.
Василид является платоником во многих смыслах: и явно, и имплицитно. Позднее Плотин (205–270 н. э.) покажет, что гностики основываются на Платоне и «извращают» («узурпируют») его учение, и скорее всего, Плотин имеет в виду Василида. Но не только ссылки на Платона и эллинскую философию важны в случае системы Василида: сама ее дуалистическая структура развертывается в контексте именно платонического космоса.
На вопрос об истоках дуального платонизма, т. е., как стало возможно дуальное толкование философии Платона, не так-то легко ответить. С одной стороны, совершенно очевидно, что мы имеем дело с системой, весьма напоминающей религиозный дуализм персидской религии — зороастризма. Иранские влияния в ту эпоху были распространены не только на Ближнем Востоке, т. е. на предполагаемой родине Василида, но и на всем пространстве Империи — примером чего является масштаб митраизма. Кроме того, современный исследователь гностицизма философ Ганс Йонас справедливо обратил внимание на то, что греческая культура и ее язык, а равно и философ-ские теории и понятия, были обобщающей надстройкой над всеми обществами Средиземноморья, т. к. и персидские (дуалистические), и халдейские (астрологические), и египетские (герметические) течения были вынуждены оперировать с греческим языком и инструментарием греческой философии, наиболее яркой и общей формой которой был именно платонизм (в широком смысле). Это своего рода «псевдоморфоз» (О. Шпенглер), когда негреческие идеи были вынуждены излагаться в системах и топиках эллинизма. В каком-то смысле это относится и к Филону, и к эллинизированному иудаизму в целом, а впоследствии и к раннехристианской теологии. Там, где речь шла о семитском (иудейском) мышлении, мы имеем дело с высказыванием семитских концептов через совершенно отличную греческую философскую топику. Кроме того, эллинизм проникал и внутрь семитических обществ, через обратный перевод, кальки и заимствования, меняя сам строй семитиче-ской мысли. Чрезвычайно оригинальным явлением в этом смысле является сирийская христианская богословская традиция.
Было ли персидское влияние решающим, т. е. выражал ли Василид на платоническом языке какую-то версию иранского дуализма (что запечатлено в легенде о «Василиде-персе», провозвестнике манихейства, которому суждено появиться вместе с «пророком» Мани в III веке), или такое дуали-стическое толкование родилось собственно из самого платонизма в контексте раннего христианства под влиянием столкновения иудаизма и эллин-ства, однозначно определить трудно. Несомненно лишь то, что Василид является платоником-дуалистом. Обычно его воззрения рассматриваются в контексте ересиологии, т. е. в сопоставлении с христианским богословием, которое позднее было признано ортодоксальным и единственно истинным. В этом случае сама постановка вопроса способствует тому, что вклад «еретиков» и «ересиархов» в становление самой ортодоксии приуменьшается или вообще отрицается (наиболее наглядный случай — Ориген), а с философской точки зрения, в свою очередь, системы и теории записываются в разряд «мистики» и «теософии», что равнозначно дисквалификации и маргинализации мыслителя в контексте философии. Стоит только отвлечься от этих ставших клише подходов, перед нами откроется другой Василид — богослов и философ, носитель совершенно особого понимания Логоса, организатор особого издания платонической топики. Выдающийся и яркий, во многом чрезвычайно оригинальный, платоник.
Соотношения двух Заветов у ранних христиан
Теологическое осмысление соотношения иудаизма и христианства в раннем христианстве толковалось по-разному. То, что между Ветхим и Новым заветом существует определенное напряжение, явствует из самого Евангелия и особенно внятно из посланий св. Апостола Павла, который дает самые основные моменты в толковании их соотношения. Но и эти установки Павловой теологии могли быть развиты и истолкованы в различных пропорциях.
С одной стороны, с самого начала христианства существовало эбионит-ское течение (от еврейского «ebjonim», т. е. «бедные»), которое можно назвать «иудеохристианским». Его смысл сводился к тому, чтобы истолковать христианство как исключительно иудейскую эсхатологию и сочетать основные моменты Евангелия с нормами иудейской традиции. В качестве символического ориентира эбиониты выбирали Иакова, брата Господня, которого считали первоверховным апостолом. Христианство рассматривалось как продолжение иудаизма, эбиониты требовали соблюдения всех иудейских законов (в том числе кашрут, обрезание и т. д.), отрицали божественность Христа, непорочное зачатие, считали Христа «пророком», а его распятие на кресте — «видимостью». Крайние эбиониты отвергали богословие ап. Павла вообще, хотя более умеренные иудеохристиане были в этом вопросе не столь радикальны.
В смягченной форме иудеохристианство свойственно Антиохийской школе, тяготевшей к буквальному и историцистскому толкованию Писаний и отвергавшей аллегорезу как приоритетный метод символического толкования, свойственный Александрийской школе и христианскому платонизму в целом.
В дальнейшем эти тенденции нашли свое воплощение в арианстве, а еще позднее — в несторианстве.
Все они характеризуются отказом от платонической вертикальной топики, символизма и символической герменевтики. Мир иудеохристиан не двойственен, но един и имеет единого непознаваемого Творца, соотносящегося с миром и людьми через священную историю и ее факты. Здесь семитическое сознание берет верх над эллинизмом и платонизмом и стремится если не отбросить его вовсе, то подчинить. Ветхий Завет в таком случае мыслится как полностью сохранивший все свое значение, а Новый Завет становится эсхатологическим, мессианско-пророческим приложением к нему. В рамках этой тенденции минимализируется или совсем отрицается божест-венность Христа. Бог Ветхого Завета является единственным, а Христос низводится до функции «пророка» или «героя», но лишь «человека».
Вторая модель толкования восходит к недуальной версии христианского платонизма, где божественность Сына диалектически обосновывается троичностью Бога (тремя ипостасями у каппадокийцев). Это стало позднее официальной доктриной Православия. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета — строго один и тот же, но Он троичен, един в трех лицах, и эта троичность обнаружила себя только в Новом Завете — через Воплощение Сына (Второе лицо Троицы) и нисхождение Святого Духа в Пятидесятнице. Здесь Новый Завет не отменяет Ветхий, но завершает его, переводя человечество в новую эпоху — эпоху благодати, в контексте которой у человечества складываются радикально новые отношения с Богом: Бог «усыновляет» людей, вводит их в «сыновство» — не по природе, а по благодати, и не напрямую, а косвенно, по касательной, через Воплощение Бога-Сына. Здесь семитское историческое, эмпирическое, телесное (ветхозаветное) понимание мира интегрируется в эллинскую символическую Вселенную. Влияние платонизма на это направление теологии, ставшее мерилом ортодоксии в ходе Вселен-ских соборов, было решающим, и занижение этого фактора было связано лишь с позднейшим отвержением различных платонических эксцессов Оригена и оригенизма, что заставило официальных историков Церкви процензурировать апостериори истоки становления православной догматики, уходящие корнями в Александрийскую школу, а от нее к оригенизму отцов-каппадокийцев.
В ортодоксии оппозиция двух Заветов, намеченная Павлом, сводится к признанию качественного превосходства Нового, равно как эра благодати выше эры закона («ничто же бо соверши закон», говорит ап. Павел в Евр. 7, 19). Бог-Троица, открывшийся через Сына, полнее и истиннее открывает Бога-Творца Ветхого Завета, чем сам этот Завет.
Третья модель свойственна гностикам, которые противопоставляют эти Заветы, как мы уже говорили, и вводят оппозицию двух Богов. К этой традиции и относится Василид (параллельно ему эту линию развивал другой гностик — Маркион). При этом у Василида прямо утверждается не просто иерархия Бога Ветхого и Нового Завета, но они противопоставляются друг другу: Бог Евангелия — благой Бог, Он послал Евангелие в мир, где правит другой Бог, на сей раз злой, для спасения от него и освобождения от его власти. Подобно предшествующей версии богословия мы имеем дело с платонизмом, но теперь дуальным и «недиалектическим», вводящим оппозицию заветов и двух «богов» в качестве драматической основы исторической, сотериологической, эсхатологической и космологической топики.
Не-Сущий Бог и Творение ex nihilo
Сегодня является общим местом, что базовый догмат монотеизма проистекает из теории «творения из ничто» (ex nihilo). Это совершенно логично, т. к. если Бог — единственный, кто есть, то Он не может иметь наряду с Собой ничего другого. С другой стороны, монотеизм отвергает теорию эманации, о творения из Бога, ex Deo. Следовательно, существование мира может быть рассмотрено только как акт творения из ничто. Считается, что это и есть основание всех монотеистических теологий — как иудейской, так, христианской (где эта идея развита максимально эксплицитно) и исламской.
Однако, согласно ряду исследователей раннехристианской догматики (Г. Мэй[73], Дж. Виттэйкер и т. д.), впервые это однозначно сформулировал не кто иной, как Василид, причем в основе такой формулировки лежала именно радикально дуалистическая метафизика. Историки согласны с тем, что теорию creatio ex nihilo в рамках православной ортодоксии первым упоминает Феофил Антиохийский (род. 180), но намного позже Василида, и не обосновывая ее в отличие от Василида развернутой теологической теорией.
Для Василида в рамках его дуалистического платонизма и радикального противопоставления мира явлений и мира образца необходимо очистить Бога (благого Бога Нового Завета) от каких бы то ни было общих признаков с имманентным. Поэтому он развертывает в своем учении богословие радикальной трансцендентности, очищая Бога от каких бы то ни было атрибутов, в том числе и от атрибутов бытия. Сам Бог у него выступает как «Не-Сущий», µη ὢν θεός, «Не-Сущий Бог». Бог не может быть сущим, по Василиду, т. к. все сущее несет на себе отпечаток тлена, возникновения и уничтожения, поэтому область становления есть область зла, где правит «господин зла», «злой демиург», «князь мира сего», невежественный и материальный, имманентный. Именно дуализм заставляет Василида отрицать атрибуты Бога, объявляя его Не-Сущим. По этому же пути, как мы видели, но, исходя из совершенно иных предпосылок, пошли неоплатоники, развивая положение платоновского «Парменида» о «небытии единого», т. е. открытую топику. Причем нельзя исключить, что Плотин в своей критике гностиков мог почерпнуть именно у Василида свое учение о трансцендентном едином.
Василид последовательно очищает Бога от каких бы то ни было атрибутов. По цитатам Ипполита[74] Не-Сущий Бог у Василида был невыразимым и не-невыразимым. Он не был даже и ничто. В этом фундаментальное отличие Василида от классического богословия (за исключением мистического богословия Ареопагитик, т. е. христианского неоплатонизма): его Бог не является сущим, он не есть сущий. Поэтому и само творение есть не творение Того, Кто есть, из того, чего нет, но Того, кого нет, из того, чего нет. Василид, согласно Ипполиту, утверждает совершенно однозначно: «ὁ οὐκ ὤν Θεός ἐποίησε κόσμον οὐκ ὄντα ἐξ οὐκ ὄντων». «Не-Сущий Бог творит не-сущий космос из не-сущего». То есть концепция creatio ex nihilo изначально (у Василида) имела совершенно иной смысл, нежели в классическом креационизме монотеистических теологий. В этих теологиях сущий (сам по себе) Бог творит сущий (но сущий не сам по себе, а через творческий акт Бога) космос из не-сущего. В Василидовской версии все начинается с акта, где фигурирует три порядка не-бытия (не-сущего) — Не-Сущий Бог, не-сущий космос и не-сущее само по себе. В развитых неоплатонических системах, особенно у Дамаския, аналогично будет рассматриваться момент конституирования бытия внутри изначального (не-сущего) единства (сверх-единства), где само «единое» предопределяет пару внутри предонтологической бездны — не-сущий предел (можно сказать, не-сущий космос) и не-сущую беспредельность (не-сущее просто).
По логике предшествования в классическую креационистскую доктрину строго монотеизма, таким образом, «творение из ничто» попало из совершенно иного и гораздо более нюансированного гностического дуалистиче-ского контекста.
Не-Сущий трансцендентный Бог творит не-сущий космос, который называется Василидом также «космическим семенем». Это «не-сущее семя» — Василид говорит о «панспермии», «всесемени» — есть трансценденталистски, апофатически понятая идея, образец. Василид подчеркивает как творит Не-Сущий Бог: это не эманация (προβολή), не креация мастерового (демиурга) из какого-то материала (материи, Тимеевской хоры или аристотелевской ὓλή); Не-Сущий Бог творит, испуская в не-сущее не-сущее Слово-Мысль. Тем самым Он конституирует протокосмический «панспермион». Но и это «семя» не-сущее.
Здесь мы касаемся важного момента платонизма: радикализация оппозиции идей и феноменов может привести к их противопоставлению относительно главного и самого обобщающего предиката — предиката бытия. Космос как архетип, космос идеальный, и космос как эмпирическая данность, космос телесный и чувственный, различаются не градуально, но абсолютно, а, следовательно, различие между ними не в степени, а в природе. Природа идей радикально отлична от природы явлений, и между этими двумя природами существует противостояние, жесткая оппозиция, альтернативность, война. Для мира явлений мир идей не-есть, есть не-сущее. Феномен есть не просто низшая ступень лестницы, непрерывно восходящей к идеальному (как в случае недуальных платонических систем), но нечто прямо противоположное идеальному, исключающее идеальное. Отсюда рождается теория мира как радикального зла, поскольку в таком мире эйдетические связи с идеальным необратимо и неотменимо оборваны. Мир есть ад, а его создатель — дьявол, злой демиург. Благой мир не-сущего семени, идеальный космос отрезан от этого феноменального мира радикальным различием в самом важном предикате: если один есть, то другого нет.
Таким образом, гностическая теория творения из ничто, основанная на дуальном платонизме, позволяет по-новому осмыслить ортодоксальную теологию монотеизма и, возможно, заглянуть в те зоны, где эта ортодоксальная теология только вызревала. Многие моменты дуалистического толка, безусловно принятые христианской ортодоксией (например, очевидный и наглядный дуализм «Апокалипсиса»), могут быть возведены к этому истоку. Или наоборот: в дуальном гностическом платонизме мы видим радикализированную, экстремистскую версию тех дихотомических мотивов, которые наличествуют даже в ортодоксальных сюжетах и догмах.
Структура мира и система сыновств
Рассмотрим кратко этапы творения из ничто Василида и его особенно-сти, принципиально важные для гностической сотериологии, антропологии и эсхатологии.
Не-Сущий Бог (Бог-ничто) голосом творит «пракосмическое семя». «Он сказал, и стало». Говорящий не существует, не существует и то, о чем сказано. И тем не менее в этом «не-сущем» семени содержится все, но в непроявленном, не-сущем состоянии. Это «семенной космос», «κόσμος πανσπερμίος». При этом «семенной космос» представляет собой изначально то, что Василид называет «тройным сыновством», ὓιοτης τριμερής. Доктрина «тройного сыновства» — ключевая для всей системы. Василид, согласно Ипполиту, описывает дальнейшее развитие протокосмических событий так: все три сыновства оказываются после обнаружения себя в неравном положении. Первое сыновство Василид называет «легким», λεπτομερώς. «лептомерэс». Второе — «плотным», παχυμέρης. Третье — «нуждающимся в очищении». Это различие в качествах сыновств предопределяет их судьбу после появления.
Первое сыновство взлетело к Не-Сущему Богу и, будучи «легким», растворилось в его не-существовании, слилось с ним (то есть вернулось к истоку).
Второе сыновство поднялось к Не-Сущему Богу на крыльях «святого Духа», ἁγιο πνεύµα. Так как это сыновство было не столь легким, то оно разделилось на ядро и скорлупу, внутреннее и внешнее. Внешнее было материалом, из которого были созданы крылья духа. Но крылья ἁγιο πνεύµα не смогли проникнуть в Не-Сущее Божество и остались на первогранице, которую и создали своей остановкой. А внутреннее измерение второго сыновства, использовав крылья скорлупы для взлета, скользнуло внутрь Бога и растворилось в нем так же, как первое сыновство прежде. Но если «легкое» сынов-ство ушло в исток целиком, то второе, «плотное» вернулось лишь частично, оставив за собой свою «плотную» часть. Это были крылья, которые будучи оставленными, превратились в твердь, στερέωμα.
Структура первограницы-стереомы, оставшейся после возвращения второго сыновства, представляет собой парадигму всего последующего процесса космогонии. Василид уподобляет твердь сосуду, из которого вылили содержимое, но в котором остался аромат того, что ранее в нем находилось. Это парадокс, лежащий в основе мира: в мире как гностический аромат есть неуловимый след того, чего ему не хватает. Граница-твердь охватывает бытие со всех сторон. Она отделяет мир от Не-Сущего Божества, не давая в него вернуться всему тому, что является «плотным», но вместе с тем и косвенно источает лучи ностальгии (аромат). Вверху стереомы крыльев пребывает «гиперкосмия», ниже — космос. Стереома непроницаемая. (У валентиан это будет «χώρος», предел, воспрепятствовавший возврату Пистис Софии к Отцу).
Теперь доходим до третьего сыновства. Оно оказывается внизу, под стереомой, тверью. Изначально оно «непочато», запечатано. Его оболочка еще плотнее оболочки второго сыновства.
Из этой толстой оболочки (скорлупы) выделился великий архонт. Он взмыл вверх, достиг стереомы и, не обнаружив никого наряду с собой, стал космократором, господином космоса. По Василиду, он был мудрее и чище всего остального, за исключением того, что содержалось внутри оболочки третьего сыновства. Таким образом, космократор выступает как правитель внешнего, уступающий, однако, по своему содержанию тому, что находилось внутри него самого и бытию, ему подчиненному. Василид называет его «Абраксас» (или «Абрасакс»). Сочетание цифрового значения букв греческого алфавита в этом имени дает число 365. Можно расшифровать это как внутрикосмическое божество времени, аналог персидского Зервана.
Космократор Абраксас подумал, что «он выше и изначальнее всех». Он не мог допустить, что выше стереомы есть что-то еще… Тем более, сам Василид подчеркивает, что «гиперкосмия» не есть, не принадлежит к сущему. В этом смысле космократор не так уж и отклоняется от истины: видя, что за границей ничего нет, а он есть, и среди того, что есть, нет ничего, что было бы выше его, он и основывает на этом свое имманентное самодержавие. Злым (невежественным, непосвященным) он становится только в силу того, что он неверно толкует не-сущее. Он толкует его как то, чего просто нет, а оно есть, хотя и не есть ничего из сущего. Это очень тонкая ошибка. Для того чтобы распознать ее, Василиду необходимо было совершить инсайт во внутренние структуры имманентного бога.
Введение архонта в игру прокладывает путь завершающим этапам творения. Теперь Абраксас начинает строить мир, но не из ничто, а из скорлупы второго сыновства внутри горизонта, очерченного твердью как остатками скорлупы второго сыновства, пропитанными ароматами исчезнувшего содержания. Вначале архонт творит себе сына, который, по Василиду, оказывается лучше, чем он сам… Так происходит потому, что, творя мир из скорлупы, Абраксас примешивает к ней и нечто от внутренней природы третьего сыновства. И если для первого и второго сыновства «отцом» выступал только «настоящий отец», Не-Сущий Бог, то в случае с «третьим сыновством» все становится более проблематичным: у третьего сыновства есть настоящий отец, все тот же «Не-Сущий Бог», но есть и ложный — архонт-космократор. И с точки зрения гностической иерархии сын оказывается выше, первичнее и мудрее отца. По Ипполиту: «Сын архонта есть энтелехия архонта», т. е. его суть. Обнаружив, что сын его превосходит, демиург удивляется и сажает сына справа от себя (одесную).
Далее Абраксас творит огдоаду, восьмерицу. Огдоада представляет собой восемь небес — семь планетарных и небо фиксированных звезд, т. е. трон великого архонта. Описание этих небес и их правителей в целом совпадает с обычными системами халдейской астрологии.
Описывая огдоаду, Васидид подчеркивает: на самом деле роль демиурга в творении ничтожна, т. к. все уже было заложено в «не-сущем семени». Это важнейшая идея Василида: творческая мощь, сила великого архонта Абраксаса есть ничто, т. к. все, что он сотворил, было изначально заложено в гиперкосмической панспермии. Поэтому гигантская сила демиурга смешна, глупа и в последнем счете бессильна. Между претензиями Абраксаса на безраздельное господства и его содержательным ничтожеством Василид фиксирует трагический и ироничный одновременно контраст.
После огдоады великий архонт порождает архонта Гебдомады. Тот располагается ниже Абраксаса, под ним, но все еще над ядром третьего сыновства. Это исторический, подвижный мир, управляемый циклами семи планет. Архонта гебдомады Василид отождествляет с Богом иудеев и Ветхого Завета. Этот архонт курирует иудеев и является ангелом иудеев. В частности, это он внушает им чувство превосходства и подвигает воевать с другими народами земли, которые управляются другими, подчиненными архонтами. У архонта гебдомады также есть сын, и на этот раз он снова лучше своего отца. Этот Сын — Христос.
Так как во всей этой зоне — от стереомы до низших миров, управляемых архонтами огдоады и гебдомады — царит невежество относительно подлинной структуры мира, вся структура власти, весь космический порядок представляет собой карикатуру, дисгармонию и аномию. Все иерархии в таком мире перевернуты и искажены. Все пропорции извращены и искривлены. Все ангелы, демоны и архонты находятся друг с другом в постоянной вражде
и склоках. Господство основано на слепой и эгоистичной материальной силе, вожделении, жадности, похоти и подавлении. Такой космос есть материальный ад, в котором царит жестокость, произвол и страдания. Ни у одной власт-ной инстанции нет надежного обоснования, все чины иерархии, от первоархонта до последней твари, основаны на узурпации и неправомочной тирании.
На дне этого ада, в его центре, скрыто внутреннее ядро третьего сыновства. Оно, в свою очередь, пребывает в беспамятстве и забытии, плотно укутанное оболочкой непроглядного мрака.
Вторжение Евангелиона и сотерия
По логике Не-Сущего Бога все сыновства должны были вернуться к своему истоку. С первым все прошло без затруднений. Со вторым, как мы видели в истории с крыльями и «первым пределом», стереомой, возникли определенные коллизии, создавшие предпосылки для чувственного космоса. А третье сыновство в своем внутреннем зерне стало основой фундаментальной внутрикосмической и иеро-исторической драмы. Это зерно оказалось под спудом извращенного космического господства разрозненных и враждующих друг с другом архонтов, ангелов и демонов. И ситуация становилась для него все более критической, т. к. мертвый порядок материи стремился к тому, чтобы превратиться в вечное возвращение одного и того же бессмысленного хаотического процесса. Историю из этого инфернального круговращения делала только судьба страждущего сыновства, улавливающего тревожный аромат богооставленности.
В критический момент от Не-Сущего Начала приходит Благая Весть, «Евангелион» как повторное (промыслительное и добровольное) исхождение первого сыновства. Но это вторжение Евангелиона, по Василиду, не есть ни эманация, ни обретение бытия. Это вторжение стерильное, не затрагивающее плоть космоса напрямую. Это бесплотный и невидимый, неощутимый луч, распознаваемый только совершенно особой инстанцией, так же не-сущей, как и гиперкосмия. Василид подчеркивает: Евангелион приходит как «увеличительное стекло», ινδικός νάφθας, которым можно зажечь огонь на расстоянии.
Здесь важно: передача спасительной вести связана с особой операцией, которая осуществляется на расстоянии, не касаясь космического материального мира. Так как мы находимся в контексте гностицизма, то эта особенность является вполне ожидаемой: речь идет собственно о гнозисе, т. е. спасении через знание, через такое действие, которое не имеет чувственного выражения и превосходит разумение и мощь самого архонта огдоады и все нижестоящие могущества. Гнозис есть огонь, зажигающийся на расстоянии, без прямого соприкосновения, уловленный особым образом той инстанцией, которая сама по себе «не от мира сего» и внутренне соприродна природе Евангелиона.
Первым, кто схватывает луч Евангелиона, является сын великого архонта. Он объясняет своему отцу его ошибку и заблуждение и описывает область гиперкосмии по ту сторону стереомы, которую Абраксас изначально принял за ничто, не осознав ее первичность и содержательность. Реакцией великого архонта был дикий ужас. Князь мира сего затрясся в ужасе от нового знания. «Страх Господень начало мудрости», — поясняет Василид библейской цитатой (Прит. 9:10). Ужас Абраксаса является энергией просвещения всей огдоады.
Далее сын Абраксаса передает знание (гнозис) сыну архонта гебдомады, т. е. Бога Ветхого Завета, называемому Василидом Христом. Христос просвещает своего отца и всю гебдомаду.
Так Евангелион доходит до зерна третьего сыновства, которое оказалось на самом дне материального творения. Христос был призван передать световое крещение и ему, чтобы окончательно освободить внутреннее содержание семени. Свет Христа (просвещенного во «втором мире») снизошел на Исуса, сына Марии и открыл истину тем, кто был «семенем». Крестившись, очистившись, все семя теперь должно было последовать за ним вверх, в сторону гиперкосмии, за пределы стереомы, сквозь миры гебдомады и огдоады.
Антропология гностицизма
Здесь мы подходим к гностической антропологии. Согласно Василиду, человек является общим названием для существ довольно различной природы. Человек принципиально дуален, равно как дуален окружающий его материальный космос. Эта дуальность состоит из все более расходящихся между собой зерна и скорлупы. Скорлупа приобретает самостоятельность в самом творении Абраксасом материального мира. К ней относятся все иерархии архонтов, ангелов и демонов, пребывающие друг с другом в непрерывной вражде. Подавляющее большинство людей представляют собой лишь низшее материальное звено в этой бессмысленной и безысходной иерархии. Их конституция исчерпывается животным телом и демонической душой. Они являются рядовыми враждующих между темных полчищ разнузданных космических сил. Люди этого типа («гилики» и «психики», т. е. люди материальные и люди душевные) не испытывают никакого особого страдания, кроме того, которое причиняет им нескончаемая вражда архонтов. В целом они прекрасно встроены в злую Вселенную слепого демиурга и чувствуют себя вполне комфортно в гомологичном им демоническом мире.
Но есть и другой тип человека, называемый «пневматиками». Их подавляющее меньшинство. Василид так говорит о них: «Найдешь одного из тысячи — двух из десяти тысяч». Они-то и составляют зерно третьего сыновства, страдающее под гнетом отчужденного темного материального космоса. Пневматики завернуты в оболочку тела и души, но не тождественны ни тому, ни другому. Они посторонние сами для себя, для своей космической человечности. Они радикально инаковы по отношению к окружающим. И эта инаковость состоит прежде всего в их страдании, в их ностальгии, в их восприятии заключения в материальный космос как страшной онтологической катастрофы. Это они чувствуют аромат богооставленности, исходящий от тверди; они ощущают на себе бессмысленность мира как невыносимый гнет. Пневматик одет в свою душу подобно тому, как второе сыновство облачено в крылья святого духа.
Гностик всегда — ἀλλογενές, ξένος, т. е. радикально чужой.
Василид проводит между этими двумя видами человека жесткий водораздел: «Мы люди, не свиньи», говорит он, подразумевая: «Мы люди, а вы свиньи и псы». Человек — это только форма: она может содержать внутри себя в своей сердцевине точку духа, но чаще всего в тело и душу не завернуто ничего, а, следовательно, с гностической точки зрения, мы имеем дело с «прямоходящими свиньями». Человек есть тот, кто несет в себе зерно третьего сыновства и, следовательно, тот, кто радикально выше и первичнее не только космоса, но и всех его иерархий, включая самого творца материального мира, злого демиурга и его архонтов.
Так мы имеем дело с радикальным антропологическим дуализмом, возводящим различия между человеческими типами к вершинам метафизики.
Гностическая антропология, тем не менее, не подразумевает, что гностик уже спасен. Он избран и обладает качественно инаковой природой, нежели человеко-свиньи. В него вложено нечто, что отсутствует у остальных. И это невозможно ни приобрести, ни стяжать. Гностиком надо быть. Однако эта избранность есть избранность страдания, избранность боли, избранность муки. Гностики не торжествуют в своем отличии и не наслаждаются им: они несут его как высшее страдание, как внутренний разрыв, как острое переживание не снимаемого глубочайшего конфликта, разлада с окружающим миром, его структурами, его могуществами. А поскольку в нормальном (для космоса) состоянии силы невежества и материального подавления, силы скорлуп намного превосходят потенциал третьего сыновства в его ядре, то уделом гностика становится поражение, мученичество, казнь и пытки.
Избранности не достаточно для спасения. Без Евангелиона и особой сотериологической операции по дистанционному зажиганию огня, гностик не может быть спасен. Таким образом, центральная для христианства идея спасения как дара, принесенного Христом, сохраняет свое значение и для Василида.
Отсюда вытекает значение обрядов. Чтобы спастись, гностику необходимо пройти обряды — в первую очередь, обряд крещения или «светового крещения». Символ воды указывает на те миры, которые находятся над стереомой, в области гиперкосмии.
Зажженный Евангелионом огонь гнозиса затрагивает всю Вселенную. Она начинает испытывать ужас и боль, подобно самим гностикам. Но все это обращено именно к ним и призвано дать им возможность покинуть космическую тюрьму. Евангелион снабжает пневматиков техникой «сотерии», т. е. картой маршрута по возвращению (третьего сыновства к своему истоку). Знание об устройстве гебдомады и огдоады, а также имена архонтов и «пароли» доступа, позволяют пневматикам проделать путь по ту сторону материи. По этому же пути снисходил Евангелион на сына Абраксаса, затем на Христа, затем на Исуса.
Христианство, согласно гностикам, и есть приход подлинного знания и мобилизация третьего сыновства для окончательного исхода из темницы космоса. При этом Василид дает своеобразную трактовку того времени, которое наступит после окончательного восхождения третьего сыновства вслед за Христом к Не-Сущему Первоначалу. Этот исход даст материальному космосу облегчение. Слова св. Ап. Павла: «Чаяние бо твари откровения сынов Божиих чает» (Рим. 8:19) здесь трактуются весьма оригинально — миры гебдомады и огдоады, демоны и сами великие архонты ждут того, чтобы носители боли и страдания, ради которых мир пронизывают токи ностальгии, скорее покинули бы материальный мир. Это избавило бы темный инфернальный космос от внутренней боли, от сотрясающей его ностальгии. После ухода третьего сыновства, по Василиду, материальная Вселенная не исчезает и не рушится, но, напротив, обретает покой, гармонию и длится вечно, по-скольку никто и ничто более не свидетельствует о том, что этот мир зол, ужасен и бессмыслен. Так свино-люди, демоны и архонты обретают покой в своем беспокойстве, смысл — в своем радикальном невежестве. Все знающие об ином и мучимые ностальгией по иному покидают мир, в котором навечно остаются те, кто и не подозревают, что находятся в аду. А, значит, ад перестает быть адом и становится нормой. Такой свиномир будет длиться вечно, т. к. в нем не будет никого, кто мог бы положить ему конец.
Этот период Василид описывает как вечный постэсхатологический период великого забвения.
Значение Василида для платонизма
Детали гностической системы Василида показывают нам внушительную картину, даже на основании тех фрагментов, которые сегодня имеются в нашем распоряжении. Для нас эта фигура важна прежде всего как чрезвычайно выпуклое изложение дуального платонизма, который представляет собой не просто частное отклонение от платоновской топики, но вполне легитимную возможность ее дуалистической интерпретации. Гностицизм Василида — это совершенно закономерное и вполне логичное развитие платонов-ской философии. Как только мы принимаем радикальную оппозицию между миром идей и миром явлений, мы получаем в той или иной степени аналог такого гностического мировоззрения, основные моменты которого легко выводимы именно из Платона.
Метафора платоновской пещеры прекрасно соответствует миру темного демиурга: здесь все есть игра теней, и никто из созерцающих театральную постановку не подозревает о том, как на самом деле устроен мир. В пещере царит закон невежества. Отсюда один шаг до того, чтобы признать кого-то ответственным за такое положение дел и ввести фигуру «злого демиурга».
Сам Платон этого не делает, но это за него делают платоники-дуалисты.
Антропология гностиков также близка платоновскому учению о философах, которые мыслятся им как высшие существа, способные взлететь на крыльях ума за границы материальной Вселенной. И от зверолюдей их отличие вполне контрастно (у Платона это интерпретируется еще и в политиче-ском контексте). По Хайдеггеру, главной отличительной чертой платонизма является референциальная теория истины, основанная на установлении соответствия между идеей и ее выражением в мире становления (рождения и гибели). А это значит, что эта черта состоит именно в дуализме, который стремился преодолеть сам Хайдеггер, создавая свою фундаменталь-онтологию и разрабатывая теорию «истины бытия». Но именно эта референциальность составляет суть гностицизма, который, однако, делает систему соответствий драматической, расколотой, болезненной и патологичной, создавая своего рода «референциальную теорию лжи», основанную на том, что эйдетические связи между вещами и их гиперкосмическими архетипами оборваны и иерархии материальных смыслов возводятся только к ложной автореференции невежественного и слепого самовлюбленного архонта, имеющего ряд черт, позволяющих сблизить его с дьяволом. Но такая «референциальная теория лжи» есть не что иное, как обратная сторона референциальной теории истины. Более того, гностическая картина мертвого космоса чрезвычайно напоминает точное и наглядное описание Вселенной Нового времени, описанной в терминах научного мировоззрения. Вынеся далеко за границы тверди духовные идеи, мы остаемся в пустынном мире самовластной материи и ее механических закономерностей, что порождает экзистенциальный опыт отчуждения и боли. На удивительное сходство гностического космоса с экзистенциальным переживанием мира в Новое время и европейским нигилизмом, вскрытым Ницше, проницательно указал ученик Хайдеггера Г. Йонас в своей известной работе «Гностицизм»[75]. Кроме того, описание мира после того, как его покинет третье сыновство, поразительно напоминает ницшеанские образы общества «последних людей» («Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают), т. е. вполне современное либеральное общество потребления.
С другой стороны, дуализм Василида имеет огромное значение для формирования неоплатонической философии и христианского богословия. Крайние и заостренные дуалистические формулировки гностической метафизики требовали серьезной работы духа у тех, кто видел соотношение между миром идей и миром явлений гораздо менее напряженно и драматически. Но недуальная градуальность и постепенность перехода идеального в феноменальное и обратно сталкивалось в лице гностиков с таким резким вызовом и с такой обоснованностью в рамках самого платонизма, что требовало огромной работы духа и стимулировало диалектику в одном случае, и обращение к сверхрациональной догматике — в другом.
Можно даже несколько заострить положение дел и высказать следующий тезис: без дуалистического платонизма гностиков и, в частности, гностика-платоника Василида не было бы столь развитой трансценденталистской диалектики неоплатоников, от Плотина и Порфирия до Прокла и Дамаския, которые учитывали гностический дуализм не только тогда, когда занимались прямым опровержением гностиков, но и подспудно, когда развивали предонтологические концепции Не-Сущего Единого, развертывая в систему тезисы диалога «Парменид». Недуальность неоплатоников была, таким образом, ответом на дуальность гностиков и, следовательно, своего рода реакцией, ответом и стремлением к преодолению. Тогда как сам Василид соотносился не с недуальным платонизмом, которого в то время еще в законченной форме не существовало, но с Филоновской проблематикой соотнесения Платона и монотеизма и с христианским толкованием соотношения Ветхого и Нового Завета. Тем самым Василид и его платонизм должен быть признан важнейшим, быть может, ключевым моментом в становлении неоплатонической школы, создававшейся в значительной мере «против гностиков», через систематическое и все более и более диалектически изысканное отвержение вызова Василида.
Совершенно то же самое можно сказать о христианском платонизме Александрийской школы и, шире, Оригене и оригенизме. Богословские выкладки Василида и других гностиков-дуалистов заставили недуальных платоников-христиан прибегнуть к развертыванию тринитарных идей, а позднее четко сформулировать ортодоксальную христологию. Ряд прямых опровержений гностического дуализма и сопряженных с ним воззрений мы находим в самых важных христианских догматах — и в частности, в самом Символе Веры. Но устойчивость дуалистического прочтения вертикальной метафизики Логоса была продемонстрирована как постоянным возвращением дуализма в некоторых течениях христианского монашества, в манихейском влиянии, и наконец, в средневековых ересях богомилов и катаров. И хотя чаще всего никакой прямой филиации этих течений с гностицизмом и конкретно с Василидом проследить не удается, типологическое единство налицо.
Поэтому роль дуального платонизма в платонической философии в целом оказывается фундаментальной и во многом поворотной. Дуальный платонизм Василида и других гностиков — это именно платонизм, и такое прочтение Платона, хотя и отринутое представителями недуальной философии и теологии, совершенно легитимно. Именно такой платонизм есть важнейший содержательный пункт, сопрягающий ранний платонизм Академии с неоплатонической систематизацией. А в контексте христианской догматики гностицизм вполне может быть рассмотрен как наиболее драматическое заострение проблематики соотношения иудаизма и христианства, иудейства и эллинства, которое было главной задачей становления собственно христианского догматического вероучения. Согласно Ипполиту, последователи Василида говорили о себе: «Мы уже не иудеи, но еще не эллины». Не иудеи, потому, что уже узнали о ограниченности великого архонта гебдомады, отождествлявшегося с Богом иудеев, но еще не эллины, т. к. от прямой версии градуальных недуальных неоплатонических эманаций их отделяла травматически и остро воспринимаемая непроницаемая преграда стереомы.
Глава 10. Христианство и платонизм: выяснение пропорций
Тезис 1: Платонизм и христианство несовместимы
Отношения христианства к философии Платона — предмет дискуссий. Вопрос остается нерешенным, и позиции часто зависят от угла зрения тех, кто его поднимает. Наметим сразу два предельных мнения, которые очертят нам границы избранной темы. Одна, крайняя точка зрения заключается в том, что христианство полностью отвергает платонизм и учение Платона и неоплатоников как «эллинскую мудрость», в корне своем посрамленную Христом и «Евангелием». Платонизм несовместим с христианством и не имеет с ним ничего общего. Любая апелляция к Платону и платоникам (в том числе, к неоплатоникам) должна быть в корне пресечена. К этому логически примыкает позиция неприятия эллинской философии вообще и любой нехристианской философии за пределами греко-римского мира.
В подтверждение этой позиции приводятся постановления V Вселенского собора, созванного императором Юстинианом, его трактат против Оригена и оригинизма.
В «Слове благочестивейшего императора Юстиниана, посланного к Мине, святейшему и блаженнейшему архиепископу благополучного города и патриарху, против нечестивого Оригена и непотребных его мнений» Юстиниана осуждается не просто Ориген, но и платонизм. Там прямо сказано: «Воспитанный в языческих мифологиях и желая распространить их, он прикинулся, будто изъясняет божественное Писание, чтобы, таким образом злонамеренно смешивая непотребное свое учение с памятниками божественного Писания, вводить свое языческое и манихейское заблуждение и арианское неистовство и иметь возможность приманивать тех, которые не в точности вразумели божественное Писание. Что иное изложил Ориген, как не учение Платона, который распространял языческое безумие? Или от кого другого заимствовался Арий и приготовил свой собственный яд? Не он ли на погибель души своей измыслил в святой и единосущной Троице степени? Чем отличается от манихея он, который говорит, что души человеческие в наказание за грехи посланы в тела, что будто бы они были прежде умами и святыми силами, потом получили насыщение богосозерцанием и обратились к худому и потому охладели (άποψυγείσας) в любви к Богу, а отсюда названы душами, т. е. холодными (ψυχάς), и в наказание облечены в тела? И этого одного было достаточно для совершенного его осуждения, потому что это — языческое нечестие»[76].
В Деяниях Вселенских Соборов содержится и «Грамота императора Юстиниана ко святому Собору об Оригене и его единомышленниках», где говорится: «Пифагор начало всех вещей называл единицею (μονάς); с другой стороны, Пифагор и Платон признавали какое — то сборище бестелесных душ и говорили, что, когда они впадают в какой-нибудь грех, то посылаются в наказание в тела. Оттого Платон называл тело узами и гробом, потому что душа в нем как бы связана и погребена. Затем, он также о будущем суде и воздаянии душам говорил: душа того, который с философией предается педерастии и беззаконной жизни, будет терпеть наказание в продолжение трех тысячелетних периодов и таким образом, окрылившись, в трехтысячный год освободится и отойдет от тела; прочие по окончании сей жизни одни сойдут в подземное судилище для того, чтобы подвергнуться суду и вместе дать отчет, а иные вознесутся в некоторое небесное место и после суда достойным образом будут оценены, смотря по тому, как жили. Легко понять нелепость этого учения. Ибо кто сообщил ему об этих периодах и тысячах лет и о том, что по прошествии тысячелетий всякая душа отойдет в свое соб-ственное место? А вывод из всего этого неприлично было бы высказать и самому развращенному [человеку], не только такому философу; ибо он тех, которые до конца вели жизнь, исполненную чистоты, соединил с беззаконниками и педерастами и признал, что как те, так и другие будут наслаждаться одинаковыми благами. Итак, Пифагор, Платон, Плотин и их последователи, как я сказал, единодушно признавая души бессмертными, говорили, что они существуют прежде тел и что есть отдельный мир душ, что падшие из них посылаются в тела, и притом так, что души ленивых — в ослов, души грабителей — в волков, души хитрецов — в лисиц, души сластолюбцев — в коней. Церковь же, наученная божественными Писаниями, утверждает, что душа сотворена вместе с телом, а не так, что одно прежде, а другое после, как казалось сумасбродству Оригена. Посему мы просим вашу святость, чтобы вы, собравшись воедино, ради этих нечестивых и зловредных, а больше нелепых учений, тщательно прочитали предложенное изложение, осудили бы каждую главу его и, наконец, анафематствовали, вместе с нечестивым Оригеном, всех, которые думают или будут думать подобно ему».
Под председательством Мины в 543 г. в Константинополе прошел помест-ный собор, на котором по требованию императора Юстиниана платоник Ориген был осужден в пятнадцати анафемах. В частности, было осуждено учение о предсуществовании, учение об апокатастасисе, т. е. восстановлении и спасении всей твари. Некоторые из этих анафем: «Если кто говорит, что все разумные существа были сотворены лишь в виде бестелесных и совершенно нематериальных духов <…> что утратив желание божественного созерцания, они обратились к дурному <…> облеклись телами разной степени совершенства и получили имена; <…> и потому одни стали называться херувимами, другие серафимами <…> тот да будет анафема» (Анафема 2). «Если кто говорит, что Бог Слово <…> один из Пресвятой Троицы, не есть Сам Христос, но является Им путем «использования», осуществленного — утверждают они — посредством уничтожения разума, связанного с самим Богом Словом, который (разум) собственно и называют Христом; и если кто говорит, что Слово зовут Христом из-за этого разума, и что разум называют Богом из-за Слова — да будет анафема» (Анафема 8).
Однако сам текст анафем против Оригена в деяниях V Вселенского собора не сохранился, а до нас дошла только латинская версия «Деяний». Там имеется лишь осуждение самого Оригена в списке таких еретиков, как Арий, Евномий, Македоний, Аполлинарий, Несторий и Евтих. Кое-кто считает, однако, что имя Оригена было вставлено в этот список много позже, что он не был осужден на Вселенском соборе, и что, если даже его и осудили на соборе, то это осуждение не было официально одобрено папами. Однако, по преобладающему свидетельству православной традиции, осуждение Оригена было повторено на V Вселенском соборе. Хотя тексты заседания, на котором был осужден Ориген и его последователи, не сохранились, Пятый собор воспринимается как собор, осудивший «Три главы»: Оригена, Дидима и Евагрия.
Кроме того, Юстинианом в 529 году была закрыта Платоновская Академия в Афинах, а последний диадох, Дамаский, с группой других неоплатоников, покинул Византию.
Вторично платонизм был анафематствован в еще более ясных выражениях в XI веке в случае Иоанна Итала, христианского платоника и ученика другого платоника, Михаила Пселла. А.Ф. Лосев[77] описывает это подробно:
«То, что я приведу сейчас, уничтожает всякие сомнения в том, что Церковью анафематствован именно платонизм, в частности же, диалектика и учение об идеях. Я приведу постановления Поместных соборов XI в. по поводу учений платонического философа Иоанна Итала. Первый Собор на Итала был в 1076 г. Эти статьи вошли в Синодик в Неделю Православия, откуда я их и приведу, подчеркивая те места, в которых упоминается Платон и эллин-ские учения.
1. Так или иначе предпринимающим прибавлять или разыскивать какое — нибудь новое изыскание и учение о неизреченном, воплощенном домостроительстве Спасителя нашего и Бога, каким образом сам Бог — Слово соединился человеческому смешению и по какому основанию обожил приятую плоть, и пытающимся диалектическими словесами (λόγοις διαλεκτικοΐς) оспаривать естество и положение о преестественном новом делении двух естеств Бога и человека — анафема.
2. Обещавшимся быть благочестивыми и вводящим бесстыдно (или, скорее, нечестиво) злочестивые эллинские учения в православную и соборную Церковь о человеческих душах, о небе, земле и других творениях — анафема.
3. Предпочитающим глупую внешних философов так называемую мудрость, и следующим за их наставниками, и принимающим перевоплощение человеческих душ или что они, подобно бессловесным животным, погибают и переходят в ничто и вследствие этого отрицающим воскресение, суд и конечное воздаяние за жизнь — анафема.
4. Учащим о безначальной материи и идеях (ίδέας) или о [бытии,] собезначальном Содетелю всех и Богу, и что небо, земля и прочие творения — присносущны и безначальны и пребывают неизменными, и законополагающим против сказавшего: «Небо и земля мимоидут, словеса же Моя не мимоидут», т. е. без труда пустословящим и приводящим божественную клятву на свои головы, — анафема.
5. Говорящим, что эллинские мудрецы и первые из ересеначальников, подверженные анафеме от семи святых и кафолических Соборов и от всех мужей в православии просиявших (как чуждые кафолической Церкви ради их поддельного и нечистого в словесах преумножения), [что они] — и здесь и на будущем суде лучшие во многом, чем мужи благочестивые и православные, в особенности же, чем прегрешившие по человеческой страсти или неразумению, — анафема.
6. Не принимающим чистою верою и простым вседушевным сердцем предивные чудеса Спасителя нашего и Бога и пречисто родившей Его Владычицы нашей и Богородицы и прочих святых и пытающимся при помощи доказательств и софистических словес оклеветать их как невозможные или перетолковать по своему мнению и представить по собственному разуму — анафема.
7. Проходящим эллинские учения и обучающимся им не ради только обучения, но и следующим их суетным мнениям и верующим в них как в истинные и таким образом настаивающим на них как на имеющих крепость, так чтобы и других один раз тайно, другой раз явно к ним приводить и учить без сомнения, — анафема.
8. При помощи иных мифических образов переделывающим от себя самих нашу образность (πλάσιν), и принимающим платонически идеи как истинные, и говорящим, что самосущная материя оформляется от идей, и открыто отметающим самовластие Содетеля, приведшего все от несущего к бытию и как Творца, господственно и владычески положившего всему начало и конец, — анафема.
9. Говорящим, что в конечном и общем воскресении человеки воскреснут и будут судимы с другими телами, а не с теми, с которыми прожили в настоящей жизни (потому что они истлевают и погибают), и болтающим пустое и суетное, в то время как сам Христос и Бог наш и Его ученики (а наши учители) так научили, что человеки с какими телами пожили, с такими и будут судимы, и, кроме того, также великий апостол Павел подробно преподал истину в слове о воскресении при помощи пространных образов и обличил инако мудрствующих как безумных законоположников — против таковых догматов и учений — анафема.
10. Принимающим и передающим суетные эллинские глаголы, что существует предбытие душ, и что все произошло и привелось не из не-сущего, и что существует конец мучений, или новое восстановление твари и дел человеческих, и вводящим таковыми словесами царство небесное как всецело разрушаемое и преходящее, о каковом сам Христос и Бог наш научил и передал, что оно вечно и неразрушимо, и мы получили через все ветхое и новое Писание, что мучение бесконечно и царство вечно, — таковыми словесами себя самих погубляющим и становящимся виновниками вечного осуждения для других — анафема.
11. Эллинским и инославным догматам и учениям, введенным вопреки христианской и православной вере Иоанном Италом и его учениками, участниками его скверны, или противным кафолической и непорочной вере православных — анафема»[78].
Лосев заключает: «Ясно (…), что православная Церковь анафематствовала тут три подлинные основания платонизма: 1) учение об идеях, 2) творение мира из предвечной материи, 3) предсуществование и переселение душ (с некоторым выпадом также и против диалектики)»[79].
Позднее вопрос об отвержении платонизма встает в период паламитских споров в XIV веке, на закате византийской истории. Тот же Лосев описывает их в «Очерках античного символизма и мифологии»[80] подробно, но довольно пристрастно.
В католичестве отвержение платонизма наглядно проявляется в анафематствовании платоника Скота Эриугены, переводчика и комментатора трудов Дионисия Ареопагита.
Как бы то ни было, учение Платона и неоплатоников в той или иной форме, сплошь и рядом нарочито карикатурной, что требует жанр жесткой полемики, христианством было отвергнуто.
Эта позиция имеет свои обоснования и свою логику, а также историче-скую базу. Она представляет собой, однако, лишь один полюс взгляда на проблему.
Тезис 2: Христианство обязано платонизму всем
Второй полюс может быть сформулирован следующим образом. Христианское учение и, в первую очередь, христианское богословие представляет собой не что иное, как развернутую платоновскую топику, наложенную на мессианскую эсхатологическую канву иудаизма. Христианство распространялось в среде эллинизма, в значительной мере, построенной на платониче-ской философии и ее различных изводах (в первую очередь, аристотелизме), а иудейская диаспора была проникнута именно этой платонической культурой, которая и стала базой для нового религиозного учения в его догматико — интеллектуальной форме. Эта позиция исходит из следующей посылки: собственно «эллины», о которых идет речь в апостольские времена и к кому обращаются огласители «Благой Вести», а также духовная среда, где пребывают иудейские общины в Римской империи, составляют широко понятое поле платонического мировоззрения. Это мировоззрение является общим знаменателем и для языческой теологии мистерий, и для орфиков, и для пифагорейцев, и для философствующих иудеев (таких, как платоник Филон Александрийский), и для носителей разных синкретических, «восточных» культов («халдейские» и «магические» течения), и для разнообразных иудейских сект (например, ессеев). Платонизм I века греко-римского мира можно назвать рассеянным. Собственно то, что принято относить к «среднему платонизму», представляет собой лишь вершину айсберга намного более широкого течения, которое, в свою очередь, выразится в обобщающей модели в александрийском неоплатонизме Аммония Саккаса и его учеников. Но то, что получит название «неоплатонизм», будет не нововведением, а лишь собиранием этого рассеянного умонастроения в единую обобщающую систему.
Собственно, Платон и его Академия, средний платонизм, рассеянный платонизм и неоплатонизм — совокупно представляют не философское учение (одно наряду с другими), а некую интеллектуальную среду, которую можно определить как «алгоритм эллинизма», его «парадигму».
В этой среде ферментировалось христианское учение, на нее оно накладывалось и из нее черпало фундаментальные основания для своей формулировки.
Показательно, что святой апостол Павел говорит в известном высказывании: «Несть ни иудея, ни эллина». Иудей — это представитель религиозной традиции иудаизма, избранного народа «Ветхого Завета». В чистом виде его в христианстве нет, но в снятом виде он есть, как есть и сам «Ветхий Завет» в христианской «Библии». Значит, «несть иудея» надо понимать не как его отсутствие, но как его «снятие», т. е. интеграцию в нечто более высокое и более качественное — в христианство, религию благодати. Но точно так же «несть эллина». И он, безусловно, есть. Но если иудей присутствует в «Ветхом Завете», то эллин именно в самом интеллектуальном устроении христианства. Эллина нет в смысле его языческой религии, но он есть в смысле его философского начала. Но и в этом случае, как и в случае «иудея», эллинство снято в христианстве. И в этом состоит диалектика христианства как такового: в нем снимаются противоположности — иудейская семитская монотеистическая религиозность и иафетическая эллинская философия. Эта симметрия обнаруживается и в другом месте, где святой апостол Павел говорит о Христе: «Иудеям же соблазн, эллинам же безумие». Приходя к иудеям и обращаясь (через апостолов) также и к эллинам, Христос диалектически преодолевает и то, и то, «снимает» частное, и универсальное, религиозное и философское. А это значит, что наряду с преображенной иудейской религиозностью, мы имеем дело с преображенной эллинской философией, т. е. с христианским преображением платонизма.
С точки зрения концептуальной преемственности, этот тезис о платонической подоплеке христианства (понятой как прямая симметрия иудейской подоплеки собственно религиозного истока), можно проследить следующую цепочку.
1) Влияние рассеянного платонизма на интеллектуальную среду раннего (апостольского) периода христианства. В этом смысле показательно посещение святым апостолом Павлом Ареопага и его отношение к алтарю «неведомого Бога». Этот «неведомый Бог» платонически соответствовал платоническому «невыразимому» или «апофатическому» началу. Отождествление или даже уподобление семитского Бога эллинскому вполне могло стать отправной точкой для завязи собственно христианского богословия. Другими источниками этого богословия служили и иные философские моменты в «Евангелиях» (особенно в «Евангелии от Иоанна») и посланиях апостола Павла. Показательно, что членом Ареопага был святой Дионисий Ареопагит, которому приписывалось авторство «Ареопагитик». Так, собственно развитый философский христианский неоплатонизм приписывался к самому началу христианства.
2) Иудейские круги эллинского рассеяния, которые стали приоритетными общинами апостольского благовествования, также находились под определенным воздействием платонизма. Ярким примером здесь служит уже упоминавшийся Филон Александрийский. Его эллинистическое толкование «Ветхого Завета» в значительной степени предопределило характер позднейшего христианского богословствования, начиная с темы Логоса, типично греческой и платонической, но приспособленной Филоном к интерпретации ветхозаветной традиции. Здесь невозможно не задаться вопросом: «Слово», о котором говорит святой апостол Иоанн Богослов, по-гречески logoς, не является ли прямым концептом именно платонизма, понятого широко и соотнесенного с Филоном?
3) Далее мы переходим к Александрии, где с самого начала встречаемся с группой ранних христианских мыслителей, сформулировавших основные положения христианской догматики. Это Климент Александрий-ский, разработавший, вслед за Филоном, учение о Логосе. Это Ориген, ученик Аммония Саккаса, который был также учителем Плотина, а, следовательно, ключевой фигурой в становлении собственно неоплатонизма. Ориген, в свою очередь, сформулировал многие основополагающие для христианского троического богословия идеи и умопостроения. Учениками Оригена были Григорий Чудотворец, Дионисий Великий и вся школа Александрийского богословия. Эта Александрийская школа, наряду с альтернативной Антиохийской, стала одним из двух основных интеллектуальных центров в период первых Вселенских соборов, когда складывалась церковная догматика. Антиохийская школа тяготела к буквальному и историческому толкованию, продолжая семитическую традицию собственно ветхозаветной религиозности, в то время как Александрийская школа представляла собой развернутый христианский платонизм.
4) Именно александрийский (то есть христианско-платонический) способ толкования оказал решающее влияние на становление отцов-каппадокийцев — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Богослова. При этом именно каппадокийцы в самых главных чертах и стали выразителями никейской ортодоксии, т. е. собственно христианской догматики. Василий Великий и Григорий Богослов высоко оценивали Оригена, включили его тексты в «Филокалию», постоянно обращались к Платону и Плотину. Сегодня не подлежит сомнению, что сам догмат о Троице, а также термины «ипостась» и «сущность» каппадокийцы сформулировали под определенным влиянием неоплатонических триад и в контексте неоплатонического философствования, оперировавшего именно этими понятиями — «триады», «монады», «триединство», «усия», «ипостась» и т. д. Александрийский платонизм в лице каппадокийцев достиг уровня не просто влиятельного течения в христианстве, но стал основой догматического ядра христианского богословия. Еще более ярко выражен платонизм был у таких христианских писателей, как Евагрий Понтийский. В V веке в Александрии мы снова встречаем неоплатоников школы Аммония Гермия, в том числе и неоплатоников — христиан, например, таких как Иоанн Филоппон, Немезий Эмесский, Птолемаидский епископ Синезий и т. д.
6) Новый всплеск платонизма в христианстве мы видим в V веке вместе с Ареопагитиками, приписанными Дионисию Ареопагиту. Это мистиче-ское богословие в христианском контексте воспроизводит неоплатонические конструкции Прокла и разных течений Римской (Плотин), Сирийской (Ямвлих) и Пергамской школ, включая обращения к теургии. Сама атрибуция неоплатонических текстов ученику святого апостола Павла была вполне символической, т. к. обращенный эллинский философ первого века, ставший в Галии мучеником за Христа, был идеально точной парадигмальной фигурой в этом контексте. Комментарии еп. Иоанна Скифопольского и св. Максима Исповедника к «Ареопагитикам» развивают эту линию, получившую свое законное место в православном богословии и существенно повлиявшую (через Скота Эриугену) и на латинскую схоластику.
6) В XI веке в Византии мы видим резкий всплеск радикального платонизма в лице Михаила Пселла и его школы (Иоанн Итал), где наряду с христианским платонизмом мы встречаем обращения и к «Халдейским оракулам» политеистического платонизма в духе Ямвлиха, Прокла и Дамаския.
7) В XIV веке платонизм снова ставится в центре внимания богословской мысли во время богословских споров, где противники исихазма (Варлаам, Акиндин, Никифор Григора) напрямую апеллируют к Платону, возражая против учения святого Григория Паламы о «божественных энергиях», настаивая на апофатичности Бога. Но и сам Палама, не обращаясь напрямую к Платону и даже осуждая платонизм своих идейных противников, пользуется в своих доказательствах «нетварного света» классическими стратегиями неоплатонической диалектики. А.Ф. Лосев[81] интерпретирует эти споры как коллизию между «языческим или натуралистическим платонизмом» противников Паламы и христианским платонизмом самого Паламы. Это, вероятно, натяжка, но правильно отмечено, что мы имеем дело в обоих случаях с платонической топикой, предопределяющей аргументацию обеих сторон.
8) На самом последнем этапе Византии платонизм последний раз даст о себе знать вместе с Гемистом Плифоном, который составил свои «Законы» на основании чисто платонических воззрений и открыто призывал к восстановлению политеистических культов, составил проект языческой литургии и проект социально-политических реформ по модели идеального государства Платона. От Плифона прямое влияние ведет к Флорентийской Академии Козимо Медичи и итальянскому Возрождению. Влияние платонизма на Европу того периода и его продолжение в следующие эпохи (Просвещение) — отдельная тема[82].
9) Также отдельно можно рассматривать влияние платонизма и неоплатонизма на западных отцов — от Августина до Боэция и далее, к Иоанну Скоту Эриугене и Ансельму Кентерберийскому. И в этом смысле идеи А.Ф. Лосева о связи платонизма с субординатистскими толкованиями троического догмата, сопряженными с Filioque, заслуживают внимательного исследования. Уайтхед же, как известно, всю западноевропейскую философию считал ничем иным, как «заметками на полях Платона».
Суммируя все это, можно сказать, что у сторонников идеи решающего влияния платонизма на основополагающую христианскую мысль, аргументы также весомые.
Интеллектуализм и девоция в христианстве
Мы наметили крайние границы того, как можно интерпретировать соотношение христианства и платонизма. Само собой разумеется, что между этими крайностями располагается широкий спектр градиентных точек зрения, совмещающих в разных пропорциях и с разной степенью знакомства с предметом элементы этих двух экстремумов.
В ходе нашего анализа можно заметить одну закономерность. Христианство, если под ним понимать лишь традиционные его формы (исключая протестантизм и секты, а также церкви, отделившиеся от православия ранних этапов — несторианство, монофизитство и т. д.), является объемным явлением, в котором параллельно наличествует много уровней. В христиан-стве, безусловно, есть интеллектуальная, философская составляющая, но она не является ни единственным содержанием христианства, ни его ядром. Однако без этой интеллектуальной составляющей ни догматы, ни основные положения этой веры не могут быть ясно изложены, усвоены, осознаны. Там, где есть структурированное осмысленное послание, есть обращение к интеллектуализму. Если рассмотреть эту интеллектуальную составляющую в христианстве, начиная с базовых утверждений о Воплощении, Сыне, Троице, спасении, Промысле, с Символа Веры, догматов и заканчивая бескрайней областью святоотеческого предания, мы легко распознаем на всех уровнях и во всех случаях недвусмысленное и яркое, бросающееся в глаза присутствие платонизма, неоплатонизма, самой платонической топики.
Более того, корректно понять основные положения христианского вероучения без знания платонических норм вообще не представляется возможным, т. к. понятия вырываются из контекста, утрачивают смысл, перестают быть связанными между собой.
В эпоху распространения и становления христианства платонические формы мышления, сам язык платонизма были чем-то естественным и по сути совпадали с культурой той эллинской или эллинизированной среды, где эти процессы происходили. Одни считали своим долгом подчеркнуть отрефлектированный платонизм христианского образа мысли. Другие впитывали платонизм как нечто само собой разумеющееся, как атмосферу «эллинизма». Но когда в истории культурные парадигмы радикально поменялись, и причем неоднократно, ставится вопрос о том, что христианство в такой ситуации может утратить свою интеллектуальную составляющую, свою философскую и богословскую топику. А они отнюдь более не являются чем-то само собой разумеющимся. Это довольно тревожный знак: религия может в какой-то момент стать бессмысленной вообще. Можно спорить о том, какую роль в христианстве играет разум. Но трудно отрицать, что без определенного интеллектуального напряжения и вполне конкретной подготовки многие основополагающие моменты христианского вероучения окажутся совершенно недоступными.
С другой стороны, как уже неоднократно говорилось, христианство невозможно свести к чисто интеллектуальной философии. В основе этой религии лежат таинства, сверхразумное чудо Боговоплощения, тайная деятельность Святого Духа. С самого начала распространения христианства его проповедники не уставали подчеркивать, что в этой Вере есть та грань, где разум немеет, работа сознания останавливается, начинается нечто, опровергающее нормативы обыденного земного рассудка. И Церковь в равной мере обращается со своим спасительным посланием и к сильным и одаренным разумом, и к малым мира сего, к простакам, к убогим. Никто не исключен из поля влияния Благой Вести, никто не возвышен сверх меры. Кроме того, «последние станут первыми». Этот аспект открывает широкий путь неразумного верования, напряженной эмоциональной преданности, отказывающейся от опоры на ум и доверяющей лишь зову религиозного чувства. И это направление, devotio, также является неотъемлемой чертой христианства с первых этапов его становления до настоящего времени. Наличие этого масштабного девоционального измерения наглядно опровергает тех, кто склонен сводить христианство к платонизму и платонической теологии. В христианстве явно зарезервировано пространство для тех, кто движется к спасению и Богу не путями разума, а путями чувства, преданности, эмоции, доверия. Христианство возможно и действительно вообще без всякой философии, не случайно «блаженными» в народе называют подчас людей, страдающих слабоумием, а само слово «crétin», «кретин» развилось из «chrétien», «bon chrétien», изначально служившего ситуативным эвфемизмом для определения душевнобольных, о которых ничего было сказать, кроме того, что это тоже христиане (а не кузнецы, крестьяне, торговцы, воины, клирики, чиновники и т. д.). Мудрость мира посрамлена Христом, в глазах Бога она есть безумие.
И хотя само христианство в широком смысле состоит из переплетения этих двух сторон — интеллектуальной и девоциональной, выделить их можно, а иногда и весьма полезно. И если подытожить наше краткое рассмотрение этой бескрайней и сложнейшей темы, можно сказать, что все интеллектуальное, интеллигибельное в христианстве, скорее всего, действительно, является платонизмом в той или иной его версии или производной от него; но при этом кроме интеллектуального содержания в христианстве есть еще много иных, не интеллигибельных сторон, которые также неразрывно связаны с его сутью. Конфликт между этим полюсами возникает лишь в том случае, если один из полюсов начинает претендовать на эксклюзивность: либо интеллектуализм отбрасывает чудеса, иррациональность и душевную преданность и иссушает веру, подменяя ее схемой, либо небрежение рассудочностью достигает патологических форм нарочитого мракобесия и низвергается в хаос индивидуального, эмоционального и невнятного.
При этом, конечно, далеко не весь платонизм совпадает с христианской теологией и может быть безболезненно с ней сопряжен.
Космос христианства является платоническим
Следует обратить внимание и на следующее важнейшее обстоятельство: картина мира, которую христианское учение берет за основу своих представлений в области онтологии, гносеологии, космологии, антропологии, телеологии и даже учения о природе, физике, строится на эллинских принципах и в основных своих чертах совпадает с платоническим видением мира.
Сам принцип Троичности Божества, на котором строится христианская догматика, созвучен триадической диалектике апофатического Единого у неоплатоников. И христианское богословие и неоплатоническая философия объясняют отношение трансцендентного Начала и имманентного сущего с помощью сложной модели, построенной на основании принципа триедин-ства, где дуальность преодолевается триадичностью, что позволяет утвердить высшее Единство и оправдать существование как наличного мира, так и его трансцендентной Причины. Бог христиан благ, истинен и прекрасен в полном соответствии с платоническим описанием основных свойств Первоначала.
Христианство видит сущее как Творение, т. е. следствие внешнего созидающего Начала, а не нечто само собой возникшее. Мир есть символическое изделие Божества, развернутая демиургема (если пользоваться неоплатоническим термином), и само представление о Боге как Творце есть прямая отсылка к платоновскому Демиургу. Этот мир, в отличие от мнений манихеев и гностиков, благ, т. к. создан благим Богом, а зло в нем есть не что иное, как «умаление добра» (этот тезис блаженного Августина[83] есть прямая цитата Плотина). Космос иконичен, т. к. в прикровенной форме катафатически повествует нам о своем Творце, призывая обратить все внимание на его Причину, которая есть Создатель. В такой онтологии мы видим именно картину мира Платона, запечатленную в разных диалогах, в первую очередь, в «Тимее».
Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы есть Слово, Логос, Божественный Ум. Он является устрояющим Началом Творения, его основой (Агнец, закланный прежде всех век), а его Воплощение в последние времена есть эсхатологический смысл Творения и исполнение упований на спасение и преображение. Мир и история суть развертывание Слова, умное творение. Смысл сущему придается именно через бытие Божественного Ума. Воплощение Слова – Ума в человеке есть венец не только истории, но и космологии.
Онтология и у христиан и у платоников глубоко эротична. Благого Бога связывают с Творением узы любви. Создание любит своего Создателя и тянется к нему. Но и Бог любит свое Творение и отдает в жертву за спасение его своего возлюбленного Сына. Так «Бог становится человеком, чтобы человек стал богом» (по словам святого Иринея Лионского[84]), «Слово воплотилось, чтобы мы обожились» (по епископу Афанасию Александрийском[85]). Без труда узнаем мы здесь неоплатоническую триаду парадигмальных икономий божественного установления: постоянство, выход за свои пределы (исступление, экстасис), возврат. Бог остается всегда неизменным и неприкасаемым. Но он выходит (икономически) за свои пределы (в христианстве это три икономии трех Лиц Пресвятой Троицы — творение Отца, Спасение Сына и утешение/свершение Святого Духа[86]) и, как Христос, спустившись в мир и приняв «зрак раба», человека, «твари» (ктисма), воскресает и возносится на небеса, совершая возвращение к Отцу. По этой же траектории должны следовать верные Христу, встав на путь возврата (по благодати).
Вокруг этой онтологической вертикальной оси Божественных икономий выстраивается структура космоса. Космос символичен, иконичен, организован в соответствии с Промыслом (также типично неоплатоническое понятие). Он упорядочен волей Отца, и Бог в нем есть Господь Вседержитель, Царь. Он вертикален по своей форме и организован по симметрии «верх — низ». Он содержится в божественной власти, и все Творение есть его подданные, рабы Господни. Бог вверху, «на небеси». Земля внизу. Между этими точками космоса расположены мириады видимых и невидимых тварей: минералов, растений, животных, демонов и ангелов. Все эти существа в христианстве признаются тварями, а не богами, как в язычестве; это существенно, но не менее важно, что все эти твари — видимые и невидимые — существуют и упоминаются на одном дыхании во множестве догматических и богодухновенных текстов. Бытие ангелов и демонов для христианина должно быть столь же очевидно, как бытие камня или зверя. И столь же символично, иконично, осмыслено. Здесь различие христианства с платонизмом есть (признание тварности невидимых чинов), но с иными философскими и космологическими школами (например, с физикой Нового времени) оно несравнимо больше.
В центре этого иконического космоса стоит человек как представитель всей твари перед лицом Творца. Он свободен выбрать между движением вниз (продолжение исхождения за свои пределы) и движением вверх (возвратом). Первый путь — путь греха (падение), второй — добродетели (спасения и обожения). Такое понимание антропологии является классическим и для христианства и для платонизма. При этом человек мыслится как существо, состоящее из тела и души, и душа понимается субстанционально, как нечто полностью автономное от тела и переживающее его смерть, а значит, бессмертное. Существуют разные точки зрения на самостоятельное выделение в структуре человека еще и духа (трихотомизм «тело — душа — дух» против дихотомизма «тело — душа»), но в обоих случаях разумные способности души считаются ее высшим выражением. Следовательно, спасение души невозможно без обращения к духу. Сотрудничество (соработничество, синергия) человеческого духа, Ума с Божественным Духом, Святым Духом есть залог успеха реализации предназначения человека в его жизни. Самобытность и бессмертие души являются отличительными свойствами именно платонизма в его полемике с атомистами, эпикурейцами, киниками и стоиками.
Познание мира в христианстве возможно за счет того, что и человек (познающий) и мир (познаваемое) имеют общий исток — они созданы Единым Творцом. Но это знание дается не через изучение внешнего мира, а через восхождение к Творцу, в котором и лежит тайна всех вещей. Только стремление к непознаваемому Творцу дает истинное знание обо всем, тогда как чрезмерное внимание к окружающему лишь рассеивает сознание и приводит к поглощению материей и ее темными силами. Плотин полагал, что знание возможно только через обращение к душе, а души — к небесному уму, а ума, в свою очередь, к Непостижимому Единому[87]. Познание требует «закрывания глаз». Василий Великий в своих Беседах дает христианскую версию платонической гносеологии во вдохновенной проповеди на библейское высказывание «Внемли себе»[88]. Снова полная гармония. Стоит только отказаться от такого подхода, проблематизировать процесс познания, и мы выйдем за рамки не только платонизма, но и христианства.
Эта близость христианского космоса с платоническим могла ускользать от внимания тогда, когда в культуре инерциально преобладали греко-латинские классические представления о мире. В этом случае в силу культурной парадигмы это могло не осознаваться и нерефлексироваться, поскольку было чем-то само собой разумеющимся и очевидным. Но когда картина мира, свойственная традиционному обществу, основанному на греко-рим-ских философских и космологических представлениях, стала качественно меняться (в эпоху Ренессанса, в Реформацию и, особенно, в Новое время), объектом критики новых философских идей стали не просто платоническая космология и онтология, но и само христианство, как неразрывно связанная с ними религия, оперирующая в формулировке своих основных догм и принципов именно с этим вертикально организованным «отеческим», единоначальным (самодержавным), тварным, иконическим космосом. Атомизм и научная картина мира вводили иной, неплатонический космос, и параллельно этому полным ходом шел демонтаж христианства. Так религия теряла свое космогоническое основание и превращалась в нечто иное, нежели то, чем она была изначально и чем продолжала быть в течение более чем полутора тысяч лет.
Без деятельного и живого Троического Божества, без космоса как символа, без активной работы Провидения, без возможности истинного познания, основанного на единстве Творца, без бессмертия души и без бытия ангелов и демонов полноценного христианства просто не может быть. Но эти инстанции составляют основу платонического представления о порядке вещей, которое, в свою очередь, не может сосуществовать с альтернативными философскими и космологическими воззрениями.
Образ картины и ткани с прорезью
Можно представить себе следующий образ. Платонизм представляет собой некое полотно с нанесенными на нем симметричными фигурами, образующими строгую симметричную картину. Все элементы картины между собой связаны, отчетливо прорисованы и обозначены. Такой картиной могут являться, например, «Эннеады» Плотина или резюмирующие тексты Прокла или Дамаския (положим, комментарии к «Пармениду» или «Тимею»). В них есть все: и апофатика, и катафатика, и подробно прописанные иерархии, и основы духовной космологии и физики, и диалектика, и сотериологические траектории, и онтология, и метафизика, и гносеология, и психология. Христианство несовместимо с этой картиной целиком (например, логика подчиненности эманаций, политеизм, предсуществование душ, вечное творение и т. д. в него не вписываются), но с какой-то частью не просто совместимо, но тождественно. Можно представить себе, что на данное полотно мы накладываем ткань с вырезанной на ней фигурой, например, треугольником или овалом или ромбом. То, что будет видимо нам после этого, и будет структурой нормативной христианской ментальности — частичной акцептацией платонических схем, связей, интеллектуальных ходов и мыслительных траекторий в рамках общей структуры, вырезанной из полотна фигуры. Будет ли это полноценным платонизмом? И да, и нет. Да, потому что устроение христианской философии не может заимствовать базовые элементы ниоткуда, кроме как из платонической топики. Атомизм, например, или субъект-объектная топика научного рационализма Нового времени, или философия эмпиризма, или позитивизм, или конструктивизм по своим базовым предпосылкам, аксиоматике и аподиктическим тезисам относительно структуры мира с христианством вообще ни в коей мере не совместимы. Христианство накладывается именно на платоническую картину мира, на платонически осмысленный космос. Но трактует эту картину мира оно со своей специфической только для него точки зрения. Вот в этом особом взгляде и состоит отличие христианства от платонизма, несовпадение с ним. Этот взгляд не видит чего-то одного, отрицает что-то другое, игнорирует нечто третье, но видит, признает и принимает все остальное. Поэтому общая картина платонического полотна приобретает совершенно оригинальное издание. Чтобы опознать в отверстии платонизм, надо знать его в контексте всей картины — в ее полном виде. Строго говоря, трудно представить себе корректное прочтение «Ареопагитик» без знания трудов Прокла, равно как и трудов Скота Эриугены без «Ареопагитик». Это возможное и даже наверняка полезное чтение, но оно будет семантически неполным и незавершенным.
С другой, нефилософской, но чисто исторической точки зрения, «Новый Завет» совершенно невозможно понять, не имея представления о «Ветхом Завете». Его содержание станет просто бессмысленным, все связи оборвутся. Вся логика разрушится. Из цельного повествования о священной истории мира и о финальном произошедшем с Пришествием Сына спасении мы получим странный эпизод, который смысловым образом непонятно куда включить. Невозможно понять развязку драмы мира, не зная его завязки и не имея представления о предыдущих этапах. Это будет симулякр.
Несколько отклоняясь от темы, можно сказать, что теологии нехристианских монотеистических религий (ислама и иудаизма), и особенно их эзотерические зоны (соответственно, суфизм, шиизм, аль-фальсафа и ишрак — в исламе, и каббала — в иудаизме), точно так же утратят смысл вне апелляции к платонизму, на основании которого они и сложились (под влиянием все того же эллинистического культурного круга). В исламе этим центром стал арабский и сирийский платонизм, начиная с центра в Харране, куда переместились последние классические неоплатоники в VI в. после закрытия Юстинианом Академии в Афинах. Аль-Фараби, Ибн Сина, ибн Араби или Сухраварди суть настоящие платоники во всех смыслах. В иудаизме средневековая каббала развилась, в свою очередь, под сильным влиянием исламского платонизма, хотя ее провозвестием вполне можно считать самого Филона Александрийского. Стоит учесть также влияние и христианского платонизма. Учение об эманациях, «совершенном человеке», духовных степенях небесного восхождения — явные следы платонизма, которые ни с чем нельзя спутать.
Значение платонизма для нас сегодня
Последнее, что хотелось бы кратко затронуть, это отношение платонизма к возможности русской философии и перспектива православного возрождения в наше время. Неудивительно, что русская философия в своем первом, насильственно прерванном и в целом неудачном старте отталкивалась именно от платонизма. Платонизм в разных изданиях повлиял на В. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского, Н. Лосского, А. Лосева и почти всех русских философов первого (и единственного, увы!) поколения. Русская философия попыталась начаться именно как религиозная философия и в какой-то мере как русский платонизм. Отсюда центральность темы Софии и общая платоническая топика русского идеализма. Эта линия прервалась и не получила органичного развития по историческим обстоятельствам. Но без нового обращения к платонизму русской философии просто не может быть. И вместе с тем невозможно представить себе возрожденную русскую философию без христианства. Таким образом, проблема христианского платонизма становится для нас центральной. Это не значит, что мы на этом остановимся; это значит, что с этого мы снова должны начинать. Иначе, не имея начала, мы не сможем сдвинуться с места при отсутствии точки отсчета.
И второе: христианское возрождение в России не может быть полным без восстановления пропорций интеллектуального христианского космоса, т. е. без воссоздания основополагающей теологической и философской топики христианского вероучения. Греко-римская классика оставалась основной светского образования в России вплоть до революции 1917 года, и это облегчало (хотя бы до некоторой степени) людям постижение основ христианства. В наше время мы имеем дело в школе и вузах с принципиально иным космосом, позитивистским и постпозитивистским, обезбоженным, холодным и отчужденным, с иной структурой пространства и времени, с иной онтологией и иными законами познания. Когда христианская девоция накладывается на такую картину мира, результат может быть самым плачевным и непредсказуемым. Религия рискует быть сведенной до уровня морали или эмоции, как сплошь и рядом происходит в западных обществах. Или превратиться в полностью лишенный смысла ритуал. Поэтому религиозное возрождение должно сопровождаться интеллектуальным и философским восстановлением пропорций этого христиански понятого космоса. А это снова отсылает нас к платонизму. Следовательно, эта тема имеет самое центральное значение в обоих случаях: и для начала адекватного русского философ-ствования, и для возрождения Русской Православной Церкви.
Глава 11. Платонизм в исламе (по мотивам трудов Анри Корбена)
От Хайдеггера к Сохраварди
Анри Корбен как философ известен менее, нежели как исследователь исламской и иранской философии. И все же он был именно философом, которого к основной теме его работ, исламскому мистицизму и эзотеризму, привела как раз философия — в первую очередь, платонизм, а также хайдеггерианство (Корбен неоднократно встречался с Хайдеггером и был первым переводчиком на французский язык фрагментов его трудов). Сам Корбен говорил в своем интервью с философом Филипом Немо: «Я всегда был платоником (конечно, в широком смысле этого слова). Я думаю, платониками рождаются, как рождаются атеистами, материалистами и т. д. Это вопрос непроницаемой мистерии преэкзистенциального выбора»[89].
Через Л. Массиньона в юности А. Корбен познакомился с философией иранской школы Ишрак (Сохраварди) и постепенно окончательно выбрал исследование исламского гнозиса делом своей жизни.
А. Корбен искал в исламской мистике то, что так или иначе связывалось с платонизмом и хайдеггерианством, и тем самым его огромный труд по описанию широкого спектра идей исламских мыслителей и философов можно рассматривать как тщательно проработанные и систематизированные материалы по подготовке «Энциклопедии исламского платонизма». Поэтому все творчество А. Корбена можно представить введением в эту обширную проблематику.
Что можно отнести к неоплатонизму в исламе?
То, что попадало в поле зрения А. Корбена и становилось приоритетной темой его исследований, так или иначе связано именно с платонизмом и неоплатонизмом. Можно сказать, что Корбен провел тщательный разбор исламской философии и выделил в этом значительном массиве знаний все то, что в разных контекстах и разных историко-культурных и социальных условиях имело отношение (историческое или типологическое) к тем или иным версиям платонизма и неоплатонизма. Поэтому простое перечисление приоритетов Анри Корбена сразу очертит нам все интересующее нас поле.
Корбена интересовали следующие направления в исламской мысли:
1) ал-фалсафа, т. е. собственно, исламская философия, начавшаяся с аль-Фараби и Ибн Сины и закончившаяся (по крайней мере, в первоначальной форме) на Ибн Рушде и сокрушительной критике суфия аль-Газали;
2) суфизм в его интеллектуализированной форме, восходящий к масштабному наследию Ибн Араби и его школе, оказавшей колоссальное влияние на всю последующую традицию ат-тасаввуф;
3) шиизм с его иммамологическими, сотериологическими и эсхатологиче-скими доктринами. При этом особое внимание Корбен уделял миноритарному шиизму шиитов-семеричников — исмаилитам;
4) школа Ишрак, основанная Шихабоддином Яхья Сохраварди и представляющая собой духовную ось многовекового развития всей исламской философии в Иране и в обществах, находившихся под влиянием персидской культуры;
5) исламские fideli d’amore, мистические поэты Руми, Рузбехан Бакли и т. д.;
6) исламские герметики школы Джабир Ибн Хайяна и других направлений;
7) интетические течения, сочетающие в себе различные элементы предыдущих направлений (в частности, трансцендентальная теософия Муллы Садры и т. д.).
Все это и составляет поле исламского платонизма и неоплатонизма в различных изданиях. Но эти течения развертывались не на пустом месте, а в конкретной историко-культурной среде, активно влияющей на исламскую мысль извне.
К этим направлениям вплотную примыкали внеисламские духовные течения:
• собственно греческий неоплатонизм;
• эллинизированный герметизм;
• халдейская астрологическая религия и сабеизм;
• иудео-христианские секты, гностики и антихалкидонские сирийские Церкви;
• древнеиранский зороастризм и зерванизм;
• манихейство и близкие к нему дуалистические секты.
В качестве референтных течений в христианстве Корбен ссылается также на Средневековые мистические ордена, герметические братства эпохи Возрождения, европейский герметизм и протестантскую мистику (Я. Беме, И. Сведенборг и т. д.).
У всех этих течений, чрезвычайно различных и сплошь и рядом антагонистических, есть тем не менее нечто общее. Все они строятся по модели платонической вертикальной топики, разрабатывая, с опорой на исламскую кораническую доктрину, структуры Логоса, уходящего в верхние бездны апофатических трансцендентных миров. Контекстом, в котором развертывается эта интеллектуальная традиция, является мусульманская религия — со всем ее текстуальным, нормативным, правовым, ритуальным и экзегетическим содержанием. Но этот контекст мог быть выстроен в соответствии с разными концептуальными установками. Разделение на суннитов и шиитов показывает, насколько существенными могут быть толкования одних и тех же религиозных положений и исторических событий. Традиционные суннитские мазхабы (ханафитский, малекитский, ханбалитский и шафиитский) демонстрируют различия в экзегетике без жестких оппозиций. Такие течение, как калам и мутазилиты, развивают свои теологические конструкции на основании интеллектуальной традиции, существенно отличающейся от любых форм платонизма. И в рамках самой исламской философии аристотелианец Ибн Рушд (Аверроэс) очерчивает то направление мысли, в котором платонизм системно отвергается и опровергается.
Таким образом, мы можем выделить в исламской мысли и в исламском религиозном кораническом контексте те течения, которые трактуют Логос платонически и не платонически.
Неплатонический спектр богословско-философских течений в исламе состоит из:
1) экзотериков, сторонников идеи того, что «ворота иджтихада закрыты», т. е. толкования Корана и его положений полностью даны в хадисах и нормах шариата, и поэтому любая герменевтика и, в первую очередь, мистическая, бесполезна, невозможна и вредна;
2) исламских правоведов, толкующих ислам с чисто юридической точки зрения;
3) сторонников рационалистической теологии (калама), жестко утверждающих фундаментальный трансцендентализм пары Творец — творение, ашаритов и наиболее рационалистическое направление — мутазилитов;
4) перипатетиков и последователей Ибн Рушда;
5) реформаторов-салафитов, вслед за Ибн Теймия, призывающих ориентироваться только на «ранний ислам» и считающих почти все типы исламской герменевтики «куфром», т. е. «ересью», «отступлением от веры».
Итак, мы имеем в контексте исламской культуры два магистральных направления, объединяющих в себе целые философские миры, существенно отличающиеся друг от друга. Естественно, мы почти никогда (или за редким исключением) не встречаем чистых форм, но тем не менее можно выделить и описать эти два полюса довольно наглядно, как своего рода «идеальные типы», вокруг которых многообразно и подчас причудливо группируются отдельные школы, направления, доктрины или отдельные авторы и духовные деятели. В терминах традиционализма (Р. Генон) мы вполне можем обозначить их как эзотерический и экзотерический полюс в исламской традиции. При этом эзотерический полюс фактически будет тождественен семейству платонических и неоплатонических школ и теорий. Исламский эзотеризм строится вокруг платонического Логоса, тогда как исламский экзотеризм, напротив, отличается антиплатоническими чертами. Антиплатонизм может быть разнообразным:
• собственно религиозным, т. е. ставящим акцент на девоциональном понимании веры;
• семитическим, воспринимающим мир и его Творца конкретно, в его эмпирической данности (а не символически), что сближает это направление с экзотеризмом иудеев-талмудистов или представителями Антиохийской школы богословия в христианстве;
• рационалистическим, отрицающим интеллектуальную интуицию и основывающим философию на рассудочных выводах;
• перипатетическим, воспроизводящим критику Аристотелем платоновского учения об идеях (Ибн Рушд);
• юридическим, настаивающим на том, что правовое толкование Корана и сунны является исчерпывающей формой экзегетики.
Анри Корбен исследует практически исключительно эзотерический полюс ислама и своими исследованиями возводит его в ранг огромного и самостоятельного философского, богословского и мистического направления. Следуя за линией Корбена, по мере прочтения его работ в их совокупности, мы неумолимо приходим к выводу: платонизм является общим знаменателем для огромного сегмента исламской мысли и исламской интеллектуальной культуры, причем этот сегмент количественно столь значителен, что апроксимативно покрывает как минимум половину исламской мысли, а качественно настолько ярок, насыщен и содержателен, что, без сомнения, превосходит во всех отношениях другую половину. И тем не менее эта (платоническая) сторона исламской культуры по достоинству до сих пор не оценена ни на Западе, ни в самом исламском мире; ее значение для истории исламских обществ не исследовано; ее влияние на другие общества (в частности, на Европу) вообще никак не отражено и не осмыслено. Труды Анри Корбена являются попыткой восполнить эти недостатки. Эту попытку вполне можно признать успешной, а миссию самого Корбена выполненной. Он открыл нам почти неизведанную территорию — континент исламского платонизма. Тем самым область платонических исследований была существенно обогащена и расширена.
Шиитский и иранский фактор
Принципиальным выводом А. Корбена после первого знакомства с положением дел в области исследований исламской теологии и философии стала убежденность в совершенно недостаточном внимании, уделяемом шиизму и иранской духовной культуре в целом. В этом он упрекает не только академических востоковедов, исламоведов и историков философии, но и традиционалистов школы Рене Генона, игнорировавших, по мнению Корбена, шиитскую традицию.
Мнение относительно окончания исламской философии после смерти Аверроэса, ставшее расхожим, опровергается, согласно Корбену, двумя наглядными моментами: взлетом суфийской философии в школе Ибн Араби, современника Аверроэса, и появлением философии Ишрак в Персии. Оба эти направления активно развивались, скрещиваясь и расходясь, в течение многих веков, никогда не прерывались, процветали в Иране, Индии, на Ближнем Востоке и в других областях исламского мира и продолжают жить вплоть до сегодняшнего дня. Таким образом, исламская платоническая традиция духовного знания никогда не прекращалась, и напротив, становилась все более и более развитой и глубокой, активно влияя на всю исламскую культуру — в первую очередь, поэзию, искусство, этику, эстетику и т. д.
Корбен задается вопросом: почему это столь наглядное явление было предано забвению? Ответ он видит в настойчивом игнорировании всех персидских влияний, привычку рассматривать Иран в эпоху, последовавшую за арабскими завоеваниями, как периферийную малозначительную провинцию, полностью, духовно и политически, порабощенную завоевателями. Шиизм в силу его миноритарности толковался как секта, а исмаилизм меньшинства среди меньшинства, вообще выпадал из поля зрения. Суфизм же признавался иррациональной, мистической, а подчас и мистификаторской практикой, не заслуживающей серьезного философского внимания.
Поэтому сокровища иранской и суфийской философии оказались за пределами внимания как европейских исследователей, так и самих мусульман. Арабоцентризм стал само собой разумеющейся установкой в этих вопросах, и не находя в каламе и фикхе вдохновляющих и оригинальных философских мотивов, западные философы и историки останавливались на ложном выводе, что после XII века в исламской философии не происходило ничего интересного, а уникальная исламская, и особенно иранская, поэзия представляют собой совершенно отдельный феномен, не связанный с интеллектуализмом или какой-то конкретной философской или мистической школой.
Корбен своими трудами восполнил лакуну и убедительно продемонстрировал несостоятельность широко распространенных клише. Так перед современными философами открылась слабо изученная и бывшая доселе маргинальной зона исламского платонизма. Но чтобы приблизиться к ней, необходимо было сосредоточить внимание на Иране и его духовной культуре, на шиитской традиции и философских течениях суфизма (ат-тасаввуфа).
Харран и Джабир ибн Хайян аль-Харрани
Другим важнейшим моментом, позволяющим проследить генезис исламского платонизма, являются события в Византии VI века эпохи правления императора Юстиниана. При этом императоре происходит два символических события: окончательное анафематствование христианского платоника Оригена и закрытие Афинской Академии неоплатоников. Последний схоларх Академии Дамаский, чья философская система может рассматриваться как вершина всей неоплатонической философии, со своими учениками и последователями изгоняется из Византии и отправляется в Иран, к персидскому падишаху. В конце концов неоплатоники обосновываются в Харране, пограничной провинции Византийской империи. Харран был древнейшим культовым центром Ассирии, где располагался храм бога Луны Сина. Здесь же был религиозный центр сабиев, исповедовавших астрологические культы. С этого времени Харран становится новым центром неоплатонизма. А после арабских завоеваний отсюда, равно как и из Александрии, в исламский мир хлынул поток переводов Платона и Аристотеля. При этом важно заметить, что это были Платон и Аристотель в весьма своеобразном неоплатоническом толковании, вплоть до того, что многие «аристотелевские трактаты», получившие распространение по всему исламскому миру и дошедшие до Средневековой Европы, на самом деле были трудами платоников (в частности Порфирия).
С Харраном некоторые исторические традиции связывают фигуру чрезвычайно интересного исламского герметика и алхимика Джабира Ибн Хайяна (721–815), иногда называемого ал-Харрани. «Книгу Славного» Джабира Ибн Хайяна А. Корбен перевел с развернутыми комментариями[90]. Джабир Ибн Хайян как автор и философ является уникальным сочетанием целого ряда тенденций, центральных для исламского платонизма:
• по некоторым данным, он был этническим персом;
• являлся при этом учеником шестого шиитского имама Джафара ас-Садыка, которому принадлежат многочисленные эзотерические теории и визионерские изречения (причем Джабир Ибн Хайян демонстрирует в своих текстах близость к наиболее радикальным — исмаилитским — течениям в шиизме);
• изучал и комментировал труды Платона (Джабир Ибн Хайян посвятил Платону отдельные книги: «Книгу исправлений Платона», в которой Платон выступает в роли мистагога, посвящающего своего ученика Тимея в эзотерические тайны, и «Книгу Милосердия», — обе они в духовной и интеллектуальной среде Харрана считались трудами «самого Платона»);
• развивал герметические и алхимические теории и стал знаменитым в Средневековой Европе под латинизированным именем «Гебер».
С другой стороны, в Харране вплоть до монгольских завоеваний сохранялись представители древних сабийских культов, связанных с халдейской астрологией.
Таким образом, мы видим в этом городе соединение сразу нескольких важнейших моментов:
• место ссылки последних неоплатоников;
• наличие древних сабиев, сохраняющих халдейские астрологические и герметические знания;
• присутствие персидских философов-гностиков;
• близость к духовным центрам шиитских имамов.
Аль-фаласифа (аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина)
В своей основательной книге «История исламской философии»[91] А. Корбен так определяет то направление в исламской мысли, которое принято называть «фаласифа», т. е. прямых продолжателей греческой философии:
«Что касается фаласифа, то они перенесли на арабскую почву и переработали произведения Аристотеля и его комментаторов, тексты Платона и Галлиена. Одновременно, приписывая Аристотелю такие произведения как «Теология» и «Книга о чистом благе», эти мыслители оказались под влиянием неоплатонизма. Термин «машшаун» (буквальный эквивалент слова «перипатетики») в арабском языке вплоть до настоящего времени употребляется как антоним термину «ишракийун» («платоники»), однако и те и другие являются фактически неоплатониками исламского мира». Это сразу вводит нас в принципиальную топику данного направления, показывая относительность и натянутость привычного противопоставления платоников и аристотелианцев в исламской мысли: и те и другие основываются преимущественно, если не исключительно, на неоплатонических текстах и комментариях, и мы знаем, что неоплатоники интегрировали в свои системы Аристотеля, придав его идеям платоническое толкование и отведя им место имманентно-эмпирических методик в трансценденталистско-ноэтическом и более общем синтезе высокого платонизма. Многие труды Аристотеля, ставшие знаменитыми в исламском мире и в Средневековой Европе, были на самом деле текстами неоплатоника Порфирия и других философов этого направления. Это чрезвычайно важно, т. к. делает понимание платонизма в исламе намного более широким, нежели это принято обычно считать.
В этой связи Аверроэс является довольно изолированным случаем. Корбен так комментирует его.
«Конечно, в Андалузии имела место «перипатетическая» реакция под руководством Аверроэса. Она была направлена одновременно против авиценновского неоплатонизма и богословской критики Газали. Но и она не была чистой перипатетикой. К тому же аверроизм укоренился только на Западе, в то время как на Востоке, а именно в Иране, неоплатонический настрой остался преобладающим»[92].
Первый представитель арабской «фаласифа» аль-Кинди обращается к метафизике неоплатонического типа там, где он рассматривает «пророческие» аспекты Корана, не объяснимые в рамках классического рационалистического богословия калама. Корбен пишет: «В некоторых аспектах философские теории Кинди восходят к Иоанну Филопону, в некоторых — к афинским неоплатоникам. Различие, проводимое Кинди между первичными и вторичными субстанциями, его вера в действенность астрологии, интерес к оккультным наукам, дифференциация, проводимая им между рациональной философской истиной и истиной откровения, которую он трактовал на манер иератического искусства (ars hieratica) последних неоплатоников сближают «философа арабов» с Проклом, а также имеют немало общего с учением сабеев Харрана».
Еще более откровенным неоплатоником является аль-Фараби, крупнейший исламский философ. «Философ-музыкант искал консонанс и в философии, стремясь достичь согласия между учениями Платона и Аристотеля, между философией и пророческой религией. Magister Secundus был убежден в том, что первыми обладателями мудрости были халдеи Месопотамии, от них знание перешло в Египет, затем в Грецию, где оно было зафиксировано письменно, и на его долю выпало вернуть это знание в страну, где оно зародилось»[93]. Эти свойства вновь полностью повторяют структуру философской систематики греческих неоплатоников позднего периода.
Аль-Фараби развивает теорию эманаций, описывающую происхождение 10 интеллектов (аль-акль), точно повторяющую космогонию Прокла. Каждый интеллект развертывает вокруг себя душу (представленную духовными существами) и небо (то есть телесное оформление, представленное на высших уровнях небесными сферами). Эти 10 уровней эманации соответствуют структуре халдейской астрологии, принятой неоплатониками. Первый уровень — небо без звезд или божественный престол. Второй — сфера зодиака. Дальше идут семь планетарных небес (от Сатурна до Луны). И наконец, 10-й интеллект («активный интеллект», «акль фааль» или «податель форм», «вахиб аль-сувар») располагается в подлунном мире и находится ближе всего к человеку.
Антропология аль-Фараби также чисто неоплатоническая. Через восхождения по уровням интеллекта от практического к теоретическому человек может научиться постигать формы, излучаемые активным интеллектом и совершать духовное восхождение дальше, вплоть до высших миров. На этой ноологической антропологии основывается и учение аль-Фараби об «идеальном граде», являющееся прямым аналогом Платонополиса, «Политейи» Платона. В центре «идеального града» стоит пророк-философ — тот, кто соединяет свое мышление с активным интеллектом и возводит остальных граждан Политейи к небесным сферам.
Венчает это направление в исламской мысли философия Ибн Сины (Авиценны), последователя аль-Фараби, глубинно изучавшего Аристотеля через неоплатоническую оптику 10-и интеллектов. Ибн Сина отождествляет 10 интеллектов с Ангелами-Посвятителями и особое внимание сосредоточивает на десятом интеллекте, десятом Ангеле, Ангеле человечества.
Этот Ангел активного Интеллекта располагается в особом мире, мире воображения, «алам аль-митхаль». Он не является ни богом, ни свойством человека, ни принадлежит «средней природе». Этот Ангел рассеивает свой свет по человеческим душам, призванным двигаться в обратном направлении в поисках своей причины, своего Логоса, вызвавшего их к жизни. Максимально полное сближение с десятым интеллектом дается только святым и пророкам, которые, восходя к вершинам человеческой природы, начинают выражать сквозь себя фигуру самого Ангела. Достигая пика своего бытия в союзе с Ангелом-Посвятителем, человек оказывается внутри духовной плеромы, восходящей по вертикали к все более и более высоким, сверхчеловеческим уровням Логоса.
У Ибн Сины, таким образом, мы снова имеем дело с чистым неоплатонизмом.
Творящий имажиналь Ибн Араби
Ибн Рушд (Аверроэс), считающийся последним представителем исламской «фаласифа», подверг критике именно эту неоплатоническую градуальную модель нооцентрической космологии, предполагающей систему промежуточных инстанций, выраженных в серии Интеллектов (у аль-Фараби) или Ангелов-Посвятителей (у Авиценны). Однако младшим современником Аверроэса был уроженец Андалузии Ибн Араби, подготовивший новый взлет исламского неоплатонизма, на сей раз в форме философии суфизма.
Ибн Араби А. Корбен посвятил книгу, считающуюся многими венцом его творчества — «Творящее воображение в суфизме Ибн Араби»[94].
Уникальность метафизической философии Ибн Араби состоит в ее динамической и диалектической структуре, в основных чертах повторяющей апофатическую модель «Платоновской теологии» Прокла. Неоплатоники начинали свои системы с «Парменида» и его парадоксального описания единого как предшествующего бытию. И лишь затем шло бытие, которое было уже не просто единым, но единым-многим. Тем самым подчеркивался предбытийный апофатический характер единого, ἔν. Такую же открытую метафизику (теософию) мы встречаем у Ибн Араби, который трактует Бога в его изначальном состоянии как «печаль» (ilâh = wilâh). «Печаль» Бога есть синоним его бездонной предбытийности, в которой нет никого, кто мог бы свидетельствовать о наличии Бога.
Вместе с тем Al-Lâh — это имя, данное Началу, самому близкому Архангелу, Prôtoktistos. Это Начало есть не первое, но второе. Поэтому его печаль и ностальгия могут быть интерпретированы как тоска по неведомому Богу. В теологии Ибн Араби, подчеркивает Корбен, как и у Василида, «над бытием, которое есть, стоит Бог, который не есть»[95]. Корбен называет это «патетическим Богом», Богом, страдающим, погруженным в печаль. Термин «πάθος», «страдание», «страсть» точно соответствует этой идее. Отсюда симпатия, συμπάθεια, дословно, «со-страдание». Страдание Бога и страдание по Богу составляют основу суфийского гнозиса Ибн Араби, его главную тайну.
Ибн Араби развивает теорию «божественных имен». Они существуют до творения мира, до бытия, и поэтому тоже страдают, поскольку нет никого, кто мог бы провозгласить их и воздать им хвалу.
В этом пространстве напряженной метафизической ностальгии развертывается особый «симпатический» Логос. Он проявляет себя через серию «эпифаний».
Начало серии этих эпифаний лежит в примордиальном «Вздохе Сострадания» (Nafas Rahmânî). Этот «Вздох Сострадания» есть ответ Бога на страдание Его имен, т. е. со-страдание, сим-патия. В силу этого вздоха имена получают бытие, становятся существующими, действительными.
Имена образуют Облако (‘amâ), которое изначально является темным и непроявленным, грозовым. В этом Облаке содержится примордиальное божественное бытие. Это Облако двойственно: оно активно и пассивно, оно воспринимает и дает форму, в нем происходит изначальная дифференциация мира. Это облако есть также абсолютное воображение (khayâl moplaq). «Вздох» есть молния, сверкнувшая в этом Облаке, осветившая его изнутри, разверзшая его густой мрак. Имена Божии (Облако) были печальны. Молния ответила на эту печаль. Так мир из возможного перешел к действительному.
Так в основе бытия Ибн Араби утверждает мистерию страдания/со-страдания, пафоса/сим-патии. Это и есть мистерия примордиальной Любви. Она создает «нематериальную материю», активную и пассивную одновременно, творящую и освобождающую, с одной стороны, и пассивную и воспринимающую, с другой. Мир Ибн Араби создан из Любви, и поэтому отношения гностика с Богом строятся не по принципу господства, подчинения и мольбы, но по принципу духовной близости, дружбы и единства в обоюдном пафосе, направленном от Бога к человеку и через человека к Богу. Поклоняющийся и Тот, Кому поклоняются, становятся едины.
Так выстраивается структура «со-страдательного Логоса». Ни в одной точке мира нет явлений или вещей, тел или состояний, предметов или событий, которые имели бы своей причиной другие явления, вещи, тела, предметы и события, как если бы они развертывались автономно в силу самостоятельной логики и физики. Напротив, истинные причины суть лучи сострадания, идущие напрямую от высшей точки «Божественного вздоха», через оживленные и оживляющие имена Бога к их конкретным воплощениям.
Эта Вселенная Любви лежит в основе мистико-любовной лирики Ибн Араби и находит свою кульминацию в образе Софии (Hikmat), описанном Ибн Араби в поэтическом диване «Переводчик жгучих желаний». Ибн Араби называет ее Nezâm (Harmonia) и «Зрак солнца и красоты» (cayn al-Shams wa’l-Bahâ’). Образ прекрасной Девы является персонификацией самой структуры мира, созданного на основе πάθεια, «теологии патетического Бога» или «теопатии». Это есть фигура того, что находится между предбытийным Богом, страдающим оттого, что некому Его восславить, и страдающим по своему Богу, который находится за пределами бытия, и человеком, не устающим Его славить. Это «между» оказывается единственной данностью; с обоих концов от нее мы имеем не строгие сущности, эссенции, но лишь условно намеченные полюса Любви, которая вначале есть Любовь, а потом только любовь между одним и Другим. При этом ни одного, ни Другого, строго говоря, нет; один — слишком ничтожен, чтобы быть, Другой — слишком велик, чтобы быть. А есть только София, Любовь, то, что находится между.
Это промежуточное пространство Ибн Араби называет «воображением» или «активным воображением», quwwat al-khayal. Для передачи смысла этого понятия Корбен использует термин «имажиналь», imaginal. Имажиналь отличается от того, что является плодом воображения тем, что не следует за сознанием в его инерциальной воображающей деятельности, конструирующей или воспроизводящей реальность в отсутствии стимулов внешнего мира (галлюцинация), но предшествует самому сознанию, воображает его, конституируя сознание через проекцию в него форм того, что есть в структуре божественных имен. Имажиналь делает божественные имена экзистирующими в опыте сознания. Поэтому он есть поле Любви и Мудрости, Софии.
Вся Вселенная, понятая таким образом, есть не совокупность субстанций, обладающих относительной автономией (как у атомистов, рационалистов или перипатетиков аверроэистского толка), и даже не два этажа (идеи и феномены) классического платонизма, объединенные эйдетическими рядами, но развернутое поле воображения, пульсирующий Имажиналь, пространство Любви, растянутое между двумя безднами — бездной Бога, уходящего за непроницаемую завесу предсуществования, и бездной человека, подвешенного в своей небытийной ностальгии по Другому, нежели он сам. Знание здесь есть Любовь в ее активной, деятельной, но одновременно страдательной, страстной форме.
В такой картине нет строго фиксированной пары Творец-тварь, но есть постоянно открытый процесс Творения, где фигуры Творца и твари находятся в динамической связи, в общем процессе сим-патии, разящей как молния или луч света любую вещь и любое явление, раскалывая их призрачное самотождество (эссенцию), открывая их стихии сострадания, любовного Логоса.
Отсюда вытекает теория «перманентного Творения» (tajdîd al-Khalq), которое постоянно воссоздается снова и снова. Зазор между мгновениями неуловим для сознания. А в следующий момент сознание уже погружено в новый, только что сотворенный мир. Этот новый мир похож на предыдущий, но не является тем же самым. В нем воссоздается только то, что необходимо логике великой Любви. «Перманентное Творение» отрицает эссенцию во всех ее формах. У мира нет автономной причинной структуры, события и явления сопряжены между собой не причинно-следственной связью, но вертикальной волей Первоначала, развертывающей звенья мира всякий раз сверху вниз, как приказание. «Сказал, и стало» (Kun-va-yakun — Коран 3:52). Поэтому вся физика, вся ткань природы организуется не в соответствии с имманентными закономерностями, присущими тому или иному плану бытия, но по линиям эйдетических цепочек, развертывающихся от Бога «вниз» и «вовне». «Перманентное Творение» есть воспроизводящийся акт Божественного милосердия.
«С каждым вздохом Божественного сострадания (Nafas al-Rahmân) бытие прекращает быть, затем снова есть; мы прекращаем быть, потом мы есть снова. Но в действительности, здесь нет никакого «потом», т. к. нет интервала. Мгновение уничтожения есть одновременно мгновение новой экзистенциации»[96], — описывает А. Корбен эту теорию. Вещи мира возможны, но не необходимы. Необходимость исходит из «вздоха Божества», который делает Божественные имена экзистирующими через активацию возможностей. Сами вещи в своей субстанциальности совершенно дисконтинуальны. Континуальны лишь Божественные имена. Поэтому между феноменами самими по себе нет никакой причинной связи.
В этой оптике Ибн Араби толкует два важнейших суфийских принципа — fana’ (погашение, уничтожение) и baqa’ (сохранение, наличие). Fana’ — не просто исчезновение в Боге, но снятие мира, которое происходит каждое мгновение, поскольку мир в своей субстанции есть лишь возможное; это снятие демонстрирует, что мир не необходим. Baqa’ есть постоянное наличие Божественных имен, пробужденных к экзистенции «Вздохом». В силу этого принципа творение повторяется вновь и вновь, отражая на горизонтальном уровне рекурсивности вечную вертикаль. Поэтому эти два термина не исключают друг друга, но сосуществуют: суфий стирает себя как возможное, но необходимое наличие (мгновение индивидуации), fana’, ускользая от мира в зазор между «атомами» времени, между двумя моментами «настоящего», чтобы стать постоянством высшей необходимости, выйти из горизонтального (циклического, прерывного) времени в вертикальное.
Важную роль в учении Ибн Араби играет разделение между двумя типами религии и даже между двумя пониманиями Бога. Согласно ему, есть «Бог, созданный верованиями людей» (al-Haqq al-makhluq fi’l-i’tiqadat). Это экзотерический Бог. К нему верующие обращаются с молитвами, как к внешнему Господину, с просьбами и мольбами изменить что-то в их судьбе или, наоборот, сохранить все как есть, если это их устраивает. Это область внешнего (zahir), поле экзотеризма, где Бог и человек представляют собой два бытия — несопоставимое превосходящее бытие Господа (эссенция) и несопоставимо уступающее Ему бытие человека (вторая эссенция). Согласно Ибн Араби, такой Бог вполне существует и должен быть признан, равно как должны соблюдаться все установленные внешней религией правила, обряды и нормы.
Однако есть иное понимание Бога и другой аспект религии — область внутреннего (batin). Здесь вместо пары верующий и «Бог, созданный верованиями людей», наличествуют пара «гностик» (arif) и его Друг, неразрывно связанные силами Любви и не обладающие в силу этого фиксированным бытием. Все бытие сосредоточено в поле Любви, в самом имажинале, в промежуточной зоне «творящего воображения».
В философской традиции принято называть философию Ибн Араби «вахдат уль-вуджут», «единство сущего» и истолковывать как разновидность пантеизма. Относительно самого термина ясность вносят недавние публикации специалиста по исламской традиции и суфизму У. Читтика[97], который указывает на то, что сам Ибн Араби не использовал выражения «вахдат уль-вуджут», которое было введено позднее его последователями, а популяризировано противниками суфизма и лично Ибн Араби из числа радикальных антиплатоников и антиэзотериков, в первую очередь, Ибн Теймия и салафитской традицией в целом. Более того, Читтик указывает, что термин «вуджут», «сущее» ранее употреблялся в исконном арабском смысле как «найденное», и лишь после Ибн Араби за ним твердо закрепилась семантика, передающая смысл философского греческого понятия «сущее», ὄν. Это на самом деле более точно, т. к. вся философия Ибн Араби строится как раз на апофатическом отрицании бытия, на выходе за его пределы, на подчеркивании активного, динамического, диалектического начала в мире.
Что же касается пантеизма, то этот термин вообще не применим к системе Ибн Араби, т. к. он никогда не отождествляет природу с Богом, напротив, всячески подчеркивает трансцендентность Бога и даже стремится максимально очистить его от всех атрибутов, включая атрибут бытия. Близость, постулируемая Ибн Араби и суфизмом в целом, между человеком и Богом не имеет ничего общего с утверждением их субстанционального единства, эта близость является «патетической», основанной на «общности пафоса», страдания/со-страдания, симпатии и теопатии.
Шиизм и имамология
Шиизм Корбен рассматривает как традицию, относящуюся в целом к сфере «внутреннего знания» (эзотеризма). Заметим, что его весьма удивляло, что Рене Генон и его последователи традиционалисты так мало внимания уделяли шиизму и его метафизике. Согласно Корбену, шиизм не просто пятый мазхаб в исламской традиции, но по своей структуре близок к суфизму и разделяет с ним много общих черт.
В определенном смысле можно сказать, что шиитская ветвь ислама может быть обобщенно квалифицирована в целом как неоплатоническое течение. Особенно это проявлено в доктринах исмаилитов, шиитов, признающих аутентичными только семь имамов[98] (в то время как большинство шиитов признает двенадцать[99]). Но и шииты-двенадцатеричники также относятся к области «внутреннего» (batin).
Шиитская доктрина четко описывает дуализм функций, лежащих в основе религии (ислама). Она разграничивает фигуру Nabi, пророка и фигуру Walī, толкователя, помощника, охранника. Согласно шиизму, пророк провозглашает духовную истину через прямое общение с Богом, а толкователь поясняет смыслы и значения пророчеств. Через толкователя верующие узнают истинное содержание пророчества и способны взойти к высшим уровням его понимания, т. е. к самому истоку, которым это пророчество вдохновлено. Так рождается чуждая суннизму идея посредничества между Богом и общиной верующих, которая разделяется на две составляющие — сферу пророчества и сферу толкования. Само обращение к толкованию и возведение его в ранг важнейшего сакрального института точно соответствует в христианстве аллегорической традиции Александрийских неоплатоников и оригенистов, настаивавших на том, что все сюжеты Священного Писания должны толковаться на разных иерархических уровнях — от начального, буквального до высшего, символического.
Шииты утверждают, что в соответствии с исламской верой последним пророком был Мухаммад, а толкователем его пророчества имам Али, его двоюродный брат, женатый на его дочери, Зухре-Фатиме. Али был имамом в шиитском смысле, т. е. выполнял функцию Walī, и являлся основателем имамата как сакрального института. Али в отношении Мухаммада занимает подчиненное положение: толкователь толковать может только то, что провозгласил пророк, поэтому он и описывается как «сподвижник пророка», его «последователь». Но без толкователя произнесенное пророком утратит смысл, и по-этому пророк, в свою очередь, зависит от толкователя. В разных направлениях шиизма эта двойственная зависимость осмысливается по-разному, и важно, что в определенных школах толкователь вообще ставится над пророком как носитель тайного, внутреннего знания, возводящего шиитских гностиков к тем высшим сферам, откуда сам пророк и получает свое откровение. Это не значит, что толкователь, в свою очередь, становится пророком или заменяет его, но он образует с пророком неразрывную пару, где сам олицетворяет внутреннее, тогда как пророк — внешнее. Первое важнее для гностика, второе — для обычных верующих. Для шиитов в целом важны обе стороны, тогда как для радикальных шиитов (особенно исмаилитов) преобладает внутреннее.
За имамом Али следуют еще имамы, его прямые потомки, пока эта цепочка не пресекается на последнем имаме, «имаме времени». С ним связана вся шиитская эсхатология. Пока святые имамы были вместе с общиной верующих, толкование было доступно всем. Изречения святых имамов и повествования об их деяниях составляют корпус шиитского учения. Это зафиксированное толкование. Но вопросы, связанные с верой, бесконечны, и на все ответить невозможно. Поэтому исчезновение имама (сокрытие, ghaybat) является катастрофой для религиозного сообщества. Обрывается возможность истинного толкования вопросов религии, это погружает мусульман в сложную ситуацию. Сокрытие возможности духовной экзегетики означает прерыв, «темные времена». Отныне шииты живут только ожиданием «по-следних времен», когда «скрытый имам» снова явит себя миру и просветит общину верующих истинным толкованием тайн религии. Это Корбен называет «парусией имама» (παρουσία) [100].
Шиитский космос является имамоцентричным. Имам находится в центре человечества, он есть его ось, его вечное и неизменное ядро. В этом смысле фигура имама сближается с десятым интеллектом аль-Фараби и Ангелом человечества Авиценны. Это «световой человек», «совершенный человек», дух, воплощающий саму духовную природу человечества, человек как эйдос, вид. Имам находится на вертикали божественного Логоса (al-aql) и является сосудом для сакральных знаний обо всей иерархии высших миров, уходящей в бездну Божества. Он есть живое сердце общины верующих, пик их духовной человечности. Все идет от имама, к имаму и через имама.
Когда имамат наличествует, то мы имеем дело с «прямой Вселенной», организованной наподобие «добродетельного града» аль-Фараби, Платонополиса, нооцентрического космоса неоплатоников. Благодаря имаму осуществляется связь между миром идей и миром явлений. Будучи толкователем священных смыслов, имам возводит вещи к их истокам, повторяя в сотериологическом направлении операцию пророка, низводящего божественные глаголы в земной мир. Но когда имам скрывается («великая гайба»), прямые пропорции между парадигмами и их копиями переворачиваются. Между верхним и нижним мирами возникает преграда. Их прямая связь рвется. Это трагический момент в священной истории, поэтому вся история имамата окрашена трагедией — все имамы, начиная с Али и его сыновей Хасана и Хусейна, умерли насильственной смертью (кроме последнего имама, который не умер, согласно шиитам, но скрылся и должен вернуться в конце времен). Обрыв связи искажает всю структуру нижнего мира, который становится не отражением верхнего, но его обратной пародией, его карикатурой. Низшее ополчается на высшее. Ад восстает на Небеса. В человечестве вместо порядка и блага начинают царить жестокость, узурпация, насилие и ложь. Это в первую очередь затрагивает область религии. Само разделение мусульман на суннитов и шиитов (shi’a, дословно означает «партия», «партия Али») уже есть катастрофа, а доминация суннитов над шиитами, в глазах самих шиитов, только подтверждает катастрофический характер «великой гайбы» — так и должно быть в «последние времена». Истинное толкование веры утеряно, мудрецы и правоведы отныне опираются не на духовное и прямое знание имама, а на чисто человеческие рациональные гипотезы.
Упадок толкования и поражение шиитов, оказавшихся меньшинством среди мусульман, есть трагедия одновременно религиозная, социальная, политическая и космическая. В религии искажено понимание высказываний пророка Мухаммада и «Корана» и преобладают спорные экзегетические формулы. В политике власть в умме, которая в нормальном случае должна принадлежать святым имамам, у Али и Алидов отнята, а значит, политическая легитимность в исламском обществе также утрачена и длится цикл серии узурпаций. В обществе торжествует эгоизм, упадок нравов, угнетение и несправедливость. И даже функционирование космоса отклоняется от стройности и упорядоченности, все более частыми становятся катаклизмы и природные бедствия. Более того, космос утрачивает свое духовное измерение, свою символическую природу, становится материальным, непроницаемым и плотным.
При наступлении «великой гайбы» шииты переходят от прозрачного космоса неоплатоников, исповедующих недуальный платонизм, к миру, чрезвычайно похожему на картины гностиков, т. е. сторонников платонизма дуального. И, подобно Василиду и его последователям, видящим спасение только в нисхождении Евангелиона и Христа, шииты ждут появления «скрытого имама», который восстановит порядок на всех уровнях — религиозном, политическом, социальном и космическом.
Все это показывает наглядно, что мы находимся внутри платонической картины мира, сочетающей в себе ее разные фазы — нормативно недуальную и актуально дуальную, призванную разрешиться в снова недуальной (возвращение имама времени).
Шиизм, таким образом, имеет фундаментально обоснованную эсхатологию, когда приход Махди принесет с собой восстановление прямых пропорций между миром и его небесным архетипом. Это коснется религии (возврат к подлинному толкованию и отбрасывание напластований лжи), социальной сферы (утверждение справедливого социального устройства), политики (приход к власти над уммой и миром законных правителей — Алидов) и самой природы (эра чудес и духовного преображения мира). Шиитская эсхатология, таким образом, ориентирована на построение Платонополиса, той Политейи, которую в ее принципиальных чертах описал Платон. У мира, общества, религии и космоса снова появится ось, связь между низшим миром и миром небесных смыслов будет восстановлена. Поэтому все историче-ское, религиозное и даже природное бытие благочестивого шиита вписано в «культуру ожидания», farhang-e intizor (по выражению современного иран-ского аятоллы Хамадани). Иранская революция 1979 года и современные политико-социальные течения в шиитском мире (ливанская Хезболла, сирий-ские алавиты и иракские махдисты) толкуют события мировой политики через призму этой платонической и гностической «культуры ожидания».
Ишрак: школа «рассветного познания»
Основателя философии Ишрака Шихабоддина Яхья Сохраварди называли «персидским Платоном», а сам Ишрак — исламским платонизмом. Для Корбена именно Сохраварди стал той символической фигурой, которая окончательно предопределила его жизненный путь как исследователя и философского толкователя исламской (и особенно иранской) эзотерической культуры.
Сохраварди ставил своей целью сформулировать систему, которая объединяла бы в себе различные аспекты исламского платонизма — от аль-фаласифа до шиитской иммамологии и суфизма. Кроме того, в свой синтез Сохраварди включал переработанные мотивы древнеперсидской религиозной традиции и элементы мистических теорий, почерпнутых в эзотерических течениях христианства и иудаизма. В Ишраке исламский платонизм достигает своей кульминации, соединяя все основные силовые линии этой философии.
Корбен, как и в случае с Ибн Араби, основной акцент при рассмотрении теорий Ишрака ставит на имажиналь, промежуточный мир (malakut, alam al-mithal), расположенный между миром плотных эмпирических форм и явлений (molk) и миром божественных идей или сил (jabarut). Имажиналь является совершенной реальностью, которая постигается в особом экстатическом опыте через серию инициаций. Сохраварди описывает «средний мир» в терминах особой философской географии, где фигурируют Восток бытия и Запад бытия, т. е. онтологические координаты.
Запад бытия есть периферия творения, материальный мир, область плотных тел. Это низшая граница Вселенной, куда сосланы души людей. Это миры изгнания. Душа находится заброшенной в колодцы западного изгнания и пребывает в духовной тьме и рабстве непросвещенного рассудка. Эта заброшенность вполне может быть сопоставлена с экзистенциалом Geworfenheit у Хайдеггера, а также этимологически (в духе повышенного внимания к смыслам корней слов) с латинским «субъектом» (означающем «брошенное под, вниз»). Пробуждение человека всегда фиксировано в пространстве философской географии: оно происходит обязательно на Западе, т. к. Запад есть граница удаления души от собственной сущности. И именно на этой границе вспыхивает воспоминание. Это воспоминание имеет чисто платонический характер, а поводом к нему выступает появление вестника, которое на сей раз соответствует профетическим религиям — это визит Ангела, Хизра[101] или какого-то священного животного (совы, ласточки и т. д.). Момент вспышки воспоминания души о своей инаковости, есть вместе с тем момент фиксации ее ситуации в мире и актуализация Запада. То место, где душа себя вспоминает, есть всегда Запад, изгнание, мрак. Запад не есть Запад сам по себе. Западом его делает боль пробуждающейся души.
Сохраварди в «Повести о западном изгнании»[102] описывает пребывание в колодцах этого изгнания таким образом: днем узник помещен в камеру, на дно, и не способен увидеть ничего, кроме грубых стен, а ночью он испытывает некоторое послабление, может подниматься на башню и смотреть вдаль, в сторону, противоположную Западу — в направлении страны Востока. Показательно, что день и ночь меняются местами: день как режим телесного бодрствования соотносится с полным невежеством, а ночь, когда душа погружается в сон, напротив, позволяет ей приблизиться, пусть отдаленно, к горизонту истинного познания. Бодрствование есть сон, сон — возможность истинного пробуждения. В «Коране» говорится: «Человек спит, когда он умирает, он просыпается». Умирая для мира плотных тел, человек просыпается для жизни души. Это весьма схоже с призывом Плотина «закрыть глаза» (на внешний мир), чтобы узнать о нем хоть что-то достоверное. Эта метафора отождествления дня с ночью (души), а ночи с днем (души) является излюбленным мотивом суфиев, использующих часто формулу «черный полдень».
Для Сохраварди эта двуликость души принципиальна: если она смотрит на мир тел, воспринимает себя как индивидуальную субстанцию и опирается на исчисляющий рассудок (эстиматив), то она живет в отчужденном режиме рабства и невежества; если она засыпает для материальности, обращается внутрь себя, она начинает улавливать далекие лучи, зовущие ее на истинную Родину, напитывающие ее ностальгией по свободе и мудрости. С этого момента начинается инициатический путь на философский Восток, путь «восточного познания». Восток, страна Востока — это Ишрак, т. е. суть и имя философии Сохраварди.
Путешествие на Восток ведет посвящаемого дорогами души к центральному месту мира воображения, имажиналя, называемого также «страной тысячи городов». В центре этой страны, в ее столице (Хуркалья) пребывает Пурпурный Архангел, «световой человек», десятый интеллект. Он есть точка Востока, которая находится в противоположной стороне от полюса материи, грубой телесности, атомарной расчлененности, индивидуализма и несвободы. Эта точка также конструируется опытом — опытом прямого столкновения души с ее собственной духовной причиной. Здесь душа обретает крылья и начинает вертикальный путь восхождения по звеньям вертикальных иерархий. Встреча с Пурпурным Архангелом есть событие, которое актуализирует второй, восточный, полюс философской географии, делая Восток бытия реальным и эмпирически достоверным. И Запад, и Восток суть режимы души и «делаются» ею, ее внутренней ориентацией.
Средний мир (malakut) принципиален для всех тех, кто следует по пути Ишрака. Его нельзя миновать, и в этом заключается основная коллизия с экзотерическими богословами и правоведами. Для экзотерического богословия (крайней разновидностью которой является салафизм) и для антиплатониче-ской философии принципиальным является пункт о том, что между эмпирическим индивидуумом (человеком) и Богом (первоначалом) нет никакой опосредующей инстанции, между ними существует непреодолимый разрыв (как между горшечником и созданным им горшком). Эта разность природ и онтологиче-ская полярность закрепляет субстанциальность мира и эссенциальность Бога, закрывая возможности онтологических трансформаций или онтологических путешествий. Рационалистическая теология направлена не против Бога, но против Ангела, против Пурпурного Архангела, против Герменевта-Толкователя, против Кутба-Полюса, и соответственно, против мира воображения, против имажиналя, где происходит главная метаморфоза — пресуществление воды в вино, тела в дух, пресмыкающегося в пернатое. Но чтобы мир имажиналя был, он должен быть как-то иначе, нежели мир тел и мир Божества. Бытие Ангела несет в себе действительную угрозу фиксированному порядку обычной теологии, который закреплен между двумя полюсами религиозного Логоса — сверху Богом, снизу — миром. Обе эти инстанции фиксированы друг другом, коагулированы взаимным отсылом (Бог не есть мир, мир не есть Бог), установлены разрывом. Бытие обоих полюсов гарантируется как раз фактом этого разрыва, т. е. несуществованием «между», имажиналя. Но если имажиналь существует, то все приходит в движение. Упорядоченность телесной природы и эмпирического человека становится текучей, смещается, распыляется, обволакивается внутренним туманом. Это больше теперь напоминает хаос, а не порядок. Но — и это симметрично! — нечто подобное происходит и с Богом, и Он перестает быть неизменным и неподвижным, вовлекается в процесс внутрибожественной динамики, становится Богом живым. Живой Бог, живущий в ожившем мире, и составляет ткань страны Востока, зоны Ишрака. Если это измерение есть, то классическое богословие и основанные на нем социально-политические и культурные нормативы, подвергаются серьезному испытанию: вера подтверждается опытом, ожидание сталкивается с приходом того, что в нем ожидается. А если опыт окажется каким-то иным? И вера будет не подтверждена, а опровергнута? А если появится кто-то совсем не тот, кого ожидали? Имажиналь несет в себе риск и колоссальный ужас. Этот ужас разрушает дневное сознание, заменяет его новым органом, с помощью которого можно парить, но можно и сорваться в бездну. Путешествующий к онтологическому Востоку в какой-то момент замечает, что теряет почву под ногами. Движение по суше постепенно переходит в плавание, плавание — в полет. Полет ведет к жару солярного света.
Однако именно опыт имажиналя делает религиозные обещания выполнимыми, а чудо — действительностью. Платонический опыт (как прямой в недуальных версиях платонизма, так и исключительный и зарезервированный только для избранных как у гностиков), обязательно сопряжен с утверждением того, что средний мир, мир воображения есть, а, следовательно, присущее ему бытие и превращает платоническую теорию в платонический праксис — через инициацию, визионерский прорыв и духовное перерождение человека.
Сохраварди вслед за Авиценной использует для описания своих теорий как сугубо философские тексты, так и визионерские повести, в которых символические персонажи на основании столь же символических сюжетов сообщают инициатическое знание, превращающееся в инициатический опыт. При этом как поздние греческие неоплатоники (Ямвлих, Плутарх Афинский, Прокл, Дамаский и т. д.) стремились построить на основании Платона универсальную теологию, способную систематизировать самые различные религиозные системы (греческое язычество, халдейскую астрологию, египетский герметизм, ближневосточные культы и т. д.), так, Сохраварди, закладывая основания философии Ишрака, стремится обосновать универсальный инициатический сценарий, обнаруживаемый им в самых разных религиях, духовных и философских течениях — в том числе в христианстве, иудаизме, различных сектах, в суфизме, шиизме, и даже в зороастризме и религии халдеев (сабиев). Разные имена и разные доктрины, разные обряды и разные системы скрывают, согласно Сохраварди, общую философскую географию, которую необходимо познать опытным путем — совершив конкретно и действенно путешествие на Восток, в мир имажиналя.
Синтез, предложенный Сохраварди, по своему размаху может сравниться только с грандиозными конструкциями Прокла и Дамаския. При этом Корбен прочеркивает, что в отличие от западных неоплатоников исламско-иранский вариант неоплатонизма в Ишраке Сохраварди никогда не прерывался и существует вплоть до нашего времени как одна из наиболее важных и значимых линий в исламской философии Ирана и некоторых обществ Ближнего Востока.
После Сохраварди его дело продолжила целая плеяда великих философов — таких как Шамсуддин Шарарузи, Ибн Каммуна, Котбоддин Ширази, Джалладдин Давани, Амоли, Мир Дамад или Мулла Садра Ширази. При этом у многих можно встретить попытку соединить философию Ишрак и философ-ский суфизм Ибн Араби. В частности, Мулла Садра проделывает фундаментальный разбор идей Сохраварди с опорой на идею «перманентного творения» Ибн Араби, создавая уникальную философскую систему (Hikmat al-Muti’aliyyah), в которой за несколько столетий до Хайдеггера провозглашается превосходство экзистенции над эссенцией, отрицается субстанциональность и утверждается конститутивная роль небытия (fana’, погашения) в структуре сущего. Показательно, что свой главный труд Мулла Садра называет «Трансцендентная мудрость в четырех путешествиях интеллекта» (al-Hikma al-muta‘aliya fi-l-asfar al-‘aqliyya al-arba‘a), где он тщательно и детально описывает структуры онтологической географии. Четыре путешествия таковы:
• Первое — это путешествие с земли на небо, от материи к духу. Это вертикальный подъем по степеням десяти интеллектов.
• Второе — путешествие в Боге, инициатическое движение внутри божественных сфер и божественных Имен (горизонтально).
• Третье — это спуск на землю (снова вертикальная топика), но уже с приобретенными божественными знаниями.
• Четвертое — путешествие с теми же знаниями по земле, т. е. горизонтально.
Рузбехан Бакли и доктрина Любви
Великий персидский визионер и гностик Рузбехан Бакли представляет собой образец неоплатоника, который в центре своей доктрины ставит метафизику Любви. Корбен пишет, что личный опыт этого автора «повествует о секрете души, достигшей высшего покоя после столкновения с трудной проблематикой экзотерического понимания единобожия (tawhid), где легко впасть в двоякую ловушку через эксцессы tashbîh[103] или ta’fîl[104], подстерегающую всю исламскую схоластику: риск отождествления Божества с тварями и превращение Божества в чистую абстракцию. Этой ловушки можно избежать только через обращение к эзотерическому единобожию (tawhid). Рузбехан, со своей стороны, преодолевает эту преграду через опыт человеческой любви, прожитой и воспринятой как мистический опыт, доведенный до своих крайних пределов, превосходя границы сферы платонического анамнеза (воспоминания), легко опознаваемого в его трудах. Такое преодоление в своей сущности есть мистическая верификация пророческой религии. Эта верификация сама собой утверждает профетический смысл красоты в соответствии с излюбленным суфиями, практикующими путь школы fideli d’amore, выражением: «Бог красив и Он любит красоту». Красота не просто один божественный атрибут среди других. Она есть главный Атрибут, Атрибут по преимуществу. Вот почему Бог есть исток и последняя реальность самого Эроса, опровергающий любые формы десакрализации Любви: как либертинаж, являющийся ее профанацией, так и расчетливый «ничтожный» аскетизм, являющийся ее отрицанием»[105].
Именно красота и поклонение ей становится главной темой метафизики Рузбехана. Смысл этой метафизики сводится к утверждению недуальной природы Любви, в которой стирается граница между Любящим и Возлюбленным и открывается мистерия их амфиболической идентичности. Они есть разное и в то же время одно и то же. Разное, т. к. этого требует сама логика эротического напряжения, перепад уровней, головокружение онтологиче-ской дистанции, задающее экстатический, страстный травматизм Эроса. Одно и то же, т. к. этого требует великая сила притяжения, закон сим-патии, совместной страсти, со-страдания. Любящий есть Возлюбленный. Возлюбленный есть Любящий. Применительно к отношениям между человеком и Богом это задает предельную напряженность мистического броска — снизу вверх и ответного (или изначального) божественного движения сверху вниз. Любящий и Возлюбленный не существуют по отдельности, они суть Любовь.
Рузбехан дает развернутую версию этой метафизики Любви в теории «Покрывал». В начале его космогонии, там, где у Авиценны находится первый интеллект, а у Ибн Араби «Вздох Сострадания», он полагает Дух. Здесь мы сталкиваемся с первым «Покрывалом». В основе космогонического процесса лежит кораническое высказывание: «Я был тайным сокровищем и пожелал быть узнанным». Бог, пребывая в Себе, является с необходимостью «тайным» и «сокровищем» (то есть чем-то со-крытым), т. к. в Нем нет Другого, а следовательно, нет пространства для «познания», предполагающего наличие дистанции между познающим и познаваемым. Чтобы быть познанным, Богу необходимо создать другого, который мог бы о Нем свидетельствовать, Его познавать и Его видеть. Поэтому первый Дух, сотворенный Богом, по Рузбехану, есть глаз (‘ayn). Первотворение есть теофания, обнаружение Бога другим, нежели Он сам, откровение Его для того, что не есть Он сам. Другой есть shâhid, «свидетель». Далее Рузбехан вводит важнейшее для метафизики Любви и для эзотеризма в целом понятие «Покрывала». Он объясняет сущность «Покрывала» весьма оригинально — через «божественную ревность». Бог, видя, что Его видят, зная, что Его знают, начинает ревновать к тому, кто это делает, т. к. это нарушает Его тайну, бросает тень сомнения на Его единственность. Он хочет быть познанным, но когда Он становится познанным, Он начинает ревновать к этому познанию, почитает это за дерзость, спешит скрыться снова, чтобы утвердить Себя как единого и не допускающего никого другого. И тогда Он набрасывает на себя первое «Покрывало». Это означает, что изначальный глаз, перво-око меняет ракурс своего созерцания и начинает созерцать самого себя, т. е. другое (чем Бог) становится объектом созерцания другого (чем Бог). Вслед за этим акт самораскрытия и последующей за ним ревности повторяется семьдесят раз, что соответствует снисхождению духов все ниже и ниже, к более плотным слоям бытия. И на каждом уровне небеса, стихии и телесные органы создаются как око, созерцающее высшее, а затем обращенное на само себя, т. е. превращающееся в «Покрывало». Это испытание «Покрывалом», которое и создает напряженный драматизм пребывания Духа и его атомов, его рассеянных по миру очей, в заблуждении относительно истинной структуры бытия.
Преодолеть «Покрывало» можно только с помощью Любви. Бог единственен, отсюда и рождается «Покрывало», но вне его нет никого другого («сотоварища»), поэтому в изначальной теофании, открываясь другому, он открывается, в конечном счете, Самому Себе. Но, чтобы «стать познанным», ему нужно утвердить одновременно парадоксальный выход за свои границы с сохранением Себя в своих границах и, наконец, возврат к Себе. Он есть Тот, Кого созерцают, но и тот, кто созерцает. Тот, кто проникает в таинство этого тождества, способен превратить «Покрывало» в «Зеркало», увидеть Бога в его сокрытии, опознать Его наличие в Его отсутствии. Так и поступает Дух в уникальном движении: он отворачивает свой взгляд от самого себя (что было конститутивным жестом «Покрывала») и обращается к Богу, для созерцания и познания которого он и появился. Но чтобы не нарушить божественной единственности, он созерцает не Его самого, а Его «Покрывало», которое становится из преграды проходом, из акта сокрытия актом эпифании, revelatio. Дух, преодолевающий испытание «Покрывалом», и не смотрит прямо на Бога и не замыкается на себе. Он смотрит по касательной, бережно познавая сокрытость Бога как единственную форму Его открытости, это познание по касательной — скользящее, уважительное, галантное, куртуазное познание. Желая Бога всем существом, Дух не дерзает с ним слиться, но и себя полностью забывает в своей Любви. В такой Любви не явлены ни субъект, ни объект, ни сам Дух, ни Бог: напротив, и тот, и другой сокрыты, а явлена только Любовь, Любовь в своей неизъяснимой дуальной недуальности.
Испытание «Покрывалом» повторяется на каждом из семидесяти уровней, вплоть до телесных органов чувств. Эти органы и все высшие инстанции призваны созерцать высшее, но вместе с тем, повернуты от этого созерцания к созерцанию самих себя, т. е. к ложному восприятию. Они суть очи, но не могут взглянуть на высший источник света без того, чтобы ослепнуть. Поэтому им остается смотреть на самих себя, т. е. погрузиться во тьму. И если они не преодолеют испытания «Покрывалом», то будут номинально чтить свет (которого не видят, а значит, который ничем не отличается от тьмы), и принимать окружающую тьму за сумерки, в которых что-то можно разглядеть (ведь только настоящий свет делает тьму тьмой, когда опыт света отсутствует, нет и опыта тьмы,
тьма более не воспринимается как тьма, но становится «нормой»). Это поле экзо-терической религии: она требует подчинения Богу, которого не знает, и принимает мир явлений как нечто само собой разумеющееся, не подозревая, что это есть сгусток лжи. Противоречие снимается только мистерией Любви, откры-той суфиям и fideli d’amore. Любовь становится оперативным жестом на всех уровнях. Каждый орган есть глаз, который созерцает не слепящий свет и не феноменальную данность, но красоту, которая есть «Покрывало»/«Зер-кало», где высшее одновременно сокрыто и раскрыто. Красота есть выражение недуальности, суть диалектической эпифании, ключ Любви.
Поэтому в метафизике Рузбехана Бакли все духовные видения описываются как красивые, прекрасные образы. При этом описания ангелических эпифаний приобретают у него подчас чувственно эротические черты. Рузбехан так повествует об одном своем видении: «В первом ряду их благородного собрания я увидел Гавриила, подобного невесте, похожего на Луну среди звезд; его волосы были подобны женским, заплетены в очень длинные косы; он был облачен в красные ризы с зелеными вышивками. Он ронял слезы из-за меня и из желания меня. Также остальные Ангелы проводили мгновения в сладости созерцания меня, как будто они желали меня и наслаждались моим духовным состоянием»[106]. Ангелы выступают как красота абсолютной женственности, и смерть открывается Рузбехану как восхождение души к блаженной и прекрасной божественной близости. Ангелы, приходящие к его могиле, чтобы забрать душу, говорят: «Мы влюблены в тебя, такими мы и отправились на поиск твоей могилы».
Когда Рузбехан видит Бога в «самой прекрасной из форм», Он сообщает ему последний секрет: «Ищи меня в мистической стоянке Любви, потому что ни мир, ни то, что в мире, не сможет устоять перед ударом моего величия…»
Органом Любви является сердце, поэтому центром духовной практики суфия выбирается именно оно. Сердце не просто имеет глаза, оно есть око, которое призвано созерцать «самую прекрасную из форм».
Важно, что в отличие от Павсания из платоновского диалога «Пир», разделяющего Эрос на два типа — вертикальный, соответствующий Афродите Урании, и горизонтальный, связанный с Афродитой Пандемос, Рузбехан определяет Любовь как нечто единое и неделимое; его Эрос недуален. Он говорит: «Речь идет об одной и той же любви, и именно в книге человеческой любви (‘ishq insânî) мы учимся читать правила любви божественной (‘ishq rabbânî)». Корбен поясняет: «Речь идет об одном и том же тексте, который надо прежде научиться читать; здесь толкование текста есть толкование самой души; нужно быть посвященным в духовную герменевтику, в tā’wîl любви, потому что человеческая любовь есть пророческий текст»[107].
Эта гомология двух Эросов, человеческого и божественного, обоснована и интенсивной визионерской метафизикой Рузбехана Бакли. Все уровни творения, которое одновременно и есть другое, нежели Бог, и не есть другое, а Его Око, несмотря на степени плотности и удаленности от Духа, на самом деле, не представляют собой радикально различных эссенций: для платонизма в его открытой диалектической версии (то есть собственно для неоплатонизма) любая вещь тождественна себе самой и одновременно не тождественна. Нет человека, который был бы Богом, т. к. это подрывает единственность Божественности, но нет человека, который не был бы Им, поскольку допустить это, значит признать не-единственность Бога, т. е. наличие какого-то бытия наряду с ним, а значит, «приписать ему сотоварища» (то есть совершить акт идолопоклонничества). Все дело в решении проблемы «Покрывала», и решив ее на одном уровне (человеческом), мы решаем ее на всех остальных, т. к. распознаем алгоритм Сокрытия/Открытия, составляющий таинство Любви — Любви в целом. Идеальная (платоническая) Любовь не противоположна человеческой страсти, т. к., будучи интенсивно прожитой, она обучает един-ственно верному постижению того, как соотносятся между собой дуальность и недуальность, порождая высшее напряжение различия и разрешая его в экстатическом кульминационном единстве, где дуальность и снимается (любящие суть одно, и поэтому Рузбехан часто цитирует фразу из любовной поэзии: Маджнун есть Лейла, Любящий есть Возлюбленная) и не снимается (ведь даже на пике единства двое остаются двумя). О самом Рузбехане рассказывали, что однажды в Мекке, совершая хадж и будучи уже суфийским мастером, авторитет которого признавался всем исламским миром, он воспылал Любовью к красивой певице. И именно эта Любовь заставила его по-гружаться в визионерские экстатические состояния, биться в конвульсиях. Будучи человеком кристальной честности, Рузбехан пришел на ассамблею суфийских шейхов, снял с себя плащ-кхирку, символ суфийского посвящения, и обо всем открыто рассказал, чтобы окружающие не приняли его экстазы за проявления Любви к Богу. Он просто так любил певицу. Когда слухи дошли до самой певицы, и она узнала, какие чувства к ней испытывает святой человек, она обратилась к Богу, оставила свое светское ремесло и стала его верной и преданной последовательницей. Так Любовь шейха к женщине, Любовь его к Богу, Любовь ее к шейху и Любовь ее к Богу замкнулись в единый и неделимый цикл.
Два ислама
Мы привели только несколько примеров для иллюстрации того, как Анри Корбен выявляет в рамках исламской философии и теологии направления, школы и течения, которые могут быть вполне отнесены к платонизму и неоплатонизму.
К этому можно отнести многочисленные влияния собственно персид-ской духовной культуры, которая отличается, с одной стороны, подчеркнутым дуализмом своей теологической системы, но, с другой стороны, этот дуализм, особенно в период, последующий за завоеваниями Александра Великого, мы могли бы проинтерпретировать в духе гностического платонизма Василида. И хотя собственно древнеперсидская духовная традиция (зороастризм, Авеста) имеют древний и самостоятельный источник и свою внутреннюю структуру, особый и глубоко укорененный иранский Логос с давних пор находился в постоянном интеллектуальном диалоге с греческим миром, чьей духовной и философской кульминацией мы считаем платонизм и неоплатонический синтез. После исламизации Персии к греко-иранским мотивам добавился арабско-семитский элемент, уже ранее предвосхищенный греко-семитским диалогом при выработке христианской догматики. Учитывая, что неоплатоники после Ямвлиха испытывали большой интерес к созданию универсалистских обобщающих теологий на основе идей Платона и их расширенного толкования, аналогичные тенденции в исламском мире, на сей раз с опорой на «Коран» и исламскую религию, но так же с заимствованиями из иных традиций, развивались в сходном русле.
Неоплатонизм в исламе, если понимать его максимально широко, представляет собой огромное интеллектуальное поле, которое так или иначе охватывает масштабный сегмент исламской мысли в целом. Мы можем говорить об особом неоплатоническом структурировании Логоса в исламской традиции. Основными чертами такого структурирования будет типично неоплатоническая диалектика, строящаяся по принципу апорий и парадоксов, переворачивающих логику обыденного сознания или помещающую ее в особый, экстравагантный контекст, сбивающий все привычные маршруты и опрокидывающий все привычные ментальные практики. Если классическая исламская теология исходит из принципа, что ночь темна, а полдень светел, что Бог — Творец, а мир — Его творение, то у носителей неоплатонического Логоса ночь предстает предельно концентрированным светом-сиянием, а полдень, напротив, черен; Бог же есть одновременно и сам Он, и другое, нежели Он сам, при этом не становясь другим всецело. Мы имеем два принципиально различных взгляда на единобожие, tawhid — экзотерический и эзотерический. Первый основан на обыденном рассудке и очевидности чувств, но, доведенный до конца, приводит к парадоксу, а второй начинает с парадокса и приводит к потрясающей основы человеческого бытия очевидности духовного опыта, в котором Божество оживает и оживляет мир. Исламская традиция, будучи единой, тем не менее имеет водораздел, связанный с этими двумя общими толкованиями единобожия, которые столь различны и по-разному организованы, что мы легко можем отнести их к двум полярным позициям, определяемым в соответствии с четким парадигмальным философским анализом. Огромный просветительский труд Анри Корбена самым тщательным и исчерпывающим образом описывает оба эти полюса, хотя, конечно, основное внимание уделяет полюсу неоплатоническому, который изучен и исследован менее всего, и до последнего времени не был должным образом проинтерпретирован.
Исламский неоплатонизм и Хайдеггер
Фигура Анри Корбена является ключевой для сравнительного анализа исламской философии и теологии (в первую очередь, неоплатонического полюса) с современной западной философией (особенно, с философией Мартина Хайдеггера). И весьма показательно, что Корбен начинал с переводов Хайдеггера и был с ним лично знаком. При этом Хайдеггер был жестким критиком Платона и платонизма, видя в дуальной топике платоников первый фатальный шаг к забвению о бытии и к торжеству Ge-Stell как трагической судьбы западной философии. Почему убежденный платоник Корбен, занимавшийся детальным изучением платонизма и неоплатонизма в исламе, хотя и не только в нем, был одно время под влиянием Хайдеггера и явно впитал многие его идеи?
Внимательное изучение платонизма, неоплатонизма и различных версий в исламской традиции приводит к интересному убеждению, что лишь отдельные версии платонизма, и особенно, платонизм закрытого Логоса, могут быть рассмотрены как легитимные объекты хайдеггеровской критики. Хайдеггер строил свою философскую стратегию, выявляя в истории Запада главную силовую линию — процесс забвения бытия и эволюцию онтологии, оторвавшейся от своей онтической базы. Эту стратегию он довел до логиче-ского конца и обосновал с безусловной убедительностью. Но все же для достижения такого результата ему понадобилось пойти на определенный редукционизм и вынести за скобки философии все то, что в эту схему не укладывалось. Тем, что не укладывалось, были все виды мистики, визионерской теософии, сакральные формы мышления. Правда, Хайдеггер выделил им в своей конструкции особое место — в области поэзии и, шире, искусства. Эту область, где иррациональное получало свое полное право на бытие, он называл «сакральным». Но от собственно философии он все «сакральное» тщательно отлучал. При этом, проведя эту редукцию, сам Хайдеггер признал историю западного Логоса катастрофической и провозгласил необходимость «другого Начала» философии. В подходах к этому «другому Началу» он активно задействует поэзию, т. е. нечто, выходящее за рамки классической и современной философии. Хайдеггеру важно, чтобы то, что он предлагает преодолеть, было именно таким, каким его преодолеть необходимо, т. е. относящимся исключительно к «Первому Началу» философии (простирающему свою легитимность от досократиков до Ницше). Платон и платоники также должны были быть инкорпорированы в это развертывание, исторически «Первое Начало». А другие сходные версии мистической и герметической философии пришлось вообще сбросить со счетов и обойти молчанием.
Корбен же, если мы попытаемся восстановить мотивацию его жизненного труда, не последовал в этом за Хайдеггером строго, хотя и был явно им затронут. Так, он, судя по его прямым высказываниям, разделял мнение Хайдеггера о современном европейском нигилизме и так же, как и Хайдеггер, критиковал структуры закрытого Логоса, приведшего Запад к механицизму, волюнтаризму и Ge-Stell. Но вместо того, чтобы видеть выход исключительно на Западе и в будущем (другое Начало), Корбен старался отыскать этот выход (в целом, весьма сходный с тем, который нащупывал Хайдеггер) в прошлом и вне Запада, а более конкретно, в платонизме, исламе, иранской, герметической и ближневосточной духовной традиции. При этом он имел дело с иным Платоном и иным платонизмом, нежели Хайдеггер в его реконструкциях. Дело не в том, кто понимал Патона лучше или правильнее. Дело в том, что Корбен брал в платонизме преимущественно те стороны, которые Хайдеггер, напротив, намеренно опускал. Хайдеггер критикует, в первую очередь, платонизм эссенциалистский, платонизм двухэтажной топики, т. е. модели закрытого Логоса. И в качестве альтернативы ему разрабатывает свою фундаменталь-онтологию, ориентированную к «другому Началу». Корбен же видит платонизм как систему открытого Логоса, толкуя его преимущественно в диалектических и апофатических версиях неоплатоников. То есть Корбен преимущественно и по умолчанию имеет дело с открытым Логосом. Поэтому Корбен идентифицирует Платона отнюдь не с эссенциализмом и не с референциальной теорией истины, но с утверждением «небытия» (пред-бытия) единого в диалоге «Парменид» или с эротической Вселенной, неразрывно и драматически объединяющей верх и низ в парадоксальном и с трудом расчленимом синтезе. Закрытый платонизм Хайдеггера, исчерпанный исторически и западноцентричный, контрастирует с открытым платонизмом, живительным и широко развитым на Востоке, Корбена. Поэтому с таким вдохновением Корбен разбирает суфийскую теорию fana’, «перманентное творение» и «вертикальное время» Ибн Араби и, особенно, экзистенциализм Муллы Садра Ширази, предвосхищающий самого Хайдеггера.
Но есть один момент, где эти два направления сходятся еще ближе. Им является современное хайдеггерианство в самом Иране, представленное такими фигурами как Ахмад Фардид или Реза Давани Ардакани. Эти мыслители предложили мистико-шиитское эсхатологическое прочтение Хайдеггера, отождествив хайдеггеровский Er-eignis, «другое Начало» и фигуру «последнего Бога» (der letzte Gott) с приходом скрытого имама Махди, наступлением мессианской эпохи и духовным воскресением. При этом Ахмад Фардид учился у самого Хайдеггера и осуществил этот синтез иранского шиизма с хайдеггерианством независимо от А. Корбена, хотя Корбен оказал на иранских интеллектуалов серьезное влияние, обратив их внимание на сокровища их собственной духовной и философской традиции. Будущее, которое в философии Dasein’а Хайдеггера мыслится как возможность аутентичного экзистирования, у шиитских гностиков осмысляется в духе эсхатологической парусии имама. Сама возможность такого прочтения Хайдеггера только подтверждает обоснованность и «объективность» идей Корбена.
Глава 12
Каббала и неоплатонизм
Каббала: история/мифология?
Гершом Шолем в своих работах «Истоки Каббалы»[108] и «Каббала»[109] обращает внимание на то, в какой степени язык и образность еврейской каббалы, а также ее теоретические построения и диалектический мифопоэтический метод противоречат рационально-историческому и морально-обрядовому дискурсу классического иудаизма, особенно в его талмудической версии. Он же указывает на позднее происхождение основного корпуса каббалистических текстов («Зохар» он датирует XIII веком и приписывает Моисею де Леону (Моше Бен Шем-Тов де Леон) (1250–1305)). Рене Генон критиковал историческую локализацию «Зохара» и каббалы в XII веке, предлагая допустить вероятность датировки, даваемой самими каббалистами. Этот же ход Титус Буркхардт повторил в отношении «Ареопагитик», отказываясь применять к их автору термин «Псевдо-Дионисий», т. к. текст настолько духовен и глубок, что к нему некорректно применять термин «псевдо-», т. е. «лже-».
Однако историческая локализация, противоречащая традиции самих каббалистов (мекаббалим), для Шолема не является аргументом для занижения духовного значения этого направления и базовых текстов, на которых оно строится. В таких случаях, равно как и в истории с «Ареопагитиками» или древностью «Поймандра» Гермеса Трисмегиста, должен быть предложен третий путь — между наивной и исторически несостоятельной датировкой самих носителей традиции и скептическим пейоративным отношением к подобным документам как к «подделкам», со стороны секулярных историков. Спиритуальное значение таких памятников, как «Зохар» и весь свод классических каббалистических текстов, настолько велико и очевидно, что вполне можно допустить и то, что мы имеем дело с передачей более древней традиции, лишь зафиксированной на позднем этапе и отметившей свое происхождение способом конструирования иеро-исторической филиации, и то, что это результат своего рода откровения, где та же самая иеро-история вторгается в духовно-визионерский опыт мистика.
Конфликт интерпретаций ортодоксальной иудейской теологии и неоплатонизма
Гершом Шолем наряду с другими авторами, изучавшими эту тему, указывает на неоплатонический характер каббалистического учения и защищает тезис об иудейском неоплатонизме. Для Шолема тезис о неоплатонизме каббалы ничуть не означает признания «второстепенности» по сравнению с собственно еврейскими учениями. Шолем просто констатирует, что это так, и далее демонстрирует, насколько оригинальное иудейское мышление и религиозная культура иудаизма трансформировали неоплатонические теории, придав им уникальный чисто еврейский характер.
Однако чрезвычайно важными являются замечаниями Шолема, подчеркивающие, что неоплатонический подход является принципиально чуждым иудаизму, стремящемуся акцентировать креационистскую парадигму Творец-творение, настаивая на радикальной трансцендентности Бога и его несопоставимости с бытием мира. Неоплатонизм же, со своей стороны, настаивает на градуальном переходе от Первоначала к миру явлений, причем вводит для этого диалектику в самый центр философского метода, прибегает к радикальной апофатике и релятивизирует бытие как вторичную, а не первичную инстанцию. Иудаизму в его классическом понимании радикально чужды любые формы мифологии и философской метафорики, которые могли бы вызвать подозрения в «политеизме». Сущность ортодоксального иудаизма в отсутствии какого бы то ни было опо-средования между Богом и миром, который, согласно иудаизму, представлен «избранным народом», евреями как «предстоятелями от лица твари», являющимся единственной инстанцией среди всей твари, с которой Бог-Творец непосредственно и неопосредованно заключает Завет. Причем этот Завет и эта избранность ничего не меняют в онтологическом статусе евреев, но меняют их представительскую функцию в космосе, наделяя правом «пасти народы», обладать над ними властью и духовным превосход-ством в силу исполнения представительской функции и самого факта знания о бездне, лежащей между Творцом и тварью. Эта бездна не отменяется верой, Заветом, законом и благочестием. Вера, Завет, закон и благочестие существуют только за счет утверждения этой бездны. Ученик Гамалиила, бывший ревностный иудей и глубочайший знаток ветхозаветной теологии апостол Павел, ставший христианином, совершенно справедливо утверждает: «Ничтоже бо соверши закон». То есть «закон не может ничего довести до конца». Это отнюдь не полемическая инвектива в адрес своей преж-ней религии, которую апостол Павел оставил, обратившись к христиан-ству. Это прозрение в суть иудейского богословия, которое основано не на снятии дистанции между Богом и человечеством (пусть даже его «элитой» в лице избранного народа, как это понимает иудаизм), но, напротив, на принципиальной неснимаемости этой дистанции, о которой иудеи знают (и в этом смысл их избранничества и корень их прав на мировое господ-ство), а другие народы, «гоим», «язычники», нет. Неевреи не знают о бездне между ними и Богом, и поэтому они заблуждаются и являются идолопоклонниками. Евреи знают о ней и о том, что она непроходима и непреодолима, и потому у них есть закон. Этот закон ставит их над всеми остальными, но тварной природы не меняет. Для апостола Павла лишь Боговоплощение способно преодолеть эту дистанцию, а значит, открыть новую эру, эру благодати, в которой свершается то, чего закон (предыдущая эра) совершить не смог.
Поэтому платонизм, с его градуальностью, диалектикой, постоянным опосредованием отношений между высшими и низшими инстанциями, апофатикой и онтологическими метаморфозами, потенциальным «политеизмом» и призывом человека стать богом, представляет нечто духовно и философски глубоко чуждое иудаизму в его ортодоксальном выражении. И этим объясняется вполне естественное неприятие каббалы иудейскими кругами на первых этапах, а также явно еретические деривации каббалы в таких случая, как мессианское движение саббатаизма и франкизма, заканчивающиеся разрывом с иудаизмом (в системе взглядов Саббатаи Цеви, Натана из Газы, Барухио Руссо или Якоба Лейба Франка каббала играла определяющую, центральную роль).
И тем более неожиданным становится сам феномен еврейской каббалы, интеграция неоплатонизма в иудаизм и постепенное превращение каббалистической традиции в общепринятое и едва ли не центральное течение еврейской религиозной мысли.
Эн Соф, апофатика каббалы
Каббала представляет собой мистическое учение, где легко опознаваемы все сущностные моменты неоплатонизма.
Во-первых, в центре каббалистического учения стоит Эн-Соф, т. е. апофатический принцип, точно соответствующий не-сущему единому развитых неоплатонических систем. Апофатика есть главная отличительная черта неоплатонизма, т. к. благодаря тезису о не-бытии (пред-бытии) единого вся вертикальная топика Логоса становится открытой и диалектической; отныне первое (бытие) есть второе, второе — третье и т. д., и между всеми уровнями выстраиваются цепи возможных метаморфоз, всякий раз релятивизирующих законы аристотелевской логики — А равно А и не равно А в то же самое время. Не-А имеет онтологическое содержание (поэтому как в «Софисте» Платона «небытие есть»). А спокойно может быть в то же время и не-А.
Показательно выделение каббалой четырех миров, выстроенных по вертикальной иерархии. Первый мир — Ацилут, т. е. мир «Ближних». Это область манифестации, пространство генад, сопричастных Эн Соф напрямую и не опосредованных ничем. Природа Ацилут является божественной в полном смысле слова, но не является уже непроявленной и строго единой, как в случае Эн Соф. Мы имеем дело здесь со второй гипотезой «Парменида», осмысляемой неоплатониками. Второй мир — Брия, есть начало соб-ственно творения, где происходит разделение на Божественное (остающееся выше), и тварное, начинающееся в этом мире и развертывающееся вниз к двум другим мирам. Третий мир — мир Йецира, где тварные сущности обретают форму. И наконец, четвертый мир — Ассия, где тварные формы становятся существующими, т. е. активными, действенными, энергичными и подвижными. Показательно, что еретическая мессианская каббала Саббатаи Цеви в лице самого яркого апологета и интерпретатора этого течения Натана из Газы, утверждала, что «душа мессии» исходит непосредственно из мира Ацилут, т. е. является божественной и не тварной в самом прямом смысле, что заставляет нас подозревать влияние христианской христологии, которая (как мы видели), в свою очередь, тесно связана с неоплатонизмом.
Введение апофатической инстанции Эн-Соф сразу делает религиозную топику открытой, создавая предпосылки для дальнейшего развития всей неоплатонической системы.
Древо Сефирот, опосредование
Второй неоплатонический момент — учение о десяти Сефирах, которое Шолем считает относительно поздним развитием изначальных каббалистических установок. Оно полностью соответствует диалектической триаде основных моментов — μονή, πρόοδος, επιστροφή, — составляющих основу неоплатонической интеллектуальной интуиции. Сефиры переходят одна в другую как раз по этой схеме. Древо Сефирот устроено так, что по нему циркулируют духовные влияния сверху вниз (πρόοδος), предопределяя структуры космогонического процесса на уровне принципов, еще до проявления собственно космоса, и снизу вверх (επιστροφή), составляя основной маршрут каббалистической медитации (кавана). При этом каждая Сефира остается (μονή) самотождественной.
Сефироты представляют собой как раз нечто промежуточное между собственно Богом и миром, т. е. как раз опосредующую инстанцию, отрицание которой составляет остроту ортодоксального монотеизма (как иудей-ского, так и исламского). Если аристотелевский подход и может быть интегрирован в иудаизм, как мы видим в случае Маймонида, то наличие системы эманаций Древа Сефирот явно вступает с ним в противоречие.
Адам Кадмон и Шекина
Чисто неоплатонической является и фигура Адама Кадмона, «светового человека», который лежит в центре творения и чей свет есть содержание Сефирот (как световых ваз). Адам Кадмон есть эйдос человека, Ангел-Посвятитель, антропоморфное выражение Божества, детально исследованное в каббалистическом учении Шиур Кома. Здесь, как и в других версиях неоплатонизма, утверждается тождество Бог=человек, но т. к. это тождество диалектично, то оно сосуществует с не тождеством «Бог не равно человек». Отсюда — открытость каббалистической антропологии, допускающей возможность прямой божественности в пространстве человеческого. Так, ритуал творения голема есть иллюстрация способности обоженных людей, цадиков, святых, творить земную жизнь, повторяя космогоническую активность Творца.
Еще одним неоплатоническим моментом, напрямую сопряженным с тео-антропологическим измерением каббалы, является развитое учение о «Шекина», «присутствии Божиим», о котором говорится в «Танахе». Но в каббале эта концепция получает самостоятельное бытие, гипостазируется и наделяется женскими чертами, аналогичными Софии гностиков. Шекина мыслится как женский аспект Божества, как своего рода индуистская Шакти. Она представляет собой имманентный аспект божественности, продолжающей ее бытие от Эн-Соф через Адама Кадмона и Древо Сефирот (особенно через низшую десятую Сефиру Малькут) в феноменальный мир. Как и у гностиков (а мы видели их связь с платонизмом), у каббалистов проводится различие между двумя Шекинами (высшей и низшей), представленными в четырехбуквенном имени Бога (YHVH) буквой heh.
«Божественность евреев»
Низшая Шекина отождествляется с «избранным народом», с евреями и разделяет их историческую судьбу (можно было бы сказать и наоборот: евреи в их иеро-истории разделяют судьбу низшей Шекины). Высшая Шекина находится постоянно вместе с Богом. В четырехбуквенном имени Бога это символизируется близостью первого «heh» с «yod», а эта буква расшифровывается как сам Бог. Зазор между двумя Шекинами (одной, оставшейся с Богом, и другой, отправленной в изгнание),есть пространство иеро-истории, т. е. драма евреев, развернутая во времени — от рая до наступления мессианских времен, когда два аспекта женской ипостаси Бога соединятся, и наступит «конец света». Еврейство здесь понимается софиологически, а сами евреи мыслятся как прямое выражение божества (остальным народам предоставляется функция демонов, хаотических сил «левой стороны»).
Здесь мы видим, насколько глубоко трансформировалась общая для иудеев идея их избранности при переходе от ортодоксальной теологии к каббале. Если изначально избранность обосновывалась знанием о бездне, отделяющей тварь от Творца, то в каббале избранность подкрепляется прямо противоположным аргументом: тождеством сути «избранного народа», евреев с субстанцией Бога в ее женском, пассивном выражении, в «изгнании». Это тема теопатии, страдания и сострадания Бога, которую мы встречали у Ибн Араби и в философии суфизма.
Зохар начинается со слов: «Как роза среди терний, так Израиль среди народов (гоим) земли». Сразу же мы видим постановку на место платоновских академии философов-геометров, Церкви у христиан, общины пути (тарикат в ат-тасаввуфе) у мусульман, евреев как избранного народа.
Тем самым между низшим миром и высшими мирами ставится этнос, осознанный в духе классического иудаизма как религиозная иеро-историческая общность. Таким образом, мы с первых строк попадаем в контекст национал-платонизма. Евреи мыслятся как обобщающая фигура космического и спиритуального медиатора. У неоплатоников таким медиатором является философ, теург, световой жрец. Отсюда мы можем вывести теорию евреев как народа-философа, народа-жреца, народа-медиатора.
Диалектика медиации
В каббале общая для всех неоплатоников тема медиации становится динамической и исторической драмой. Это сближает каббалу с зороастризмом, орфизмом и гностицизмом. Медиация проблематична и развернута в цикл. Так как медиация есть функция евреев, то еврейская история отождествляется с диалектикой медиации.
Диалектика медиации (между тем и этим, между Творцом и тварью) мыслится в трех моментах: норма, катастрофа, восстановление. Снова мы видим неоплатоническую триаду μονή, πρόοδος, επιστροφή, но на сей раз примененную для описания космической драмы, проявленной в иеро-истории.
Ярче всего это описано у каббалиста Ицхака Лурии (Ари), основавшего школу в Цфате.
Норма — это миры Ацилут, ближних (прямой аналог генадам неоплатонизма, термин «ближние» также неоплатонический). Здесь вся парадигма ноэтического космоса сохраняется в идеальном состоянии, и вся динамика проходит исключительно в мире идей. Это зона вечности и чистой божественности.
Но дальше начинается драма. Адам Кадмон испускает лучи света. Они изливаются в вазы Сефир. Сефиры не выдерживают света и разбиваются. Из разбитых ваз вытекает свет. Создается драматическая вселенная, где ничто не находится на своем месте. Медиация здесь сохраняется, становится проблематичной. Она отныне затруднена, сбита с курса.
Это катастрофа, являющаяся прообразом и первопричиной всех исторических катастроф: от изгнания праотцев из рая до Ноевого потопа, четырех рассеяний (галут) и финального холокоста.
Наконец, в мессианскую эпоху происходит тиккун (эту теорию развивал ученик Ицхака Лурии каббалист Хаим Видаль), медиация восстанавливается. Это конец времен и момент воскресения. Мессианское время отличается возвращением евреев из четвертого рассеяния в Израиль, появлением Царя Машиаха и восстановлением Храма Соломона, Третьего Храма. В этот период израильтяне станут правителями над всеми остальными народами земли. Власть евреев над миром поможет собрать весь свет, вытекший из разбитых ваз Сефир, собрать всю мудрость воедино и восстановить гармонию и связь между всеми мирами — снизу доверху. К этому моменту эсхатологического «возврата» применим брачный символизм: Бог вступит в брак с «избранным народом» (нижней Шекиной).
Таким образом, история и миссия в ней евреев понимается как процесс медиации из проблематичной и катастрофической в финале истории снова становящейся прямой и эффективной. Мессианские времена восстанавливают нормальные, а не искаженные связи между низшим миром и высшим, и эсхатологические структуры бытия воссоздают райское состояние Пардеса, но вместе с тем и превосходят его, т. к. все творение началось с катастрофы, а финальная точка истории внутри этого творения полностью и необратимо эту катастрофу и ее последствия преодолевает.
Цимцум и Василид
У Ицхака Лурии проблематизация медиации и катастрофизм, сопровождающий все творение, что предопределяет катастрофизм и мессианский драматизм иеро-истории, осмысленной в этно-религиозных терминах, имеет весьма оригинальную предысторию, развертывающуюся еще до начала космогонического процесса. Так, Лурия описывает перводвижение Бога как его стягивание, возвращение в себя, как его уход, а не как его экспансию, расширение и выход из себя, что характерно для большинства теологических и космогонических доктрин. Это весьма напоминает гностические системы и, в частности, теории Василида, где первоначало есть «не-сущий Бог», и порожденные им сыновства стремятся к слиянию с не-сущим, т. е. к тому, чтобы не быть. Главным космогоническим импульсом таким образом становится воля к небытию.
У Лурии Бог стягивается, т. е. хочет не быть. Это динамический процесс, в ходе которого образуется особая инстанция — первоначальная бездна, она же дух — техиру. Это пустота, образовавшаяся от того, что в ней «ранее» Бог пребывал, но потом оттуда ушел. Описание структуры техиру напоминает твердь, стереому василидовской системы. Техиру и твердь называются «духом» и описываются как нечто, оставленное Богом (у Василида это второе сыновство, стянувшееся к Отцу), но еще полное ароматом его присутствия, которого больше нет. Эта пустота есть основа космогонического развертывания. Мир создается отсутствием Бога, проникнутым неощутимыми ностальгическими следами его недавнего наличия. Мир сделан из ностальгии.
В это богооставленное пространство и изливается свет Адама Кадмона, что приводит к первокатастрофе.
Связь с доктринами Василида, которые мы описали как дуальную версию платонизма, еще раз подтверждают платонический характер каббалы. При этом мы встречаем здесь как дуальные, так и недуальные ее версии, помещенные в общий каббалистический контекст.
Типы каббалы
Каббала является платонизмом, интегрированным в иудаизм. Изначальный конфликт между двумя теологическими и философскими топиками, заставлявший первых противников каббалы среди ортодоксов подозревать каббалистов в крипто-христианстве, был преодолен, и через некоторое время каббала стала необходимой частью иудаизма.
Можно обобщенно выделить три главные направления каббалы:
• Осторожная каббала, требующая от практиканта жесткой ортодоксии, соблюдения всех иудейских экзотерических правил, достижения почтенного возраста и строгого сокрытия каббалистического учения от непосвященных. В XVIII веке эта тенденция нашла свое окончательное выражение в среде митнагедов (Виленский Гаон — Элияху бен Шломо Залман).
• Народная каббала, получившая распространение в восточно-европей-ском хасидизме (основан Израиэлем Баал Шем Товом в XVIII веке) и особенно у Любавических хасидов. Здесь каббалистические теории излагаются открыто, и в некоторых случаях ортодоксия видится как нечто второстепенное перед лицом мистической трансформации каббалиста.
• Еретическая каббала, сопряженная с движением саббатаистов в XVII, когда обоснование Саббатаи Цеви на статус мессии и начала массового возврата евреев из рассеяния в Палестину строилось на апелляции к каббале и ее мессианскому толкованию. Захватившая в определенный период широкие еврейские круги, мессианская каббала саббатаистов постепенно сошла на нет после принятия Саббатаи Цеви ислама в османской тюрьме и стала достоянием узких миноритарных групп, отвергнутых ортодоксальным еврейством (влияние саббатаистов в Турции было явст-венно различимо и в ХХ веке, т. к. представители денме, саббатистов, формально принявших ислам, составили костяк младотурков, построивших современное светское турецкое государство). В XVIII веке последним всплеском еретической каббалы в ее жестко антиномистской версии стало движение Якоба Лейба Франка, построившего свое учение на полном переворачивании традиционных правил и запретов «Торы» («грешное есть святое», «запретное есть обязательное для исполнения» в мессианские времена) вплоть до перехода в католицизм и признания «истинности кровавого навета»[110].
В ХХ веке к этим трем направлениям добавилось еще одно: неоспиритуалистская каббала, предназначенная для широкой аудитории и даже необязательно иудейской. Но это течение следует рассматривать в отдельном контексте, имеющем к философии и теологии весьма отдаленное отношение.
Каббала и другие версии неоплатонизма
Последнее, на чем следовало бы остановиться, это вспышка интереса к каббале в среде европейских неоплатоников эпохи Возрождения. Мы видим это уже у Пико делла Мирандолы, Иоганна Ройхлина и Агриппы Неттесгеймского, которые попытались включить каббалистические доктрины в свои философские неоплатонические и герметические системы, остававшиеся чаще всего в контексте христианства. Так появилось название «христиан-ская каббала», т. е. использование каббалистических процедур и методик в христианской философии и теологии. Позднее эта линия перешла к розен-крейцерам и масонам. Каббалой интересовался Исаак Ньютон. В целом она прочно укрепилась в перечне приоритетных «оккультных» наук, составивших корпус европейского эзотеризма Нового времени.
Если мы примем во внимание неоплатоническую структуру каббалистической топики, то стремление неоплатоников Ренессанса включить в свою универсальную платоническую систему каббалистические теории, символы и процедуры, окажется вполне логичным. Не правы те исследователи, которые полагают, что неоплатоническое толкование каббалы — это дело рук ренессансных неоплатоников, подверставших экзотическое знание иной и весьма далекой религиозной традиции под свои синкретические нужды. Каббала имела в своей основе такую философскую карту Логоса, которая полностью соответствовала неоплатонизму в целом, повторяя на ином доктринальном и языковом материале его основные моменты и интеллектуальные ходы. Поэтому для реконструкции Prisca Theologia, Sophia Perennis каббала была богатой и чрезвычайно полезной областью.
У Рене Генона в традиционалистской философии каббала была однозначно квалифицирована как иудейский эзотеризм и в этом качестве рассматривалась как выражение «примордиальной традиции», в одной из ее редакций (сам Генон считал, что эта редакция относится к поздним периодам истории), полагая первичными индуистские доктрины (которые, впрочем, он истолковывал, в свою очередь, в духе неоплатонизма).
Таким образом, неоплатонизм надежно обнаруживается, хотя и в совершенно разных контекстах и пропорциях, во всех трех монотеистических религиях. При этом чаще всего мы встречаем его там, где речь идет о мистике или эзотеризме (хотя в христианстве картина более сложная, и платонизм затрагивает область самой догматики).
Глава 13
Традиционализм как теория: София, Платон и событие
Марк Седжвик и его гипотеза о Sophia Perennis
В своей книге «Against Modern World»[111] современный исследователь и историк традиционализма Марк Седжвик, исследуя философские истоки мировоззрения Рене Генона, основателя традиционализма, выдвигает гипотезу, что традиционалистское движение, утверждая свою основополагающую теорию Sophia Perennis (Philosophia Perennis) и «примордиальной Традиции», опирается не на «мифические» экзотические «восточные» источники, но именно на западную философскую традицию, уходящую корнями в платонизм эпохи Возрождения (Гемист Плифон, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Аугустино Стеуко и т. д.). В этом кругу и сформировалось направление, ставящее во главу угла фигуру Софии и связывающую ее с «изначальной теологией» (Prisca Theologia у А. Стеуко). Содержание этой «изначальной теологии» сводилось к платонизму, неоплатонизму и герметизму, заново открытым в Западной Европе благодаря переводам с греческого широкого спектра этих течений, тексты которых привез с собой грек Гемист Плифон в последнюю эпоху перед окончательным падением Византии. И хотя тезис Седжвика многим традиционалистам показался «разоблачительным», в целом анализ интеллектуальных кругов неоплатоников Возрождения и их идей, действительно, показывает значительное сходство с воззрениями Генона и его последователей.
В свою очередь, работы англичанки Фрэнсис Йейтс, посвященные тем же интеллектуальным течениям европейского Возрождения и Нового времени[112], показали, сколь большое влияние платонизм оказал на формирование философских, научных и политических воззрений этой переходной эпохи. И Сэджвик и Йейтс показывают, что значительная часть основателей современной научной картины мира вдохновлялась мистико-религиозными идеями и теориями неоплатонического толка, хотя в научные каноны Модерна попала только одна сторона их творчества, связанная с эмпирикой, рационализмом, механицизмом и т. д., а собственно возрожденческая мистика и «перенниализм» остались за кадром либо были истолкованы в натуралистиче-ском, пантеистическом или деистском ключе. Ярким примером является фигура И. Ньютона, являвшегося одновременно алхимиком и каббалистом, с одной стороны, а с другой — основателем механицистской физики и рационалистического, эмпирического естествознания. Ту же идею развивает историк религий, бывший в юности участником традиционалистского движения, Мирча Элиаде, предложивший взгляд на рационально-научную и прогрессистскую топику философии Модерна как на продукт секуляризации европейского герметизма.
Эти соображения и привели Сэджвика к переоценке влияния традиционализма на философию, науку и, отчасти, политику ХХ века в том смысле, что это движение, лежавшее в основе Модерна, и в своей новой форме, в форме философии, развиваемой Рене Геноном, Юлиусом Эволой и широким кругом мыслителей, на которых они оказали решающее воздействие, было намного более значимым и важным, нежели можно судить из поверхностного знакомства с предметом, при котором все выглядит куда более скромно, и даже отчасти маргинально. В истоках Нового времени лежал платонический универсализм, который и стал идейным основанием для провозглашения универсализма рациональной философии пост-средневековой Европы. Однако постепенно основное внимание было привлечено к технической стороне этого движения, к чистому эмпиризму и рационализму, а метафизическая часть осталась без внимания, была причислена к издержкам и следам «средневекового иррационализма». Но согласно этой схеме получается, что по мере исчерпания эпохой Модерна технократического содержания рационалистической философии, бэконовского сциентизма и картезианского дуализма стала давать о себе знать вторая сторона, давно отошедшая на периферию. Традиционализм Генона и стал ее развернутым манифестом. Отсюда и рост значения традиционализма по мере все более широкого и глубокого осознания «кризиса современного мира». Новое время, таким образом, при переходе к Постмодерну снова вспомнило о своих «оккультных корнях». Просвещение, поставленное под вопрос, обратилось к своему «розенкрейцеровскому» началу.
Эта гипотеза Сэджвика/Йейтс, разделяемая еще рядом авторов, продуктивна в любом случае. Как минимум, она повышает статус традиционализма как важнейшего философского течения, чье возникновение приходится на критический момент исчерпания повестки дня классической научной рациональности Модерна и формирования первых постмодернистских теорий, подвергающих Модерн деконструкции. Если признать, что в основе Модерна, претендовавшего на рационализм и теорию прогресса как основание для своего универсализма, лежал набор иррациональных представлений, апеллировавших к глубокой древности для своего обоснования, т. е. платониче-ский мистико-герметический универсализм перенниалистского и софиологического толка, то сам Модерн предстанет в совершенно ином свете, а пост-модернистские критики получат еще один аргумент, что Модерн был вовсе не тем, за что себя выдавал, но лишь плохо замаскированной перелицованной версией все того же традиционного общества, которое он стремился преодолеть, отменить и демонтировать.
С другой стороны, сам традиционализм представал как явление, связанное с Модерном, хотя и ориентированное критически по отношению к нему. Это не просто «продолжение Традиции» по инерции, а совершено специфическая и оригинальная критическая философия, опровергающая Модерн и подвергающая его беспощадной критике на основании особого комплекса идей и теорий, совокупно составляющих содержание «перенниализма» или «универсального эзотеризма», не совпадающего, надо заметить, ни с одной из реально существующих исторических традиций. Отсюда один шаг от того, чтобы признать традиционализм «конструктом». Революционный, критический и «современный потенциал философии Генона верно подметил традиционалист Рене Алле, предложивший рассматривать Генона в одном ряду с Марксом в плеяде наиболее радикальных революционеров и критиков современной цивилизации[113].
От Prisca Theologia к Рене Генону
Из анализа Сэджвика можно было бы извлечь много различных и весьма интересных выводов[114]. Здесь мы зафиксируем лишь один момент: концептуальное единство традиционализма ХХ века (Р. Генон, Ю. Эвола и т. д.) и ренессансного платонизма (Г. Плифон, М. Фичино, А. Стеуко и т. д.). Оба этих философских течения обобщаются понятием «перенниализм».
Если исторически мы можем возвести филиацию философских инспираций Генона к Ренессансу, который, впрочем, сам Генон жестко критиковал за непонимание сакральной цивилизации Средневековья, и обнаружить именно там первые формулировки тем Sophia Perennis или Prisca Theologia, составляющих основу традиционалистской философии, то совершенно очевидно, что в Западную Европу эпохи Возрождения эти течения пришли из более глубокого прошлого и отчасти из инакового (а конкретно, византий-ского, греческого) культурного контекста. Конечно, платонизм был известен и в средневековой европейской схоластике, но там он давно уступил место аверроизму и аристотелианству, закрепленным почти догматически в реализме Фомы Аквинского. Герметизм существовал в форме алхимических течений и эзотерических братств, но в эпоху Возрождения эти тенденции вышли на поверхность в явной и магистральной форме — в ярком и откровенном неоплатонизме и философски оформленном герметизме (с многочисленными прямыми или косвенными политеистическими элементами), претендуя на основополагающее всеобщее мировоззрение, а не просто на тайную традицию, параллельную доминирующей схоластике. Платонизм и герметизм Ренессанса отныне прямо противопоставлялся католическому томизму, сформировав повестку дня возрожденческого гуманизма. Этот гуманизм был магическим и сакральным; под человеком понимался «совершенный человек», платоновский философ, Ангел-Посвятитель.
Платоники Ренессанса обращались напрямую к текстам Платона, Плотина, Гермеса Трисмегиста, к обширному корпусу неоплатонических и герметических теорий, большая часть которых была заново переведена с греческого. Платонический гуманизм заново оформился в концептуальный теоретический блок и начал свое наступление на прежние философские и теологические конструкции. При этом неоплатоники оправдывали свои претензии на истину тем, что подчеркивали древность источников, на которые ссылались, и тем, что предлагали философскую парадигму, обобщающую различные религиозные верования, т. е. более универсальную и глубокую, нежели католическая религия Европы. В синтез включалось как минимум византийское православие, но программа реформ Гемиста Плифона была еще шире и предполагала восстановление всей полноты «Платоновской теологии», включая возврат к определенным аспектам политеизма. Платонизм (равно как и герметизм) виделся им не как просто одно философское или религиозное направление из многих, но как «универсальная мудрость», способная служить ключом к разным философиям и религиям, быть для них общим знаменателем. Эта же идея метарелигиозного обобщения стала важной темой розенкрейцеровского движения, а позднее европейского масонства (как показывает Ф. Йейтс).
Этот универсализм обосновывался отсылкой к «перенниализму», сущест-вованию некоторой исключительной инстанции, где пребывала вся мудрость мира независимо от исторических перипетий, сохраняясь в «райском» изначальном состоянии. Эта «перенниальная мудрость», София, и была той отправной точкой, которая позволяла рассматривать конкретные религии и философии как ее частные и исторически обусловленные издания, и в то же время претендовать на универсальность, превосходящую всякую частность. Эта София была познаваема, а, следовательно, причастный к ней, любящий ее, отождествляющийся с ней получал доступ к «абсолютному знанию». Гуманизм Ренессанса был софиологическим, т. к. София воспринималась как Ангел человечества, его вечно живой и вечно присутствующий, вечно юный архетип, эйдос.
Вполне возможно, что претензии европейского Нового времени на универсализм своих ценностей следует искать именно в этом источнике, т. к. католический экуменизм был отброшен, и культурное мессианство Запада требовало для себя нового обоснования. Оно было найдено именно в «перенниализме»: новая Европа, Европа постсредневековая, мыслилась как привилегированная область раскрывшейся вечной Софии, и на этом основании европейцы Модерна получали мандат на новое освоение (и покорение) мира, воспринимая себя не просто как хищных колонизаторов, но как носителей высшего вселенского знания. Это объясняет особый духовный накал эры великих географических открытий, призванных открыть Атлантиду (по Ф. Бэкону) не только в новых колониях, но и в самом Старом Свете. Таким образом, платонизм Возрождения и присущий ему перенниализм следует рассматривать как важнейший фактор при формировании структуры Модерна в целом. Профанический универсализм прогрессистской и рационалистической Европы коренится, таким образом, в сакральном, обращенном в вечность и глубокую древность сверхрационализме ренессансных платоников.
Конструкт Софии
Для нас очевиден конструктивистский характер ренессансного неоплатонизма. Мы можем легко проследить, каким образом и на основании каких источников он строился. В качестве универсального брались герметические тексты «Поймандра» и «Асклепия», приписываемые Гермесу Трисмегисту, а также космологические и антропологические диалоги Платона («Тимей», «Государство», «Законы», «Пир» и т. д.), толковавшиеся в духе неоплатонических систематизаций Плотина и его последователей. Неоплатонизм выступал основным содержанием Софии, ее систематизированной философ-ской голограммой. И уже через эту призму толковались иные религии и философские системы как частные случаи обобщающей перенниалистской парадигмы. Приблизительно так же поступает Рене Генон: он руководствуется системой вполне определенных метафизических, космологических и антропологических представлений, с помощью которых он рассматривает как различные традиции и религии, так и современный мир, являющий собой отрицание этих представлений, а в последней фазе («открытие яйца мира снизу») и пародию на них. Ни в одной религии, ни в одной теологии и ни в одной философской системе не содержится той парадигмальной матрицы, которой оперирует Генон. Но с помощью этой матрицы, взятой где-то еще, исторически фиксируемые религии, теологии и философии (весьма успешно) им трактуются и интерпретируются. Генон опирается на «примордиальную традицию», санатану дхарму или Sophia Perennis — оттуда он и черпает свои знания напрямую. Точно так же поступали и ренессансные платоники.
С помощью Софии и платоники Возрождения, и Генон в ХХ веке декон-струировали все остальное. Но сам алгоритм их деконструкции, в свою очередь, представлял собой конструкт, конструкт Софии.
«Темный Логос» неоплатонизма
Искусственность ренессансного перенниализма довольно прозрачна. Но здесь стоит задаться вопросом: как соотносится между собой этот ренессансный перенниализм, стоявший у истоков традиционализма ХХ века, и собственно тот платонизм, на котором он основывался? То есть конструктивистский характер — это свойство Возрождения, предвосхищающего Новое время, или сам материал, на котором построена ренессансная софиология, давал для этого определенные основания и обладал сходными свойствами?
В отношении неоплатонизма (от Плотина и Порфирия через Ямвлиха к Проклу и Дамаскию) это почти столь же очевидно; да, неоплатонизм представлял собой именно конструкт, разработанный на основе отправных идей Платона, но включавший в себя другие эллинские и ближневосточные философские, религиозные и мистические системы. При этом такой неоплатонизм отличался как раз чрезвычайной инклюзивностью, вбирая в себя платонически перетолкованного Аристотеля (а соответственно, и переосмысленную Стою), орфизм, пифагорейство, отчасти египетский герметизм, а также сирийские и малоазийские культы (теургия, «Халдейские оракулы) вплоть до иранских дуалистических доктрин и халдейской астрологии. Прокл на основании диалога «Парменид» Платона и его основных гипотез строит развернутую «Платоновскую Теологию», воспроизведенную и существенно перетолкованную Дамаскием. А его комментарии к «Тимею» досконально и детально описывают синтетическую космологию, построенную на принципе нооцентризма.
То, что выстроили поздние неоплатоники эллинской эпохи, с их открытой метафизикой и апофатическим диалектическим Логосом, безусловно, можно вполне рассмотреть как раннюю версию того «перенниализма», с которым мы сталкиваемся в Возрождении. В трудах Прокла и в особенности его экзегетики мы видим остов всех позднейших изводов неоплатонизма — как религиозного, так и философского. Его теории и методики безошибочно угадываются в Ареопагитиках и, далее, во всей традиции «мистического богословия», получившего широкое распространение как на Западе (от Скота Эриугены до Майстера Экхарта, Генриха Сузо и даже Якова Беме), так и на Востоке. Развитую Проклом диалектику не-сущего единого мы встречаем у исламских представителей аль-фаласифа, у Ибн Араби и в школе Ишрак; она же предопределяет драматическую картину исмаилитской теологии и эсхатологии. Более того, классический метод каббалистических толкований «Зохара» и ранней каббалы полностью воспроизводит внимание Прокла к отдельным словам, выражениям (и их цифровым эквивалентам) в диалогах Платона, иногда кажущимся второстепенными. А. Корбен справедливо замечает, что «Парменид» для Прокла был «Теогонией», на основании которой он позднее разработал свою «Платоновскую Теологию». «Парменид» Платона был своего рода «Библией», «Священным Писанием» негативной, неоплатонической, апофатической теологии»[115]. Поэтому каждое слово Платона подвергалось детальной и обстоятельной герменевтике. Мысль о том, что Платон был парусией Божества, у неоплатоников стала своего рода догмой.
Неоплатонизм мыслил себя как универсальную традицию, с помощью которой можно было интерпретировать все существующие религии и философские системы. Это была религия Логоса, нооцентрическая космология и апофатическая метафизика, которая претендовала на способность интерпретировать любые формы политеизма, символизма и теургических обрядов. От самих греческих неоплатоников эта идея проникает и в другие религиозные среды — к аль-Фараби и Ибн Сине, суфиям, философам школы Ишрак, к инициатической лирике Руми и «Дневникам» Рузбехана Бакли, к синтетическим доктринам Хайдара Амоли или Муллы Садра. Нечто аналогичное мы встречаем и в каббале, а также (с некоторыми оговорками) в христианской мистике. Везде мы сталкиваемся с идеей Sophia Perennis и духовным универсализмом, воспроизводящим в той или иной форме нооцентрический, подчас парадоксальный и диалектический, «темный Логос» неоплатоников. «Темным» он является потому, что постулирует пред-бытийный характер Первоначала (единого), открывая вертикаль Логоса сверху, и потому, что постоянно и многократно переворачивает строгие законы аристотелевского разума с его основными принципами — тождеством, отрицанием, исключенным третьим. Вместо логической ясности мы имеем дело с уклончивой и требующей высокого искусства диалектики парадокса, апории, сверхрациональной двусмыслености (амфиболии), ведущий «философа» (суфия, адепта, посвященного) через головокружительную вереницу озарений и инициаций, где на каждом новом витке сознание рушится и воссоздается заново.
Установив такое положение дел, мы можем легко продлить теперь историю ренессансного платонизма с его перенниалистским конструктом Софии вглубь более чем на тысячелетие. При этом Гемист Плифон и его платоническая реформа в Мистре накануне краха Византийской империи, могут рассматриваться как звено в прямой передаче этой универсалистской традиции от последних диадохов Афинской академии, изгнанных Юстинианом через Михаила Пселла и неудачного, признанного еретиком неоплатоника Иоанна Итала, к Флорентийскому кружку, созданному Марсилио Фичино вокруг принца Козимо Медичи. Причем помимо греческой филиации мы вполне можем рассматривать и «исламский след», где «темный Логос» апофатической «платоновской теологии» был общим знаменателем для широкого спектра различных течений, представляющих собой высоты мусульманской философии, теологии и культуры. Еще одним маршрутом была еврейская каббала, построенная по тому же самому алгоритму. И наконец, в латинском мире мы видим множество ручьев герметизма, алхимии и мистики, а также гностических сект и милленаристских течений (в духе учения о трех царствах калабрийца Иоахима де Флора), которые также впадают в революционный океан Ренессанса.
И далее, от эпохи Возрождения вместе с Сэджвиком и Йейтс, а также с другими многочисленными авторами, исследующими мистические и оккультные ордена, ложи и секты Нового времени, мы на еще более достоверном и хорошо изученном материале ведем линию «темного Логоса» от Бруно к розенкрейцерам, масонам, мистикам и представителям «оккультизма», среди которых Генон и обретает его, чтобы положить в основу своей совершенно оригинальной и чрезвычайно влиятельной традиционалистской философии.
Так прослеживание генезиса конструкта привело нас к истории Логоса, развертывавшейся на периферии западноевропейской культуры, но, как показывает Корбен, в центре исламской духовной традиции (хотя и там этот «темный Логос» не был эксклюзивным и единственным, соседствуя, а подчас и резко соперничая с рационалистическим каламом, ашаритским атомизмом, фикром и салафитским пуризмом). Трудная акцептация каббалы в иудейском мире с ее почти полным и окончательным принятием в качестве безупречной ортодоксии — это еще одна страница той же истории. Еврей-ская каббала попадает в сферу интересов ренессансных неоплатоников, и у Пико делла Мирандола и Рейхлина (позднее у Кнорра Розенрота) мы видим наброски проекта создания на ее основе «христианской каббалы». И далее снова через масонство и герметизм каббала достигает Фабра д’Оливе, Элифаса Леви, Папюса, Сент-Ив д’Альвейдра, а далее и самого Генона. В Геноне и его «революционном» перенниализме все эти многочисленные потоки сходятся воедино, складываясь в наиболее современное, емкое и систематизированное мировоззрение.
Теория как Родина
Теперь нам осталось поставить последний вопрос — о том, насколько неоплатоники первых веков нашей эры сделали нечто полностью самобытное и оригинальное, с использованием текстов, идей и традиций, связанных с именем Платона, и насколько мы можем обнаружить нечто подобное у самого Платона? Здесь нам помогут работы крупнейшего исследователя Платона, неоплатонизма и герметизма французского кюре Андре-Жана Фестюжьера.[116] Фестюжьер привлекает наше внимание к тому значению, которое вкладывалось в понятие «теория» (θεορία) в эпоху Платона и в его собственной философии. Изначально это понятие означало «осмотр», «обзор», «лицезрение», «созерцание», «наблюдение». Но в Древней Греции в философской среде это имело два тонких терминологических нюанса:
1) «теорией» назывался обзор культур и обществ разных народов, среди которых философ должен был побывать в рамках своей подготовки к основному занятию жизни (поэтому мы постоянно читаем о путешествиях философов в те или иные страны: путешествие — это сугубо философ-ское занятие);
2) по аналогии с обзором разных народов, обществ и их религиозных и обрядовых систем, «теория» обозначала обзор разных систем и идейных связей, которые возводились к высшему принципу.
Эта связь между путешествием и теоретическим созерцанием чрезвычайно важна. Теория есть созерцание различного, возводимое к общей универсальной парадигме. Учение Платона об идеях тоже напрямую сопряжено с созерцанием. Созерцание идей и есть активное «теоретизирование», выявление общих и неизменных образцов для частных и постоянно меняющихся явлений. Как философский эллинский путешественник, исследуя религии и нравы разных обществ Средиземноморья, ищет соответствий с греческой религией и греческими обычаями, устанавливая аналогии и при необходимости пополняя свои собственные религиозные представления и одновременно свой язык, так же тот же самый эллинский философ созерцает идеи, являющиеся универсалиями для бесконечного ряда вещей и явлений. Обществ, религий, культов много. Созерцательный путешественник стремится вывести из своего обозрения то общее, что он сможет идентифицировать в уже виденном, равно как и в новых, пока еще неизведанных странах и краях. Строго то же самое происходит в погружении в мир идей, и соотнесении их с миром явлений. Созерцание, теория есть конструирование общего, возведение к образцу.
У Платона это обретает отчетливый и выпуклый характер. Теория как конструирование есть одновременно озарение, просветление, соприкосновение с лучами Блага. Идеи безучастны к вещам, но не безучастны к тому, кто стремится теоретизировать и страстно рвется к ним навстречу, in excelsis. Поэтому поле теории превращается в пространство эпифании, где идеи не просто отражаются, но обретают конкретное бытие, воплощаются в теоретическом экзистировании философа. Путешествуя по храмам и святилищам разных богов, присутствуя при совершении разных ритуалов, теоретик (созерцающий) готовится к встрече с настоящим Богом, которому разные боги разных культов служат масками, именами, посланниками (ангелами). В разных обрядах и священнодействиях философ рвется к главному философскому обряду, обряду обрядов, где будет осуществлено главное — различенное слияние ноэтического космоса с космосом эстетическим, «свершение всех свершений», волшебная встреча Блага с бушующим морем множественности. Позднее этот ритуал ритуалов будет осмыслен неоплатониками как теургия.
Теория Платона есть, таким образом, не просто подготовка к чему-то — к политической деятельности или к священнодействию; она есть высшая форма деятельности, предельное выражение концентрированного праксиса, поэтому труд богов есть созерцание и оно же есть их блаженный отдых и источник высшего наслаждения. Теория — это место, где бытие, рассеянное во множестве и ускользающее в различия, собирается в узел напряженной концентрации и обнаруживает себя в своем упругом единстве и световой наглядности. Философ-созерцатель оказывается выше жреца и царя, т. к. он поднимается к зоне чистой божественности, не разбавляемой никакими дополнительными функциональными обременениями, полностью свободной от множественности — временной (смена мгновений) и пространственной (смена мест). Кульминацией путешествия является возвращение на философскую Родину, где больше нет времени и нет относительных форм. Теория есть Родина. Именно ностальгия по ней толкает философа к путешествию — по странам и сетям световидных идей, в поисках точки Софии, которую философ страстно всем своим существом любит.
Такое понимание теории показывает, что философия Платона и была тем синтетическим универсализмом, который обобщал различные философские системы и знания, как путешественник обобщал свой опыт увиденных им обществ. Поэтому у Платона излагается не одна точка зрения на тот или иной вопрос, но всегда несколько; они становятся материалом для созерцания и как ступени возводят к высшему синтезу. На пике этого синтеза идеи начинают жить уже за пределом дискурсивного платонического текста, открываясь напрямую тому, кто проследовал за Платоном и персонажами его диалогов до самого конца, где лестница, ведущая в небо, обрывается. Там диалог кончается, но теория нет. Теперь философ должен сделать по ней еще один шаг, на сей раз без Платона и без текста — шаг мысли, шаг озарения, шаг созерцания. Шаг в небо. Только там и начинается настоящий платонизм — «тайное учение». Оно не было никому передано, оно может быть открыто только самостоятельно — через священный опыт теории.
Открытая философия
Платон как оформитель теории, как проводник по географии идей, создает заведомо открытую философию, где главное не сказано и где его подлежит обнаружить и прожить самостоятельно. Отсюда сам термин «философ», любящий Софию, Мудрость. Если бы речь шла о том, кто уже обладает Мудростью, мы имели бы дело с закрытой системой, а значит, с чем-то частным. Мудрости нельзя научить, она не может быть данностью. К ней можно только прорваться с огромным трудом, ценой невероятных усилий. Философия есть область, где собираются умы и сердца, страстно жаждущие Мудрости, влюбленные в Софию, взволнованные претенденты на ее руку. Ни у кого нет гарантий, есть только Любовь. И ведомые Ею, они пускаются в путь, в созерцание, в теорию. Они поселяются в окрестностях Софии и движутся все ближе и ближе к ней. Они взыскуют универсального и становятся сами все более и более всеобщими, эйдетическими и все менее и менее частными. Философы конструируют себя в окрестностях Мудрости, а значит, они выявляют собой, своим самоочищением в ее лучах ее все более и более различимые контуры.
В случае Платона это значит, что мы уже здесь имеем дело с Логосом как таковым, причем с Логосом в его почти первозданном виде, еще не определившимся, будет ли он открыт или закрыт, понят так или иначе, осмыслен и очерчен в том или ином сечении. Философия у Платона — это резкий порыв приближения к Sophia Perennis, бросок в океан вечного света, созерцательный божественный праксис. В этом смысле философия выше религии и мифа, религии и мифы повествуют о главном действующем лице — о Святой Софии. Поэтому и сам Платон вполне может быть назван «перенниалистом» и, соответственно, традиционалистом. Неважно, что он придерживается греческого гражданского благочестия и не забывает принести жертвы богам и героям своего полиса. Это включено в гораздо более важный и значимый философский культ — культ Софии, культ чистого Логоса.
Платон как событие
Зададим последний вопрос. «Перенниализм», традиционализм, универсализм и философский культ Софии — все это началось с теории Платона? С его учении об идеях? С его «тимеевской» космологии?
Для Генона и традиционалистов такая персонификация была бы скандалом. Полностью признавая прямую причастность Платона к «примордиальной Традиции», традиционалисты, безусловно, стали бы рассматривать его как звено в золотой цепи посвященных, уходящей к заре творения, земному раю и становящейся все более и более труднодоступной, закрытой и эксклюзивной в наше время, в кали-югу, в «последние времена», в эпоху «великой пародии». «Перенниализм» традиционалисты понимают буквально и даже несколько наивно. Хотя это вполне можно рассматривать как симметричный ответ на доминирующий в современности столь же буквальный и еще более наивный историцизм. В окрестностях вечности не столь важно — до или после, сейчас или тогда. Это не имеет значения, важно что. Платон, как и Заратустра в Иране, может быть одновременно и исторической личностью и сакральным персонажем — таким, как Хизр или Ангел-Посвятитель. Может быть несколько Платонов. Поэтому его дух можно вызывать (как поступил Плотин в храме Изиды), к нему можно обращаться. Можно даже ждать его возвращения — в вечности нет необратимости, там все обратимо, и даже — все уже обратилось. В более рационализированной форме можно допустить, что Платон лишь передает знания, полученные им по цепи посвящения, и в этом смысле является их ординарным ретранслятором, ставшим всемирно известным лишь в силу важности озвученных им истин, как своего рода философский пророк.
Но можно отнестись к Платону и иначе, как к событию в духе хайдеггеровского Er-eignis. Это поставило бы нас на дистанцию и от «перенниали-стов» и от «историцистов». Платон случился и философия состоялась. София была обозначена, философская география намечена. Если это должно было бы случиться, это случилось бы все равно — через Платона или через кого-то еще, могут нам возразить. Но, быть может, лучше думать по-другому: если бы Платона не было, не было бы ничего остального, не было бы, в частности, заметок на полях его текстов, не было бы философии. Если Платон на самом деле божественен, то он не может подчиняться механической необходимости. Ничто не может обязать его быть. И еще: если бы он ничем не рисковал, становясь Платоном, его философия была бы ничтожной. Поэтому и Софии могло бы не быть… Или иначе: вместо Софии, тайной невесты ордена влюбленных, ему могло бы открыться что-то еще…
Исключительность Платона (хотя, быть может, это как раз и неверно и не соответствует истине) экзистенциально более привлекательна и продуктивна, нежели его помещение в цепь — пусть и золотую. Божественность Платона состоит в том, что он был человеком.
Современный традиционализм, конечно же, адекватней профанической академической философии и состоятельней постмодерна. Но налицо все признаки превращения его в конвенцию, рутину, «схоластику», заведомо гасящую любое живое движение души или сердца. Здесь-то и обнаруживается, что «перенниализм» есть конструкт и был таким всегда, изначально. Обращение традиционалиста к реальной существующей традиции, вообще ничего не решает, как не исчерпывает философии Платона почитание им отеческих богов. Традиционализм есть нечто иное, нежели традиция. Это прорыв к тому, что является традицией традиции, тайным зерном, теорией. Но, будучи теорией, конструктом, он нуждается в том, чтобы его всякий раз воссоздавали заново. Конструкт — это не так плохо, если речь идет о чем-то, укорененном в световой природе человека. Создавая, человек создает себя. Поэтому традиционализм должен либо случиться, либо сгинуть. Его претензии слишком огромны. Планка, поставленная Геноном и теми софиологами, на которых он строит свою доктрину, слишком высока. «Перенниализм» означает, что Sophia есть Perennis, т. е., есть она и сейчас и здесь. Но как соотнести кали-югу, наше богооставленное «сейчас» и помойку современного западоцентричного глобального мира, наше мерзкое запустелое «здесь», с лучами Ангела-Посвятителя, со светом великой Любви, с природой человека как крылатого божественного существа? Гностики дают дуалистический ответ. И часто кажется, что он единственно приемлемый для нас. Но не есть ли это просто признание собственной слабости, нашей личной неспособности преобразовать «Покрывало» в «Зеркало», отсутствие в Присутствие, апофанию в эпифанию, сокрытие в ревеляцию? Не есть ли это подпись под заключением о смерти Логоса, о непреодолимости западного нигилизма, о признании закрытого автореферентного мира как единственно возможного и единственно реального? Традиционалисты часто говорят о «великой пародии», которую представляет собой современный мир. Это справедливо, но не являются ли они сами пародией? Ведь можно пародировать и Генона, и неоплатоников, и самого Платона.
Несоответствия между традиционализмом и Хайдеггером не остановили Анри Корбена в том, чтобы с любовью и деликатностью всю жизнь заниматься неоплатонизмом в исламе. Это поведение живого человека, он отзывается на шепот Софии независимо от того, с какой стороны он раздается.
Сегодня этот шепот тих как никогда. Но не может быть настолько тихим, чтобы быть неразличимым вообще. Надо научиться вслушиваться в тишину. Она иногда сообщает чрезвычайно содержательные вещи.
Глава 14
Платонополис (философия политики Платона и платоников)
Платон как отец политической философии
В третьем веке нашей эры философ-неоплатоник Плотин предложил императору Римской империи Галиену, который вместе с императрицей Салониной чрезвычайно его уважал, построить в римской провинции Кампания город философов, который управлялся бы по принципам, изложенным в диалогах Платона «Государство» и «Законы»[117]. Эта попытка не увенчалась успехом, равно как стремление самого Платона провести политические реформы в эпоху правления сиракузского тирана Дионисия на Сицилии. Тем не менее политическая философия составляет важнейшую сторону платонизма и неоплатонизма и является той теоретической структурой, которой так или иначе следуют самые разные политические системы, часто даже не осознавая истинный источник своих конструкций.
Платон является безусловным основателем политической философии, и его идеи о типах власти, о месте законов, разделении властей, роли сословий и т. д. являются базовыми для всей политической науки, построенной на его теориях (прямо или опосредованно, через его ученика Аристотеля), и остаются центральными вплоть до настоящего времени. Тема «Платон, платонизм и политика» является неисчерпаемой[118], поэтому мы ограничимся обзором самых общих моментов, имеющих прямое отношение к вертикальной топике платонизма в целом и структуре платоновского Логоса.
Золотое сечение Логоса
Подробнее всего свои политические теории сам Платон излагает в диалогах «Государство», «Политик» и «Законы». Английский исследователь платонизма О'Мира предлагает рассматривать соотношения между этими тремя текстами следующим образом: «Государство» описывает оптимальную, нормативную (наилучшую) версию политического устройства, наиболее чистую парадигму; «Законы» сочетают как идеал, к которому надо стремиться, так и реально существующие условия конкретного полиса, безотлагательно требующего политических реформ; «Политик» относится к промежуточному типу.
«Государство» многими рассматривается как кульминация всего платоновского творчества, т. к. в нем излагаются самые центральные моменты его учения: теория идей; метафора пещеры как голограмма структуры реальности и мышления; понятие блага и единого; соотношение бытия и существования, разума и мнения; учение о структуре души; представление о справедливости; значение и роль диалектики как вершины познания; образы посмертного воздаяния в аду; отношения между полами; центральная функция воспитания и т. д. Показательно, что главные мотивы всей своей философии, наиболее детальное описание Логоса в его узловых моментах, Платон дает в диалоге, посвященном политике. Тем самым политика также становится в центре его философии, отражая все основные силовые линии платонизма.
В «Государстве» Платон строит такую онтологическую картину, которая включает в себя несколько вертикальных срезов, построенных вдоль оси Логоса, детальное описание его различных граней. Этими гранями являются: познание, бытие, космос, устройство человеческой души, этика (учение о справедливости), метафизика (учение о благе), дуализм идея–явление и, наконец, политика. Все эти области организованы строго вертикально. Познание есть схватывание земным разумом небесных архетипов, их умозрительное созерцание. Бытие есть неизменный образец, расположенный там, вверху для низшего изменчивого мира рождения/исчезновения. Космос есть проекция, тень сверхкосмических миров божественного. Человеческая душа организована как трехэтажное здание: вверху — стремление к истине (разум), ниже — ярость (воля), еще ниже — вожделение (желание). Этика полагает справедливость как вечную норму, а несправедливость (привативная категория) — как отсутствие или недостаток справедливости. Благо и единое, описанные как апофатические понятия, стоят выше бытия и выше всего остального, выстраивая бесчисленные серии иерархий, ведущих именно в их недоступные дали. Идеи парят в областях высшего света, а космиче-ские вещи тяготеют к плотности, телесности, тяжести и загрязнению. Все это и составляет структурную сущность «Государства», «политeйи», которое, таким образом, заведомо мыслится как нечто гносеологическое, онтологическое, одушевленное, космическое, метафизическое и идеальное (то есть соотнесенное с идеей, эйдетическое). Мы переводим название этого диалога на русский язык как «Государство», тогда как традиционный латинский перевод настаивает на «Respublica», но ни то, ни другое не передают того значения, которое вкладывал в название диалога сам Платон, ни того, что под ним понимали читатели, к которым он обращался.
«Политeйя» (πολιτεία) означает у него нормативное политическое образование без каких-либо уточнений его масштаба, типа правления, отношения к территории и конкретного политического статуса. Под «политeйей» в таком смысле мы можем понимать как классически эллинский город-государ-ство, так и обширные империи, территориальные государства или даже отдельные области какого-то государства. Но можем понимать собирательно и всю реальность, которая представляет собой вселенский полис, идеальный Град. При этом неверно было бы говорить, что Град Платона (Платонополис) устроен как отражение космоса. С таким же успехом можно было бы сказать, что космос построен по модели Града, и его организация представляет собой вселенскую политeйю. Но и это не точно, т. к. и Град, и космос, и наука, и бытие, и душа, и человек, и мир богов, и организация общества — представляют собой аспекты Логоса, являющегося единым и неделимым, и развертывающего свои структуры сквозь самые различные планы и зоны природного и культурного, социально-политического миров. Для Платона политик, строящий полис и управляющий им, не тот, кто подражает природе, миру, идеям, богам и т. д. Он тот, кто есть одно из измерений того общего, что проявляет себя как природа, идея, мир, бог и т. д., поскольку он сам есть, а точнее, призван стать Логосом и воплощать в себе, собой и через себя его структуры и его сечения.
Но в то же время «политeйя», являясь сечением Логоса, не является одним из… В каком-то смысле это «золотое сечение» Логоса, в котором, как в главном узле, сходятся остальные его измерения и маршруты. В «политейе» реализуется сущность человека как великого медиатора, это централ всей диалектики, где вечное соотносится с временным, идеальное — с феноменальным, частное — с общим, высшее — с низшим, знание — с мнением и т. д. Поэтому именно «Государство» многие (и справедливо!) рассматривают как наиболее систематическое и обобщающее произведение всего платоновского корпуса. Не просто данное произведение удалось ему лучше других. Сама тема и само явление, рассматриваемые здесь, являются средостением ключевых моментов платоновской философии. Политическое измерение этой философии является центральным, и при внимательном прочтении этого диалога нам становится кристально ясно, почему именно.
В сравнении с «Государством» «Политик» и «Законы», а также другие тексты Платона, затрагивающие политику (например, «Письма») выглядят как довольно частные пояснения, открывающие свой смысл полностью только в том случае, если мы внимательно познакомимся с тем, что такое «политeйя».
Онтология идеального Града
Исследуя природу справедливости, герои диалога «Государство» Сократ, Главкон, Фрасимах, Адимант и Кефал приходят к построению абсолютного Града, т. е. такой политэйи, которая могла бы рассматриваться как архетип политики, как наиболее универсальное выражение Политической Идеи. Платоновская модель политики не есть ни одна из версий реальных или воображаемых политических систем, ни продукт его личных предпочтений и спорных, чисто индивидуальных, симпатий или аверсий. Платон описывает в своем Граде политику как она есть, в ее неизменном вечном зерне. Он приоткрывает завесу времени с его историческим и этническим многообразием политических режимов, прошлых, настоящих и будущих, и созерцает вечный умопостигаемый образец. Но, согласно его учению, тот, кто созерцает идею, прикасается к тому, что есть. А тот, кто созерцает идею идей, т. е. Благо, оказывается в прямом контакте с тем, что предшествует всему, что есть. Такое созерцание не есть простое описание или повествование о том, что не имеет никакого отношения к реальности. Это философское созерцание сродни пророчеству, в котором открывается прошлое, настоящее и будущее в неразрывном синтезе, как парадигма всего того, что было, есть и будет. В этом смысле политическое умозрение Платона есть сообщение об уникальном срезе бытия, чье могущество распространяется на все земные, преходящие типы политических систем и конкретных воплощений.
Идея для Платона отнюдь не продукт человеческого мышления. Человеческое мышление есть субпродукт идеи, ее подспорье, орган, способный ее отразить. Идея же есть и есть в большей степени, нежели есть какая-то вещь физического мира. Поэтому Государство Платона является идеальным не в том смысле, что его нет, и даже не может быть в конкретном воплощении; но, напротив, идеальное — это то, что по-настоящему есть и может быть, что дает бытию основание, что делает реальное реальным. Идеальное не антитеза реальному, это реальность в ее сущности, в ее ядре, это реальность в квадрате. Идеальное более реально, нежели реальное, т. к. соответствует бытию реального, сущего.
Oписывая идеальное Государство, Платон дает нам знание о том, чем является политика на самом деле, что составляет ее бытие, ее сущность. И получив это озарение Градом, мы можем, отталкиваясь от уникального опыта прочтения данного диалога, привести к единому образцу все, что нам известно об эмпирически фиксируемых государствах, политических системах, процессах и идеологиях. Степень сходства и отличия от Платонополиса будет соответствовать тому, насколько эти политические и исторические явления «реальны» и какова их смысловая нагрузка.
Чтобы еще более подчеркнуть активный, обязательный характер платоновской политической философии, предложим рассмотреть этот диалог Платона (и примыкающие к нему более поздние сочинения на ту же тему) как творение Града. Сам Платон как фигура его метафорических нарративов, поднялся к свету высшей идеи и принес людям знание о том, каков настоящий Город, что такое Политическая Идея в ее наиболее чистом и универсальном виде. Благодаря Платону описанная/созданная/открытая им политeйя обрела эмпирическое бытие. Подобно Прометею, принесшему людям огонь, философ Платон принес людям политику.
Как вся философия, по замечанию Уайтхэда, есть «заметки на полях Платона», так и политическая философия, политическая наука и политология — не более чем «заметки на полях Платона».
Вертикальная структура Града: царь-философ
Политeйя у Платона обладает свойствами:
• холизма (Град мыслится как единое качественное целое, как организм, не поддающийся механическому разделению на отдельные детали);
• одушевленности (государство мыслится как живой организм);
• вертикальной иерархичности (причем, иерархия коренится в качестве человеческих душ, в ценности их бытия, т. е. мы имеем дело с онтократией);
• сакральности (политическое целое проявляет собой высшие уровни реальности, т. е. является иконой).
Этой структурой предопределяется распределение функций и социальных типов в Граде.
Наверху политейи стоит правитель, чьи функции определены по аналогии с пастырем; он пасет общество как стадо — кормит, упорядочивает, обустраивает, направляет к цели, при необходимости наказывает и поощряет. Правитель определяется своим внутренним качеством; он должен быть лучше других — тех, кем он правит. Эта царская функция связана со знанием, созерцанием и особыми, возвышенными свойствами души. Так как знание, созерцание и возвышение души к небесным идеям составляют основу бытия философов, то Платон приходит к заключению, что царем государ-ства может и должен быть только философ. Философы как раз и есть те люди, дело жизни которых заключается в последовательном возвышении от мира явлений и телесных форм к высшим областям небесных идей.
Так рождается важнейшая для Платонополиса фигура философа-царя. О'Мира[119] в своем исследовании Платонополиса замечает, что равноправие мужчин и женщин в платоновской политейе позволяет допустить, что женщина-философ также может рассматриваться как легитимный правитель. Женщины участвовали в платонических школах, и образ Гипатии как предводительницы Александрийского неоплатонизма, уважаемой широкими кругами неоплатоников, может служить ярким тому примером. Поэтому философ-царь может быть и философом-царицей. Более того, Платон точно не указывает, должна ли быть власть философа монархической или речь может идти о группе философов-соправителей, т. е. о философской аристократии. Обе эти возможности — монархия и аристократия — рассматриваются у Платона как допустимые. Возможно, эта неопределенность и вариативность отражает положение дел с описанием мира идей. В некоторых диалогах (и в частности, в «Государстве») Платон утверждает, что идея Блага является выс-шей среди остальных идей и выступает как своего рода Царь идей. В других местах подчеркивается множественность идей, предопределяющая богатство различий в феноменальном мире.
Самое принципиальное состоит в том, что полнота власти в политейе принадлежит царю-философу, т. е. власть и философское мышление, созерцание и возвышение связываются Платоном напрямую. Тот, кто возвышается над миром, стоит над людьми, и должен в соответствии со справедливым порядком получить право на власть, и даже обязанность править, как долг и ритуальную функцию. Только философ должен править, а правящий обязан философствовать. Философ-царь может быть индивидуальной фигурой, а может быть и собирательной. В обоих случаях речь идет об архетипе, где сливаются воедино метафизическое созерцание и прямая политическая власть.
Для описания фигуры царя-философа Платон приводит свою знаменитую метафору пещеры, которая является самым известным местом всей мировой философии. Узники, закованные в кандалы и не способные повернуть голову в противоположном направлении, обречены на то, чтобы видеть тени, слышать голоса людей, проносящих фигуры, эти тени отбрасывающие, и довольствоваться этой химерической картиной. Философ — тот, кто освобождается от кандалов, смотрит в противоположную от всех сторону, распознает процессию, несущую фигуры, отбрасывающие тени, поднимается к источнику света, достигает выхода из пещеры и созерцает идеи и выс-шую из них идею Блага. Тогда он понимает и истоки, образцы всех вещей, и структуру их постепенного схождения, и смысл и символизм предметов, которые несут члены процессии, и их речь, и содержание и логику пьесы теней. По логике, подобное постигается подобным, философ сам просветляется созерцанием идей, высшие стороны его души очищаются, его природа начинает соответствовать золоту и другим драгоценным металлам. В этой части философского маршрута философ уходит от людей, а также от плотного космоса и его стихий. Он обретает счастье и блаженство, созерцая Благо и его свет.
Но политейя Платона требует возвращения философа в пещеру. Причем это возвращение является весьма драматическим и для самого философа, которого отрывают от чистоты и счастья и бросают снова в темницу, и для узников, чьи невинность и невежество начинают страдать от рискованного и трудоемкого призыва философа к познанию истины и совместному выходу из темницы. Философ, если он настоящий философ, не хочет становиться царем, а люди, если они живут обычной жизнью, не хотят себе такого царя, т. к. не понимают и опасаются его, а иногда и смеются над его «непрактичностью» в понимании мира теней. И здесь Платон предполагает определенное насилие: философов в его Граде необходимо воспитывать таким образом, чтобы они изначально были готовы властвовать. Это, с одной стороны, предотвратило бы захват власти людьми недостойными и нарушение тем самым законов справедливости, а с другой — привело бы в гармонию нижний мир с верхним, движение стихий с неизменными пропорциями Логоса. Остальное население следует воспитывать таким образом, чтобы оно было готово признать власть только за философами, т. к. только это приведет их, широкие массы, к гармонии и благополучию. Политейя делает объединение функций царя (вершина политики) и философа (вершина мышления) в фигуре царя-философа своим главным законом и закрепляет его юридически. Разделение философии и верховной власти, т. е. философ как чистый индивидуальный созерцатель, и царь как чисто практический правитель, озабоченный властью и организацией полиса, ставятся вне закона. Разведение этих функций — свойство большинства неидеальных государств и именно в этом состоит их слабость, причина их вырождения и коррупции. Правильная политейя поступает платонически и тем самым обретает главное оружие в возможном противостоянии с другими государствами, где эти функции строго разнесены. При этом Платон подчеркивает, что философ не хочет властвовать, не хочет переходить от чистого к смешанному, и именно поэтому его надо к этому принудить во имя Блага, справедливости и всеобщей пользы. Тех же, кто хочет править, властолюбцев, Платон иронично называет «кентаврами» и «сатирами», толкущимися вокруг кормушек и централов власти с целью поживиться. Тот, кто стремится к власти, должен быть от нее отлучен, т. к. это стремление к промежуточному есть признак ущербности природы души. Воля к власти, таким образом, есть главный признак неспособности к ее осуществлению. Стремиться нужно только к истине, мудрости и знанию, к высшему созерцанию — это и есть свойство по-настоящему чистой и благородной, золотой души. Теория превыше всего, и тот, кто влеком ею, заведомо лучше любого практика. Но именно поэтому-то его и надо принуждать к практике. А того, кто жаждет практики, следует направлять к теории; только после того, как он проявит в ней свое достоинство и благород-ство, речь может идти о новом спуске к практическим делам правления.
Философ — высший из людей. Он и есть человек как таковой, его наиболее полное и совершенное выражение. Если человек не является философом, то он есть лишь частичный человек, лишь тень эйдетического человека. Царь в политейе мыслится не как индивидуум (или группа индивидуумов), но как вид, как эйдос. Он в отношении другого человека выступает не как нечто рядоположенное, не как другой человек, но как человечность, как внутреннее, как сердце.
Царь-философ правит с опорой на две инстанции — на законы и на соб-ственное бытие. При этом законы, которые описывают философские истины политейи в общих случаях, должны быть подчинены философскому бытию царя, которое находится в непосредственном контакте с идеей Блага, тогда как законы суть опосредованные выражения разных сторон этой же самой идеи. У власти философского царя и у справедливых законов один общий исток, но отношения к этому истоку различны: они гармонируют друг с другом, но иерархически отличаются; царь-философ способен в определенных случаях действовать не по закону, а также менять или совершенствовать законы.
Слои политейи: философия псов
Царь-философ стоит на вершине социальной иерархии политейи. Он совершенно нематериален, аскетичен, предан лишь созерцанию Блага, а все остальные функции исполняет только под воздействием созерцаемой идеи. Неоплатоник Плотин описывал это как «переполнение» философа лучами единого, что требует дальнейшего излияния этих созерцаемых лучей на остальные сегменты общества. Философ выполняет, таким образом, спасительную функцию, а власть выступает как сотериологический инструмент, который осуществляет диспенсацию генадической принадлежности к трансцендентному началу.
Главная функция философа — знание, поэтому в человеческой душе царской власти и аристократии соответствует способность к высшим формам мышления — теория.
На противоположном конце, внизу общества, находятся крестьяне, скотоводы, ремесленники, торговцы, купцы, артисты, художники, метеки и рабы. Они разделяются по вертикали (ниже всех — рабы) и по горизонтали (Платон признает разделение труда и в нем видит неспособность людей, занятых конкретными профессиями, править всем обществом). Это основной состав политейи, занятый по необходимости взаимодействием с зоной материальности и телесности. Влечение к материальному предопределено качеством души простолюдинов: в них доминирует вожделение, тяга к материальному наслаждению, пище, телесному комфорту, и ниже — к похоти, разврату, низости, подлости и т. д. Здесь ключевым инструментом становятся деньги как антитеза философской мысли. К философии тяготеет все благородное, возвышенное, изысканное, проницательное, обращенное вверх. К деньгам стремится все ущербное, невежественное, низменное, грубое, банальное, рассеивающееся в множественности плотских ощущений. Душа представителей низшего сословия устроена так, что в ней преобладает установка на производство (ποίησις).
Над основной массой материальных граждан, сосредоточенных на производстве, располагаются «стражники» (φύλαξ). Этот тип людей движим «яростью», θυμός. Это воины, призванные защищать граждан Града от внеш-них угроз. В структуре платоновской политейи стражники играют ключевую роль. Они рассматриваются как носители особой природы, в которой преобладают золото и серебро, тогда как у низших сословий — медь и железо. Именно стражи представляют собой элиту Платонополиса и приоритетный объект внимания Платона. Это «политический класс», и от качества его состояния и воспитания зависит напрямую вся политейя в целом.
Обладание «яростью» наглядно выделяет стражников из других типов. Платон трактует ярость как то, что сдерживает естественную животную по-требность: в первую очередь, потребность к производству. Яростный человек ищет чести и славы, т. е. строит свою экзистенциальную стратегию на преодолении и превосходстве. Здесь, по теориям неоплатоников, начинается собственно политика и «политические добродетели».
Политическая добродетель отличается от других добродетелей (например, этических) тем, что жестко рассматривает тело как инструмент души. Душа яростна, причем та душа, которая в наибольшей степени есть именно душа, а не тело, т. е. самодвижущаяся и свободная от материи автономная инстанция, источник движения и средоточие жизни. Она яростна там, где полна, где «переполнена» жизнью, хлещущей через край. Ярость свободно проявляет себя в войне, в защите Родины и народа от внешних угроз. И там стражники реализуют полноту своей природы.
Но в одном месте Платон подходит к очень важной проблеме: если ярость есть главная добродетель стражников, то не будут ли они распространять ее друг на друга и не приведет ли это к хаосу и раздорам внутри самой политейи? Здесь внимание Платона (в лице Сократа) падает на собаку (кстати, многие задавались вопросом, почему Сократ в диалогах неоднократно клянется собакой). И именно собаку Платон называет философским животным, зверем, обладающим первичными навыками к философии. В чем они заключаются?
Платон во Второй книге «Государства» трактует это следующим образом:
«— (…) Ты ведь знаешь насчет породистых собак, что их свойство — быть как нельзя более кроткими с теми, к кому они привыкли и кого знают, но с незнакомыми — как раз наоборот.
— Знаю, конечно.
— Стало быть, это возможно, и поиски таких свойств в страже не противоречат природе.
— По-видимому, нет.
— Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается еще вот в чем: мало того, что он яростен — он должен по своей природе еще и стремиться к мудрости.
— Как это? Мне непонятно.
— И эту черту ты тоже заметишь в собаках, что очень удивительно в животном.
— Что именно?
— Увидав незнакомого, собака злится, хотя он ее ничем еще не обидел, а увидав знакомого — ласкается, хотя он никогда не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало?
— Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так.
— Это свойство ее природы представляется замечательным и даже подлинно философским.
— Как так?
— Да так, что о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает ли она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близкого или, напротив, чужого делается на основе понимания либо, наоборот, непонимания?
— Этого нельзя отрицать.
— А ведь стремление познавать и стремление к мудрости — это одно и то же».[120]
Способность управлять яростью как главной чертой стражника коренится только в мудрости, т. е. в теории, в философии. Поэтому собака, способная к отвлеченным понятиям «друг», «свой» (даже если он не сделал ей ничего доброго) и «враг» («чужой», даже если он не сделал ей ничего злого) представляет собой начальную форму отвлеченного философствования, выявления эйдосов «своего» и «чужого» как предопределяющих жесткие установки поведения (ласковые игры/угрожающий лай). Таким образом, собака становится символом не только преданности хозяину (как стражник предан политейе), но и символом мудрости, т. к. он способен активировать высшие аспекты своей души — как раз те, где коренится мудрость и где расположена способность к созерцанию идей. Отсюда можно вывести важное заключение: символизм собаки, пса может иметь отношение к касте воинов-философов или воинов-жрецов, что отсылает нас к гибеллиновскому Императору, символизировавшемуся гончей (veltro), к католическому ордену Dominecanes (псов Господних), равно как и к использованию собачьих голов в символизме русской опричнины при Иване Грозном — персонаже русской истории, ближе других стоявшем к фигуре царя-философа Платонополиса.
Способность стражников к управлению своей яростью открывает им доступ к философии. Благородство их души таково, что лучшие из них могут стать философами, а философское образование в их случае должно дополнять собой гимнастическое и мусическое. Сила тела, тонкость чувств должны венчаться навыками теоретического знания. Поэтому стражники становятся той средой, которая скрепляет всю политейю: из этой среды наиболее достойные и мудрые становятся философами и, быть может, царями, другие поддерживают философский уровень из поколения в поколение через образование, воспитание и своего рода кастовую гигиену (поощрение селекции — у героев и мудрецов должно быть как можно больше детей, у слабых и подлых — как можно меньше). Другая часть стражников, чьи способности к философии ограничены, остаются в ранге «помощников». Помощники взаимодействуют с основным населением, следят за порядком и соблюдением норм и законов, участвуют в военных операциях.
Всем стражникам запрещено иметь частное имущество, владеть деньгами и заводить семьи. В их среде процветает равенство и простота нравов, презрение к материальности и телесности. Вся их человеческая природа строится искусственно: тело формируется с помощью физических спортивных упражнений; душа и чувство прекрасного — с помощью освоения искусств и музыки (в «Законах» Платон настаивает на том, чтобы жители по-стоянно водили священные хороводы в честь правителей и богов, пели и танцевали, причем это должно быть вменено в обязанность гражданам); мудрость — с помощью созерцания и диалектики, высшей из наук. Здесь очень важно подчеркнуть прямое отождествление власти с аскезой и материальным минимализмом, а подчинения — с материальным благополучием, богатством, обладанием денежными ресурсами. Благородная скромность жест-ко правит над сладострастным богатством.
Слои политейи и хтоногенезис
В «Государстве» можно найти две формы вертикального деления общества: диадическую и триадическую. В одном случае есть простолюдины и стражники. А из наиболее одаренных к философии стражников-псов воспитываются философы-правители. В другом случае — простолюдины, стражники (как помощники) и философы-аристократы. Обе эти модели могут быть приняты одновременно, т. к. триадическая структура точно соответ-ствует тройственной структуре основных свойств души: вожделение, ярость и разумность (что дает нам простолюдинов, стражников и философов), а диадическая структура проводит водораздел между благородной элитой (стражники, включая философов) и народными массами (все остальные).
При этом все касты мыслятся как единый организм, в котором душа и разум соотнесены с высшим, а тело и органы — с низшим.
Воспитание стражников — главная задача политейи. Для того чтобы достичь этой цели, Платон предлагает цензурировать мифологию и поэзию, сохраняя в них лишь те сюжеты, которые описывают богов и героев в благопристойном виде.
В целом весь строй политейи выдержан в строго аполлонических тонах — вплоть до запрета игры на флейте, излюбленном музыкальном инструменте Диониса.
Важную идею Платон высказывает относительно алхимической природы хтоногенезиса граждан идеального государства. О происхождении людей из земли Платон упоминает в диалоге «Политик»:
«Чужеземец. Ясно, Сократ, что в тогдашней природе не существовало рождения живых от живых; уделом тогдашнего поколения было снова рождаться из земли, как и встарь, люди были земнорожденными»[121].
Платон предлагает внушить гражданам политейи, что их произвела земля, а не другие люди (тем самым он предлагает вернуться к изначальному времени, «золотому веку»). Для этого с одной стороны, упраздняются семьи, чтобы дети не знали своих родителей и приписывали свое появление на свет государству и его земле, а с другой — с детства рассказывается хтоническая генеалогия. Платон пишет:
«— Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах — как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей”[122].
И продолжает:
«Хотя все члены государства — братья (так скажем мы им, продолжая этот миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их — серебра, железа же и меди — в земледельцев и разных ремесленников. Вы все родственны, по большей части рождаете себе подобных, хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а от серебра — золотое; то же и в остальных случаях. От правителей бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей, и, если ребенок родится с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, т. е. включать его в число ремесленников или земледельцев; если же родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Ведь есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный»[123].
Платон уточняет здесь, что, если реальные свойства представителя той или иной касты политейи не соответствуют нормам, касту можно сменить — если у ребенка крестьянина обнаруживаются способности к войне и философии, значит, в его душе есть золото и серебро; а если аристократ отличается трусостью, подлостью, похотью, жадностью, лживостью или любовью к деньгам, в нем преобладает медь или железо, и он должен быть извержен из своей касты.
Таким образом, воспитывается еще и патриотизм: все граждане выросли из эллинской земли (словно Платон продолжает мистическую идею первичности земли Ксенофана Каллофонского), а значит, ее защита является их прямым природным долгом.
Здесь важно подчеркнуть, что структура граждан Града, вырастающих прямо из Земли под влиянием небесного Логоса без посредства людей, соответствует той фазе, когда космос управляется напрямую богом. Рождение же от людей и, соответственно, институт семьи относятся к тому историческому этапу, когда космос становится автономным и начинает (ложно) мыслить себя самосозданным, аутогенетом. Внутри космоса отдельные части также начинают считать себя автономными и аутогенными. Поэтому искусственный миф о происхождении людей из земли, который Платон предлагает внедрять как элемент образования стражей, на самом деле, более соответствует истине, нежели рождение человека человеком. Человека делает человеком Логос, воздействующий на материю. В герметизме это выражается принципом Серы, влияющей на Ртуть, чтобы получить Соль. Металлы, о которых идет речь у Платона и из которых состоят граждане его политейи, это прямые продукты духовного логоцентричного космогенеза, свойственные фазе открытого (сверху, в сторону своего духовного истока) космоса. Поэтому мы можем рассмотреть Государство Платона как прототип алхимического искусства, примененного к обществу и политике.
Реальность солярной политейи Платона и космические циклы
Принято считать, и это стало общим местом, что идеальное государство, политейя Платона, так и осталась чисто абстрактной схемой, и никто никогда не смог и даже не попытался построить аналогичную политическую систему в действительности. Однако это расхожее мнение шокирует тех, кто по-настоящему вчитался в диалоги Платона, посвященные политике. Онтологический статус его политейи является теоретическим, т. е. существует в мире идей и их прямых проекций. Ставим акцент на слове «прямые». Платон в «Политике» и отчасти в «Законах» говорит, что эти проекции, безусловно, реального Града, пребывающего в области умозрительного бытия (которое только и есть то, что по-настоящему есть), могут быть более прямыми или менее прямыми, почти обратными, в зависимости от космических условий. В «Политике» Платон пишет, что в некоторые моменты космос управляется непосредственно богом, Зевсом (а ранее Кроносом), тогда проекции идей в мир явлений — прямые. И в этот период эмпирическое государство максимально приближено к нормативной политейе. Бог правитель и демиург космоса есть образец царя-философа политейи, и между ними существует прямая онтологическая и генетическая связь. Греческая аристократия, к которой принадлежал и сам Платон, возводила свои роды к богам; предком Платона, например, считался бог Посейдон. Более того, сам Платон родился и умер в один и тот же день — когда на Делосе родился бог Аполлон — 7 таргеллиона (21 мая), и в этом его последователи (особенно неоплатоники) видели наглядное подтверждение того, что он был прямым воплощением бога света, «солнечным человеком». Солнечный Платон, родившийся в день Аполлона и восходящий к Посейдону, описал солнечную политейю, которая соответствует, с одной стороны, вечной истине политики, т. е. Philosophia Politica Perennis, а с другой — воплощению этой истины в периоды прямой гармонии идей и явлений, данной через экстраординарное воплощение бога в философе как напоминание. Почему экстраординарное? Потому что за первым периодом прямого управления божественным философом политейей, воплощающей правление богом-демиургом Вселенной, следует отход бога от космоса и второй этап. Прямолинейное движение — это божественное движение. В космосе его не бывает в чистом виде, здесь все вращательно. Поэтому космос, предоставленный самому себе, движется по инерции, постепенно заворачивая прямолинейный божественный импульс, превращая вечное в периодическое, а неизменное в постоянно повторяющееся. Прямолинейное движение становится круговым. Первое время автономно движущийся космос напоминает структуру управления демиургом (который, однако, уже отошел в сторону). Но через некоторое время начинает давать о себе знать неуверенность космоса, в отношении верного курса, что вместе со свободой, переданной космосу богом-кормчим, приводит к колебаниям, сбоям и отклонениям от первоначальной траектории. В этой фазе цикла космос сходит с орбиты, в нем возрастает степень хаотичности. В какой-то момент, его функционирование входит в прямое противоречие с намеченным курсом. Платон в «Политике» говорит о смене космической ориентации: солнце встает с противоположной стороны, небо и звезды начинают вращаться в обратном направлении. В «Законах» Платон говорит о «злой мировой душе», которая и соответствует космическому движению (душа — то, что движет, что является источником движения) в тот период, когда космос встает в оппозицию идеальному миру, воспроизведенному в телесной форме демиургом в начале творения и поддерживаемому им на первой стадии цикла.
В диалоге «Политик» Платон пишет:
«Бог то направляет движение Вселенной, сообщая ей круговращение сам, то предоставляет ей свободу — когда кругообороты Вселенной достигают подобающей соразмерности во времени; потом это движение самопроизвольно обращается вспять, т. к. Вселенная — это живое существо, обладающее разумом, данным ей тем, кто изначально ее построил, и эта способность к обратному движению врождена ей в силу необходимости по следующей причине…
Сократ (мл). По какой же именно?
Чужезецец. Оставаться вечно неизменными и тождественными самим себе подобает лишь божественнейшим существам, природа же тела к этому разряду не принадлежит. То, что мы называем небом и космосом, получило от своего родителя много счастливых свойств, но в то же время оно оказалось причастным телу: поэтому оно не могло не получить в удел перемен. Все ж, сколько можно, космос движется единообразно, в одном и том же месте, и обратное вращение он получил как самое малое отклонение от присущего ему самостоятельного движения. Вечно приводить в движение самого себя не дано почти никому, кроме того, кто руководит движением всех вещей, а ему не подобает вызывать движение то в одну, то в другую сторону. В соответствии со всем этим о космосе нельзя сказать ни что он вечно движет самого себя, ни что ему как целому всегда сообщает двоякое, разнонаправленное, вращение бог, ни что два разных божества вращают его в противоположные стороны согласно своим замыслам, но остается единственное, что было нами недавно сказано: космос движется благодаря иной, божественной причине, причем жизнь приобретается им заново и он воспринимает уготованное ему творцом бессмертие; когда же ему дается свобода, космос движется сам собой, предоставленный себе самому на такой срок, чтобы проделать в обратном направлении много тысяч круговоротов, благодаря тому, что он, самый большой и лучше всего уравновешенный, движется на крошечной ступне»[124].
Для политейи это означает, что она, двигаясь в резонансе с космосом, также начинает ухудшаться, становиться все более далекой от оригинала. Царь перестает быть философом, а философ — царем. Политика в обществе складывается по инерции. Именно в этом темном периоде, когда космос и Град подпадают под влияние «злой души мира», и рождается Платон, царь-философ, солнечный человек и потомок олимпийских богов, чтобы сообщить о том, каким является истинный Град и какова истинная природа и истинное бытие космоса. Идеальное государство Платона — единственное, что есть, что истинно и что реально. Но тот космический порядок, в котором Платон воплощается, есть своего рода антитеза бытия, истины и реальности; это — пещера, где души людей, скованные невежеством, похотью и ленью, пленники материи, т. е. это лже-государство, которое ирреально, фиктивно. Платон говорит об этом как о государстве сна, онейрической политейе, которая является ложной, и которой, по сути, нет.
Платон описывает государство, которое есть и должно быть. Те же, кто осмеивают его проекты, скованы иллюзорными наблюдениями за политическими химерами, за хаотическими тенями сошедшего с ума космоса, угнетаемого «злой душой».
Политическая эсхатология Платона
С теорией космических циклов, прямо аффектирующей политические системы, связана идея Платона о типах политических режимов. В разных местах Платон дает разную классификацию этих типов. Но его политиче-скую эсхатологию удобнее всего проследить на примере восьмой книги «Государства». В ней Платон описывает последовательность смены политиче-ских систем, причем эта последовательность идет от лучшего к худшему, т. е. соответствует логике циклической деградации.
Лучшим режимом является аристократический режим, когда правят наиболее достойные, т. е. философы. Среди философов и стражников выделяется философский царь, который может быть скрытым, апофатическим, как апофатично Благо, превышающее бытие и остальные идеи. Но в целом философы суть аристократия, избранные, уникальные существа, соотносящиеся с миром идей напрямую через умозрение, созерцание, теорию. Философы — лучшие из людей, а значит, аристократия (от άριστος — лучший) — это форма правления философской элиты. Зазор между философской монархией и философской аристократией Платон намечает, но не исследует детально. Тем не менее он говорит, что истинное правление превышает аристократическое, намекая как раз на апофатического (скрытого) царя философов, который позднее играл столь важную роль в монархических эсхатологиях как европейских гибеллинов, так и шиитов, и особенно исмаилитов. В любом случае аристократия как строй правления философов соответствует правильному состоянию космоса, когда им правит сам бог, или когда он еще не сильно отклоняется от заданной траектории, даже предоставленный самому себе. Может быть, зазор между первым и вторым случаем и является аналогом различия между философской монархией и философской аристократией.
Второй тип, выделяемый Платоном и относимый им к «извращенным», назван «тимократией». Это политическая система, где стражники, т. е. воины-философы, забывают о своей высшей функции, утрачивают философские навыки: в них начинает преобладать ярость, усиливается стремление к обладанию собственностью, деньгами и проявляются свойства, присущие низшим слоям — похоть, лень, алчность, трусость, подлость и т. д. Стражники еще сохраняют определенные аристократические, благородные черты (смелость, мужество, отвагу, патриотизм), но уже начинают деградировать, все больше и больше удаляясь от философии. «Тимократия» Платона в чем-то напоминает европейский средневековый феодализм.
Следующая стадия — олигархия. В ней, как и в условиях аристократии и тимократии, правит меньшинство, но на сей раз это меньшинство уже не стражники, т. е. воины (с более или менее развитыми философскими навыками), «собаки», которыми клялся Сократ, но крупные собственники, основывающие свою власть на аккумуляции больших богатств, на коррупции, подкупе и экономических стратегиях монополистского толка. Наиболее масштабным примером олигархии в древности был финикийский Карфаген. Олигархия следует за тимократией по мере того, как собственники и коррупционеры окончательно вытесняют от власти приземленных и опустившихся стражей (бывших аристократов). Олигархи заинтересованы в поддержании отдельных сторон государственности и в определенных обстоятельствах становятся на ее защиту: ведь государство есть их собственность и инструмент обогащения и власти.
Еще более худшим политическим режимом Платон считает демократию, представляющую собой плод восстания городской черни против олигархов. Это режим хаоса, полного падения нравов, раздоров и усобиц, приводящий рано или поздно к гибели государственности. Героизм, патриотизм, нрав-ственность исчезают, повсюду правят индивидуализм, гедонизм, тщеславие, разврат и трусость. Родину никто не защищает, законы не соблюдаются. Это общество на последней стадии разложения.
Финалом демократии, по Платону, неизбежно становится тирания. Какой-то народный трибун, демагог и паяц, пользуясь чрезвычайной ситуацией с опорой на уличную толпу, провозглашает себя «спасителем отечества» (как правило, от внешней угрозы) и захватывает единоличное правление. Дорвавшись до власти, тиран действует в своих личных интересах, используя власть в эгоистических целях, подавляя всякое политическое самосознание и разрушая мораль и гражданское достоинство. Основой его правления становятся зрелища, театральные представления и действа; он угнетает народ, постоянно развлекая его, продвигая во власть наиболее покорных, льстивых и услужливых по степени личной преданности. Тирания несколько улучшает ситуацию после демократического мракобесия, но довольно быстро обнаруживает свою ничтожность и необоснованность.
Конец тирании есть конец всего политического цикла, после чего наступает новый цикл. Причем альтернативой тирании является не демократия, но трансценденталистская философская монархия.
Слои политейи, трехфункциональная система Дюмезиля
Здесь мы несколько отступим от логики самого Платона в описании его политейи и обратим внимание на следующее обстоятельство. В различных формах описания структуры общества идеального Града у Платона часто фигурирует триадическое деление, которое можно соотнести с пластами души (разум, ярость, вожделение), тремя видами занятий (теория, практика, производство) и с тремя родами людей (φιλοσόφον, φιλονικόν, φιλοκερδής). Иерархия и соподчинение свойств души в отдельном человеке точно соответствуют иерархии и соподчинению человеческих типов в нормативном обществе.
В душе должен главенствовать разум. Среди родов деятельности преобладать должно умозрение (теория, созерцание). Обществом должны править философы (философская аристократия).
Вторым по счету свойством души идет ярость (θυμός, мужество, активность, «пассионарность»). Ее выражением является практика как деятельность, не направленная на конкретное созидание, но представляющая собой интенсивный поток энергии, ярче всего проявляющийся в войне, политике и состязаниях. Политикой неоплатоники называли «подчинение тела душе» и сознательное использование тела как инструмента. Душа есть нечто самодвижимое, и в ярости, страстной активности это проявляется ярче всего: воля и порыв исходят изнутри, а не спровоцированы извне, из мира материи тел. Это активность, а не реактивность. Яростный человек навязывает миру движение, исходящее из него самого. Ярость свободна от материи и игнорирует ее законы. Она не ориентирована на телесное воплощение, и в этом смысле ей ближе стихия разрушения, нежели созидания. Если она и оставляет следы во внешнем мире, так только в форме побочных эффектов или в славе о подвигах, живущей в веках. Этому началу лучше всего соответствуют воины в чистом виде, выше всего ставящие честь и любовь к славе (φιλονικόν). Воины правят над крестьянами, ремесленниками и торговцами, но подчиняются философам.
Третье свойство души — вожделение — должно быть подчинено ярости, как тело душе. Оно связано с телом, материей и производством. Здесь мы тоже имеем дело с активностью, но не с чистой, а с опосредованной телесностью, привязанной к материи и частично отвечающей на вызовы внешнего мира. Энергия производителя должна иметь телесное выражение и ярче всего она проявляется в труде и предметах труда — пище, товарах, продуктах ремесла и произведениях искусства. Страсть к деньгам (φιλοκερδής) полнее всего выражает это начало, т. к. деньги являются эквивалентом материальности как таковой, общим знаменателем телесности. Они выражают самое низменное, что только есть в космосе, и стремление к обладанию ими отличает самый уродливый и извращенный тип человека. Поэтому философы и воины должны пренебрегать деньгами и материальными предметами, не иметь частной собственности и полностью подчинять себе тех, кто, напротив, по своей природе к ним тяготеет. Третий тип человека способен только производить материальные вещи, и в наказание за это, т. е. за неспособность к самобытию души и освобождению от уз телесности, они должны трудиться и отдавать излишки труда высшим кастам.
Философам и воинам Платон запрещает иметь золото и серебро и стремиться к ним, потому что к ним стремятся те, кто их не имеет внутри себя (третья каста). Но философы и воины состоят из золота и серебра, поэтому в них не нуждаются, и именно они служат высшим мерилом общества: не имея денег, они распоряжаются теми, кто их имеет и их жаждет.
Эта платоновская иерархия снова соответствует отнюдь не его индивидуальным предпочтениям, но классическому устройству практически всех известных нам индоевропейских обществ, как это убедительно показал в своих трудах французский историк и социолог Жорж Дюмезиль[125]. Эти общества имеют трехфункциональную структуру, состоящую из жрецов-царей, воинов и производителей. При этом Дюмезиль вычленил эту картину отнюдь не на основании политической философии Платона, но исследуя архаиче-ский фольклор, мифологию и эпос древних скифов, алан, индусов, римлян и германцев, а в первую очередь, Нартский эпос древних осетин, где трехфунк-циональная структура выражена яснее всего. Дюмезиль показывает, что представление об обществе как состоящем из трех типов людей, расположенных иерархически: жрецы (созерцатели), профессиональные воины и труженики (куда позднее включены и торговцы), является константой на всем протяжении истории индоевропейских культур. В Индии это дает три высших касты: брахманы, кшатрии, вайшьи. В Иране: жрецы, воины и господа огня (домохозяева). В древнем Риме эта же модель явно проглядывает в истории про три племени: Rhamnenses, Titienses и Lucerenses. А дуализм и конфликты между бедными потомками Ромула и богатыми сабинянами Тита Тация точно соответствуют противостоянию военной и жреческой аристократии, с одной стороны, и богатых производителей — с другой. Из наложения этих групп рождается парадигма римской социальной системы. В германских мифах это отразилось в противопоставлении воинов и жрецов асов и земледельцев ванов. Дюмезиль показывает, что эта трехфункциональная модель является базовой схемой для исторических реконструкций, легенд и мифов от глубокой бесписьменной древности до нашего времени. Даже Средневековье с делением общества на клириков, ноблей и серфов вписывается именно в эту картину. Эквиваленты этой тройственной модели можно обнаружить даже после революции третьего сословия, когда буржуазия (торговцы) установила свои социальные правила, соответствующие олигархическим и демократическим типам политических систем (по Платону). В буржуазном обществе сохраняется военное сословие (хотя и в тимократической, деградационной форме), а роль жрецов выполняют идеологически обслуживающие буржуазию интеллектуалы, т. е. снова философы, только рационалистического «современного», демократического и буржуазного толка.
Дюмезиль показывает, что трехфункциональная модель является кодом для расшифровки не только исторических систем индоевропейских народов, но и ключом к истории и мифологии. История индоевропейцами пишется как эпопея, а эпопея организуется на основе мифа, миф же на разный манер упорно повторяет одну и ту же схему: трехчастное деление мира, богов, героев, волшебных и реальных персонажей и их диалектические взаимоотношения, конфликты, альянсы, трения, интеграционные и разделительные процессы. Будучи близок к структурализму, Дюмезиль показывает, что какими бы ни были реальные события и реальные общества, составителями хроник, сказителями и поэтами они осознаются как новые и новые иллюстрации производства и воспроизводства одной и той же трехфункциональной модели, с присущей ей коллизиями, альянсами, симметриями и диалектикой. Дюмезиль говорит об анти-евгемеризме, т. е. о методе интерпретации истории и мифологии в ключе прямо противоположном греку Евгемеру, который считал, что мифы о богах и героях описывают реальных исторических личностей, возведенных поэтами и народным преданием в статус богов. На самом деле, считает Дюмезиль, так называемые «реальные исторические личности», оставившие след в истории, есть не что иное, как фигуры богов, закамуфлированные под людей, но богов в смысле неизменных начал, наи-более полная форма которых запечатлена в трехчастной системе. Поэтому миф и история, по Дюмезилю, должны интерпретироваться на основании общего и единого герменевтического подхода. Миф есть история, история есть миф; и то и другое суть повествование о трех началах и трех типах (по крайней мере, в контексте индоевропейской культуры). Трехфункциональность, таким образом, первична, нежели та область, к которой она применяется.
Иными словами, общество, описанное Платоном как идеальное, есть как раз то общество, с которым мы имеем дело на протяжении всей зафиксированной или легендарной истории. Это обстоятельство дополняет аргументацию к вопросу о том, что именно описывает Платон в лице своей политейи, своего Града. Он описывает трехфункицональность, код индоевропейской социальной, религиозной и политической организации. И снова это именно то, что есть, а не просто то, что могло бы быть или должно быть. Трехфункциональность — это единственная реальность индоевропейской социально-политической истории, утверждает Дюмезиль. В идеальном государстве Платона мы встречаем именно эту реальность, фиксируемую исторически бессчетное количество раз. Все древние и даже современные индоевропейские общества в той или иной степени и есть версии идеального государства и могут быть поняты, осмыслены и измерены только через отсылки к нему как их живой и действенной матрице. Даже там, где мы имеем дело с отклонением от нее, это отклонение становится осмысленным и содержательным, когда мы тщательно исследуем, отклонением от чего оно является, в каком моменте, на каком уровне и в каком направлении. Реальные государства — лишь серийные образцы идеального государства, изготовленные с большим или меньшим числом отклонений, погрешностей и искажений. Многие их них — просто брак, не функциональный и не подлежащий использованию.
Политическая философия у неоплатоников
Политические взгляды неоплатоников описывает в своей работе, посвященной преимущественно именно этой теме, уже упоминавшийся Доминик О’Мира[126]. Он начинает с неудавшегося проекта построения Платонополиса Плотином и комментариев Плотина на сюжет о получении Миносом, легендарным царем Крита, законов от Зевса, что Плотин интерпретирует в духе платоновской политейи. Далее рассматриваются начатые реформы византийского императора Юлиана Отступника, последователя Пергамской школы неоплатонизма, основанной Ямвлихом. Сам Юлиан описывает свое посещение собрания богов и возвращение от них на землю с целью организовать Империю в соответствии с божественным строем также строго в духе платоновского учения о царе-философе.
При рассмотрении этих тем О’Мира пользуется иерархизацией текстов самого Платона, о которой мы упоминали: в «Государстве» он видит полностью идеальную модель, в «Политике» и «Законах» — идеальную модель с учетом существующих реалий, т. е. «второе лучшее» установление политической сферы. Реформы Юлиана относятся, в таком случае, ко «второму лучшему» типу политического порядка. Хотя Юлиан не успел провести сколь сколько-нибудь значимых политико-социальных и религиозных реформ, предполагающих возврат к дохристианской политеистической модели организации общества в духе платоновского учения и его неоплатонического толкования, сам факт такой попытки чрезвычайно важен: Юлиан поставил перед собой четко оформленную и внятно изложенную цель — построение Византийской Римской Империи на платонических основаниях, т. е. создание византийского Платонополиса.
О’Мира описывает понимание «политического» и особенно «политиче-ских добродетелей» и у поздних неоплатоников, которые, будучи политеистами, были жестко отстранены от любого влияния на политику христианством. Случай с женщиной, диадохом Александрийской школы неоплатонизма, философом Гипатией, которая оказывала серьезное политическое влияние на префекта Александрии Ореста и была растерзана египетскими христианами-парабаланами в ходе народных волнений, показателен в том смысле, что при определенном стечении обстоятельств неоплатоники старались влиять в духе своих идей на политику и в христианский период.
Политические добродетели неоплатоники рассматривали как промежуточные между этическими (начальными, подготовительными) и собственно философскими, умозрительными. Поздний неоплатоник Прокл описывал политическую науку как общую для педагогики души и организации общества[127]. Политика бывает внутренней и внешней, но и та и другая соответствует общей парадигме. В этом мы видим продолжение чисто платонического понимания взаимосвязи между миром богов и идей, Вселенной, душей и государством: прямые аналогии требуют одинаковых методик. Важно, что политические добродетели связаны именно с душой, как уровнем промежуточным между разумом (νοῦς) и телом (σάρξ), а в структуре души — тоже промежуточным между ее созерцательными свойствами и чувственным восприятием. Политика, таким образом, становится преимущественной сферой медиации, что делает ее центральной для диалектической цепочки, коренящейся в Первоначале и развертывающейся в сторону внешнего предела (материи, количества). Отсюда возникает теория Психополиса, города душ, представляющего собой картину одушевленного космоса, части которого взаимодействуют между собой как люди, общины и группы в структуре города.
Эйдетическая геополитика Прокла: Афина против Посейдона
В контексте неоплатонизма и, в частности, идей и теорий Прокла, важно обратить внимание на одну версию, связанную с описанием типов политейи на основании того, что мы с удивлением опознаем как геополитическую модель, созданную Проклом в V веке, однако предвосхищающую (практически дословно) основные принципы геополитики века ХХ. Эта модель подробно описана в Комментариях Прокла к платоновскому диалогу «Тимей»[128], но строится на толковании другого диалога, «Критий», примыкающего к «Тимею» и разбирающего знаменитую легенду об Атлантиде.
Прокл интерпретирует историю войны Атлантиды и Афин следующим образом. Афины и Атлантида представляют собой две географические зоны, которые наделены различным метафизическим свойством. Это свойство вытекает напрямую из теории эйдетических диспенсаций божественного но-этического порядка, организующего феноменальный подлунный мир. Каждая точка пространства имеет своего эйдетического властителя, т. е. «душу», а также надстроенную над «душой» сложную иерархию невидимых живых существ, идущую от «героев», «демонов», «ангелов» к космическим богам, богам небесным и, наконец, богам ноэтическим — высшим божественным генадам. Связь земного места с высшей ноэтической божественной парадигмой, фигурой того или иного бога, опосредована множеством промежуточных инстанций. Эта опосредованность дает возможность событийной череде в каждом конкретном месте: высшая идентичность места остается неизменной, но динамика промежуточных (ангелических и демонических) миров позволяет развертывающимся событиям обладать историческим смыслом. В частности, Прокл говорит о «дне рождения богов», отмечаемом в тех или иных священных местах и расположенных в них храмах. Это не появление бога из небытия, это обнаружение бога во главе пронизывающих это место душевной и духовной вертикалью иерархий (невидимых отрядов).
Священное символическое пространство обобщается Проклом, разбирающим диалог «Критий», в две базовые зоны, расположенные внутри Столпов Геракла (Гибралтарский пролив) и вне их. Внутри этих столпов, т. е. в пространстве Средиземноморья, рассматриваемого традиционно как центр мира и Эйкумена, лежит одно пространство, символом которого являются Афины и афиняне. При этом Прокл включает сюда Египет на том основании, что египетский город Саис находится под покровительством той же богини (он отождествляет Афину с греческой Корой и египетской Изидой). Это «большое пространство» Прокл описывает как пространство Суши.
Вторым «большим пространством», лежащим вне Столпов Геракла является Море, столица которого была ранее расположена на древнем острове-континенте Атлантида. Таким образом, все метафизическое пространство земли делится на две зоны — сухопутную (афиняне) и морскую (атланты). Так мы получаем четкую картину теллурократии и талассократии, с которой оперируют современные геополитические теории.
Между этими двумя пространствами идет война. Эта война является не просто историческим эпизодом, но базовой парадигмой устройства космоса. Оба пространства строятся на различных установках и находятся в зоне прямого и опосредованного влияния антагонистических принципов. В этих пространствах открывают себя высшие боги, и соответственно, оба из них представляют собой пространственную манифестацию этих богов. Боги проявляют себя не прямо, а через насыщенные эйдетические ряды иерархических сил и представительств — младших богов, ангелов, демонов, героев, душ и так вплоть до людей, которые, в свою очередь, выступают как выразители пространственного смысла того места, в котором находятся. Здесь можно вспомнить идею Платона о «рождении людей из земли». Прокл приводит тот аргумент, что люди, переехавшие с одного места на другое, часто меняют внешний вид, объясняя это влиянием «душевных и духовных иерархий места». Поэтому люди включены в эйдетические цепочки, ведущие от данного места к соответствующему ему высшему божеству.
Над «большим пространством» Суши царит Афина. Над «большим пространством» Моря — Посейдон. Война между этими «большими простран-ствами» представляет собой основу существования космоса в его смысловом и пространственном выражении. И афиняне, и атланты суть звенья двух аспектов бытия, противопоставленных друг другу — поэтому-то, подчеркивает Прокл, «война и есть отец вещей» (Гераклит). Это война между Сушей и Морем, Афиной и Посейдоном, афинянами и атлантами. Суть этой войны есть суть мира. При этом афиняне и атланты не свободны выбирать войну или мир; война между этими двумя началами вписана в саму структуру пространства.
Эта война выражается в политике. То есть два символических простран-ства, Суша и Море, область Афины Паллады и область Посейдона, выражаются в двух политейях. Эти две политейи, два «государства», представляют собой два антагонистических типа. Оба они имеют свои вертикали — касты, иерархии, культы и обряды. Оба восходят по оси к своим вершинам, царям, которые так или иначе касаются их божественных начал. Поэтому афиняне и атланты возводят свое происхождение к Афине и Посейдону, которые и являются настоящими господами обоих государств. Посейдон в сюжете одного греческого мифа бьется с Афиной за Аттику (то есть за контроль над пространством Суши) и проигрывает спор (после чего он пытается затопить Грецию, но ему препятствует в этом Гермес).
Прокл приводит миф о происхождении афинян (первого человека Эрихтония). Гефест, творец форм материального мира, любил девственную богиню мудрости и войны Афину Палладу. Созерцая недоступную Афину, от вожделения он изверг семя, упавшее в землю, откуда и родился первочеловек Эрихтоний (снова тема рождения из земли), от которого пошли афиняне. Этот миф точно вписывается в платоновскую космологию («Тимей»): бог-демиург, созерцая идеи, делает из материи по подобию идей их телесные копии. Поэтому в афинянах есть божество (след Афины), форма (след демиурга Гефеста) и материальность Суши, хтоноса, аттической матери-земли. Эту структуру Прокл распространяет на все пространство по эту сторону Столпов Геракла.
Далее, Прокл отождествляет политейю Афин с идеальным государством Платона. Он расшифровывает главные свойства Афины Паллады — мудрость и войну — как качества двух высших каст политейи, философов и воинов (или иначе — стражников и помощников). В самой Афине мудрость и воинственность соединены нераздельно. В политейи Афин они представлены двумя высшими типами (иногда и тех и других Платон называет «стражами»). Воины должны тянуться к философии. Гефест представлен третьей кастой — тружеников, артизанов, ремесленников. Все они объединены метафизикой места, воплощенной в земле. Государство Суши строится вдоль оси, ведущей к Афине. Отсюда связь человека, политики, космоса и теологии. Прокл, вслед за Платоном, утверждает, что государство может существовать в душе одного человека — ведь оно есть в мире идей, на небе и в мировой душе. Государство является одушевленным и разумным, начинаясь с души и даже тела человека, оно возводится вверх к горизонту богов. Душа этого государства и есть «душа мира».
Прокл называет афинскую государственность «лучшей серией», т. е. выражением «лучшего эйдетического ряда». Он соотносит ее с ноэтическим миром, предшествующим миру феноменальному. Это пространство является олимпийским (развернутым вокруг священной горы Олимп) и внутренним. Среди метафизических принципов ему соответствует принцип предела (πέρας), считающийся в системе категорий Платона высшим. Это прямое воплощение порядка.
По ту сторону Столпов Геракла (Гибралтарского пролива) лежит иное пространство. Это «менее лучшая серия» (Прокл в силу градуальной и недуальной логики неоплатонизма не говорит «худшая» или «плохая», но имеет в виду именно это). Цивилизация Моря — Атлантида, это вторая политейя. Государство афинян восходит к олимпийским богам и миру идей. Государ-ство атлантов восходит к миру титанов — Атлас был титаном. Метафизиче-ским началом, доминировавшим в Атлантиде, было беспредельное (ἄπειρον). Атлантиде соответствует материальный космос и все качества титанизма. Прокл подчеркивает, что само «величие» Атлантиды есть признак ее «вторичности», т. к., будучи чисто материальным, оно обратно пропорционально внутренней духовной ноэтической нищете.
Афины представляют собой бытие и вечность. Атлантида — время и становление. В одном месте Прокл четко формулирует этот дуализм, воплощенный в двух типах государства: время — это то, что течет вниз, к материи и ее дну.
Афинской политейе соответствуют «идентичность», «покой», «разум», «форма»; атлантической — «инаковость», «движение», «неразумность», «материя». Афинское государство пребывает под знаком единого; атлантическое — двойственного. Афины строятся на мудрости, доблести, чести, верности, красоте. Атлантида — на грубой силе, подвижности, инновациях, материальном процветании, массе и объеме.
Атлантическая цивилизация начинает укреплять свое могущество и по-степенно переносит его на регионы, которые находятся внутри пространства Столпов Геракла, т. е. в области «большого пространства» Суши, Афин. Это возможно, разъясняет Прокл, т. к. высшее в материальном космосе способно при определенных обстоятельствах и на определенное время подчинить себе низшее в космосе божественном. Это и вызывает войну Суши и Моря и подвигает афинян на то, чтобы дать бой атлантам.
Выход за пределы материальности, покушение на недолжное и является причиной гибели Атлантиды и краха цивилизации Моря. Как и в эпизодах гигантомахии, олимпийские божества побеждают титанов и сбрасывают их в Тартар. В истории об атлантах это проявляется в том, что Атлантида уходит под воду и проваливается в ад. Этот провал, по Проклу, также метафизиче-ски необходим: то, что становится на путь материи и бросает вызов идеям, должно достичь нижнего предела космоса и тем самым этот нижний предел зафиксировать и, в каком-то смысле, создать.
Таким образом, мы видим модель «двух Градов» (чуть позже мы увидим то же самое у Бл. Августина), т. е. двух политических систем, противостоящих друг другу и находящихся в состоянии фундаментальной метафизической войны. Афины — это идеальный град, град богов (теополис), идей, душ и духов, град вечности и солнечного разума. Атлантида — это титанополис, град демонов, восставшей материальности, агрессивной множественности, наступающей анархии и грубой силы.
У Платона в «Законах» в одном месте говорится о «злой душе мира». Так как государство у платоников есть явление онтологическое, космическое и антропологическое и имеет душу, то можно соотнести «благую душу мира» с идеальным государством (Афинами в «Критии»), а «злую душу мира» — с миссией Атлантиды. При этом, если вертикальная иерархия государства Суши уходит вверх к ноэтическим горизонтам и далее к апофатическому единому, не имея верхнего предела и выстраиваясь в череду посвящений низшего в более высшее и так вплоть до самого единого, то вертикальная иерархия государства Моря упирается в верхний предел материального космоса, от лица которого пытается начать штурм духовных небес. Эта иерархия состоит из людей, душ, героев, демонов, ангелов, а также космических богов, что делает ее чем-то большим, нежели просто материя, это, скорее, именно «душа», «жизнь» и даже «дух», перешедшие на сторону материи, оживляющие и движущие ее, обращая при этом против разумной олимпийской вечности и ее политического воплощения.
Дуальная картина Прокла дает нам расширенную модель политической философии платонизма, хотя сам Прокл всячески стремится показать относительный характер такого противопоставления, что выражено в победе афинян и самой гибели Атлантиды, демонстрирующих доминацию в космосе порядка, божественности и разумности. «Лучшая серия» побеждает «менее лучшую серию», восстанавливая истинный порядок, а космическая катастрофа и исчезновение Атлантиды подтверждают истинный порядок вещей: «благая душа мира» воцаряется над «злой душой мира», Суша доминирует над Морем, а дух над материей.
Если бы мы, отталкиваясь от Прокла, пошли по иному пути и заострили бы противостояние между теополисом и титанополисом в их политическом, теологическом и геополитическом выражении, то легко получили бы матрицу политического гностицизма, лежащего в основе разнообразных дуальных версий политической философии.
Полис и пять первых гипотез «Парменида»
Так как в неоплатонизме между онтологией, гносеологией, космологией, антропологией, психологией и политической философией на всех уровнях установлены прямые параллели, то можно предложить соотнесение диалектики «Парменида», считавшегося кульминацией платонизма у неоплатоников, с устройством идеальной политейи. Учитывая намеченный выше дуализм теополиса и титанополиса в реконструкциях Прокла, мы отнесем первые пять гипотез к политике Афин, а вторые четыре гипотезы — к Атлантиде. В таком случае государство, соответствующее «наилучшей серии», будет представлять собой следующую модель.
Первая гипотеза «Парменида», несуществование единого, примененная к политике, делает государство открытым сверху. Оно не может быть самотождественно, т. к. Единое не экзистирует непосредственно. Значит, Государство строится вокруг чего-то большего, чем оно само.
В центре политейи должно находиться отсутствующее место. Важно, что это место должно оставаться вакантным по определению — не потому, что его нечем заполнить, а потому, что его нельзя ничем заполнять. Истинный центр политейи не может находиться внутри политейи, он должен быть трансцендентен ей.
Таким образом, политейя строится генадически по принципу причастности к тому, что выше ее, к тому, чем она сама не является.
Из этого положения можно вывести два важных вывода:
1) полноценное платоническое государство имеет в своем центре тайну, мистерию, фигуру «скрытого царя» (пророка, философа), чье бытие определяется диалектически через его отсутствие;
2) полноценное платоническое государство ориентировано вверх, за свои пределы, т. е. подчинено надполитической миссии как высшему сверхрациональному смыслу (как только оно становится просто государством и самотождеством, оно тут же утрачивает волну онтологического резонанса с парадигмой и превращается из копии в карикатуру, шарж, пародию, анти-политейю).
Утрата этого апофатического измерения в политике и политической философии, секуляризация, десакрализация и имманентизация государства — первый шаг к отходу от идеала и платонической нормы.
Вторая гипотеза утверждает наличие Ума как единого многого. Применительно к политейе это означает, что власть должна находиться в руках философов как особой ноэтической касты. Подобно множеству идей, окружающих высшую идею Блага, философов должно быть много. Располагаются они вокруг престола «царя философов» или фигуры апофатического монарха. Высшим занятием политиков в таком государстве является созерцание, θεορία, умное наблюдение вечных идей. Такое наблюдение формирует политическое содержание государства, обосновывает то, что оно есть и то, чем оно является. Это своего рода «софиократия», процесс непрекращающегося соотнесения феноменального с идеальным. В определенном смысле, это непрерывное священнодействие, поминание Первоначала, служение небу и сверхнебесным богам (или Богу).
Если этот философский момент, лежащий в основе политейи, упускается из виду, происходит утрата политейей ее интеллектуальной составляющей, что представляет собой ее духовную основу и то, что дает государству бытие, делает его реальным. Потеря философского измерения, соответствующего этой гипотезе, извращает природу политики, делает ее противоестественной и болезненной.
Третья гипотеза относится к «мировой душе». Это соответствует в нео-платонической политейе стражникам и помощникам как второй касте. На уровне души единое рядоположено множественному, а значит, множественное является вызовом единому. Ответом на этот вызов и является жизнь как политическая жизнь. Эта политическая жизнь соотносится с воинским сословием, «помощниками», которые непрерывно стремятся привести множественность феноменов к душевному единству. При этом воинам это поручено не случайно: они не просто защищают государство, они через искусство войны уничтожают индивидуальные сущности, разрушают предметы и их наборы, возвращая существование к объединяющей и единой стихии космической жизни. Душа своим пульсом снимает наличие вещей, через смерть особенного, обнаруживая жизнь видового. Это и есть основа политического праксиса.
Другая задача воинов — выстроить многое в ряды. Они сторожат мировую душу, не дают многому ее захлестнуть.
Если мы упустим из виду и это измерение политейи, то общество (а соответственно, и человек и мир) рухнет в мир восставшей и неупорядоченной телесности, тяготеющей к хаосу.
Четвертая гипотеза — «многое и единое» — соответствует касте производителей. Если воины идут от единого, выступая как сама мировая душа, снимающая многое и тем самым приводящее все в движение, то производители идут от многого и приводят его к единому. Они придают материи форму, т. е. эйдос, вид, и тем самым, возводят бесчисленное множество наличного к исчислимой (принципиально) таксономии известного. Кроме того, многое переводится в единое через творение (ποίησις) как творение красивых вещей. Собственно политическим здесь является артизанат, т. е. создание красивых предметов, искусство, как вершина материального производства. В идеальном государстве предметами первой необходимости являются как раз произведения искусства, т. к. именно в них выражается суть упорядоченной материальности, составляющей смысл и цель труда. При этом красота храма, амфоры или статуи мыслится также как красота колоса, яблока, вола или охотничьей добычи: артизаны, крестьяне, охотники и сама природа заняты строго одним и тем же политическим деланием — производством красивого (καλός). Тело в политейе есть то, что красиво.
Деградация политической системы в рамках этой гипотезы состоит в утрате измерения красоты при производстве и постановке утилитарной материальности (например, в форме денег как ее абсолютного выражения) над ее эстетическим оформлением (в форме произведения искусств, товара или природного объекта).
Пятая гипотеза «Парменида» относится ко многому. Многое, материя, апофатична по своей симметрии к единому и не имеет бытия — ни феноменального (т. к. лежит ниже нижней границы тела), ни ноэтического (т. к. непознаваема и не осмысляема). Казалось бы, в материи нет ничего политического (то есть космического, онтологического, космологического, теологического и т. д.). Но т. к. пятая гипотеза (многое) рассматривается в ряду единого, которое предполагается изначально, то и эта материя оказывается действительной в своем небытии, т. е. участвующей в структуре наличия как то, что лежит под телом, придавая ему свойство явленности здесь и сейчас. Первая гипотеза делает политейю реальной со всеми имплицитными гипотезами и соответствующими им рядами. Косвенно она конституирует и материю как беспредельность (ἄπειρον), взятую как границу, т. е. определяет ее.
Утрата из виду апофатической (в особом смысле) природы материи и ее соотнесенности с другими высшими гипотезами превращает действительную множественность в мнимую, виртуальную и фиктивную. Поэтому материю делает материей только и исключительно политика (государство).
Лже-политика: четыре последние гипотезы
Кратко рассмотрим вторую серию гипотез «Парменида», основанных на отрицании единого. Большинство неоплатоников считали эти гипотезы простыми логическими конструкциями, лишенными бытия. Но при этом некоторым бытием они все же были наделены — как ложное высказывание, несмотря на то, что не соответствует ничему из сущего, все же само по себе есть («Софист»). Поэтому чисто теоретически для платоников (и в исторической практике для современных исследователей) можно предположить политические системы лжегосударства, псевдополиса.
Шестая гипотеза «Парменида» говорит, что при отсутствии единого, многое может искусственно создать единое, отталкиваясь от себя. В космологии это дает атомизм (Демокрит, Эпикур, Лукреций), т. е. первичность множественных атомов, складывающихся в тела как особи относительного единства (искусственное единое). Для Платона атомизм был неприемлемой философской ересью, которую он отвергал категорически. Атомизм есть антионтологическая ложь по своим базовым философским установкам. В политике атомизм дает демократию, которую Платон полностью отвергал. Принцип демократии — это социальный атомизм (многое как базовое) и предложение многим создавать искусственное единое снизу[129]. Для платоников это форма лже-политики, которая может существовать как замысел или вымысел, но в отрыве от единого, представляет собой симулякр политейи.
Седьмая гипотеза предполагает, что многое есть, а единого нет. То есть атомы существуют сами по себе, не складываясь в тела. Политически это означает, что люди полностью предоставлены сами себе и вообще не составляют никаких, даже искусственных, целостностей.
Восьмая гипотеза уточняет седьмую, но делает акцент на том, что, если многое, то оно есть как многое для самого многого. В политике это предполагает наличие диалога между отдельными гражданами, не принадлежащими ни к какой общности. Возможность такого диалога, однако, достаточна для кратких прагматических пересечений, эфемерных договоренностей и хаотических взаимодействий[130].
Девятая гипотеза отказывает многому в существовании для другого многого. Это означает, что наличие многого не подтверждается вообще никаким образом, а значит, это допущение ни опровержимо, ни доказуемо. Здесь больше нет никакой политики вообще, никакого порядка, даже остаточного, никакой философии, никакого космоса. Это полис небытия, которого нет и которое невозможно.
Эти политические модели, первые прообразы которых мы встречаем уже в Античности (демократия), стали преобладающими в Новое время. Философская платформа, которая лежит в их основе, может быть названа «политическим антиплатонизмом».
Если мы вспомним теперь о «политической эсхатологии», описанной Платоном в «Государстве» как нисхождение наилучших политических форм к наихудшим, то сам факт движения по всем гипотезам «Парменида» от первой к девятой, где в конце мы вступаем в зону острого политического антиплатонизма, окажется не опровержением, но подтверждением Платона, описавшего саму структуру политических трансформаций в парадигмальном срезе. Ведь время есть то, что движется вертикально вниз — от неба к земле, и еще ниже — к материи и аду. Демократическая современность, с точки зрения платоника, и есть политический ад.
Христианская политейя
Историк неоплатонизма Доминик О’Мира, на которого мы уже ссылались[131], предлагает рассмотреть тему Платонополиса в христианской традиции на примере двух христианских платоников — Евсевия Кесарийского и Бл. Августина. Идеи Евсевия (260–339 н. э.), последователя Оригена, составителя Никейского Символа веры (относительно его православия и связей с арианством ученые до сих пор ведут споры) и первого христианского историка, можно считать недуальной версией политического платонизма в византийском христианском контексте. Бл. Августин, со своей стороны, также платоник и христианин, но находившийся долгое время под влиянием манихейских идей, в труде «О Граде Божием»[132] закладывает основы совершенно иной политической философии, которая ближе всего стоит к дуальному платонизму. Идеи Евсевия, а также толкование св. Иоанна Златоустого места из Посланий св. Апостола Павла, где речь идет о катехоне, стали основой византийского православного учения о симфонии властей и метафизике империи. Августиновское противопоставление града земного и града небесного, в свою очередь, предопределило политические взгляды римского католицизма. Показательно, что обе эти версии, отлившиеся исторически в трения между восточнохристианской и западнохристианской цивилизациями, берут свое начало в платонической топике политейи, трактуемой, однако, в диаметрально противоположном ключе.
Евсевий Кесарийский формулирует свои взгляды на сущность христианской политики в «Слове Константину»[133]. В этом тексте он говорит о Боге как космическом монархе, устраивающем Вселенную своим Словом-Логосом. Описание мира дано в духе платоновского «Тимея». Царя Константина Евсевий призывает вдохновляться божественной монархией и, подражая Логосу, править с опорой на единство Бога и его упорядочивающую волю. Земная империя есть образ небесного царства и должна строиться по небесному образцу. Так Евсевий формулирует принципы христианской политейи, где Империя мыслится земным отражением божественного мира. При этом Евсевий описывает василевса, императора как философа, отсылая тем самым ко всему платоническому корпусу политической философии. Он пишет: «Один василевс — философ, знающий самого себя и изучивший внешние, или лучше сказать, с неба льющиеся источники всякого блага»[134]. Важно, что здесь есть и прямое упоминание платоновского Блага и его излияния с неба, что позволяет увидеть в фигуре императора аналог «демиурга», устраивающего свое царство в соответствии с духовным образцом.
Другой аспект роли государства в духовной истории христианства подчеркивает св. Иоанн Златоустый в своих толкованиях на Послания св. Апостола Павла (2 Фес.).[135] В этом месте говорится о «сыне погибели», антихристе, и о признаках его прихода. Апостол говорит: «ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». (2. Фес. 2:7). «Удерживающий» (κατέχον) толкуется св. Иоанном Златоустым со ссылкой на церковное предание, как Римская держава и ее Император. Таким образом, вполне в духе платонического понимания связи между государством и космосом, а также онтологической структурой мира, христианская эсхатология косвенно наделяет царя метафизической функцией: пока есть царство и царь (политейя), космос организован и упорядочен. После того, как царя и царства не будет, начнется хаос, беззаконие, извращение и переворот всех пропорций. На место идеальной христианской политейи, с царем-философом во главе (удерживающий), придет «дьяволополис», перевернутая модель общества, где центральное место займет «сын погибели», «антихрист». Таким образом, между нормативной картиной, описанной Евсевием (христианская Империя как копия небесного царства Бога-Троицы), и эпохой последних времен существует обратная аналогия, проходящая по пространству политики. После воцарения антихриста как главы дьяволополиса, псевдополиса, как лжецаря и тирана, состоится Второе Пришествие, и Бог-Слово убьет узурпатора, князя мира сего, «духом уста своих». (2. Фес. 2:8). В такой картине дуальная симметрия между идеальным градом и его обратной, дьявольской версией берутся последовательно и располагаются на диахронической шкале христианского понимания логики священной истории в ее отношении к политике.
Модель политической философии, предложенная Бл. Августином, принципиально отлична. Августин в своем труде «О Граде Божием» описывает возникновение земного государства («Града Земного») как изначально порочного явления. Государство есть «Град Сатаны», и изначально он был основан величайшими преступниками и грешниками — Каином, убившим Авеля, и Ромулом, убившим Рема. «Итак, первым основателем земного града был братоубийца, из зависти убивший своего брата, гражданина вечного града, странника на этой земле (Быт. IV). Неудивительно, что спустя столько времени, при основании того города, который должен был стать во главе этого земного града, о котором мы говорим, и царствовать над столь многими народами, явилось в своем роде подражание этому первому примеру, или, как говорят греки, архетипа», — пишет Августин[136]. Важно, что Августин в истории Каина и Авеля противопоставляет Каина, как носителя политического земного начала, Авелю, который является «странником на этой земле». Политика, по Августину, есть только сфера греха. Добродетель противостоит греху и поэтому противостоит политике. Отсюда рождается теория «другого Града», «Града Святых», «Града Божьего». «То, что произошло между Каином и Авелем, указывает на вражду между двумя градами, Божьим и человеческим,» — поясняет Бл. Августин[137].
«Град Божий» радикально отличается от «Града Земного», представляя собой его полную противоположность. Между ними нет ничего общего, они альтернативны друг другу: гражданин «Града Божьего» — вечный чужак, странник в земной политике, ничто в ней ему не близко, ничто не трогает; его задача удалиться от нее на как можно большую дистанцию, не позволить полису запятнать себя. Житель «Града Земного», в свою очередь, не имеет доступа в «Град Божий», в сообщество праведников и святых. Он может быть допущен туда только по отречении от своих земных политических устремлений, по отсечении воли, устранения от самой стихии вовлеченности в земную политику. «Град Божий» понимается Бл. Августином как Церковь, экклесия, которая занимает в отношении к политике антагонистическую позицию и строится на принципах, прямо противоположных: вместо воинственности — миролюбие, вместо разума — вера, вместо воли — смирение, вместо соперничества — любовь к ближнему, вместо жизненного самоутверждения — аскеза и умерщвление плоти.
Позднее на церковь и ее иерархию перенесет свойства идеального государства христианский неоплатоник VI века, известный как автор Ареопагитик или «Дионисий Ареопагит» (хотя эту идентичность с учеником св. Апостола Павла следует понимать как минимум метафорически). В книге «О церковной иерархии» эта иерархия уподобляется чинам небесных сил бесплотных, но о соотношении церковной иерархии с политической или об их противопоставлении речи не идет. Можно предположить, что здесь мы имеем дело с детальным описанием «Града Небесного».
В любом случае модель Евсевия Кесарийского и эсхатологическое толкование св. Иоанна Златоустого вкупе с теорией «симфонии властей», предполагающей гармонию между церковной властью патриарха и сакральной властью Императора-василевса и оформленной в новеллах Юстиниана, стали преобладающими в Византии, шире, православном мире и у тех сил в Западной Европе, которые признавали особую онтологию Империи (вплоть до средневековых гибеллинов). В католическом мире, напротив, нормативной стала трактовка Бл. Августина и его дуалистическая версия толкования «двух Градов» с ее явно гностическими (манихейскими) чертами. Власть Папы Римского как правителя «Града Небесного» и главы церковной иерархии ставилась католиками заведомо выше любой политической власти, и именно на этой модели была построена с эпохи раннего Средневековья западно-христианская цивилизация.
Таким образом, у истоков двух толкований соотношения церкви и государства, разночтение между которыми привело, в конце концов, к великому расколу и предопределило особые пути развития двух ветвей, западного и восточного, христианства, мы видим два прочтения платонизма — оба христианских, но различающихся между собой дуальностью и недуальностью интерпретации одной и той же платонической схемы, где устанавливается принципиальное нетождество между образцом и копией, миром идей и миром явлений.
Платонополис в исламе
Тема Платонополиса в исламе полнее всего проявляется в таких направлениях, как исламская философия (аль-Кинди, аль-Фараби, ибн Сина и т. д.) и различных версиях шиизма.
Среди представителей исламской философии полнее всего тема идеальной политейи представлена у аль-Фараби. Этой теме он посвятил отдельное произведение «Трактат о взглядах жителей добродетельного града»[138]. В нем он, в духе Прокла, подробно описывает всю последовательность инстанций, начиная с Божественного Единства и завершая космическими элементами, рассматривая эту череду эманаций как парадигму оптимального социально-политического устройства общества, называемого им «добродетельным градом». Эти эманации располагаются в иерархическом порядке, предопределяя тем самым и соответствующие уровни политической иерархии. Эта иерархия, по аль-Фараби, представляет собой принцип справедливости. Как любой последующий уровень космической реальности получает свое существование от предыдущего, более высокого, и так вплоть до самого Единого, должна быть построена и политическая иерархия. Главной целью всех граждан «добродетельного града» является приближение к единству, т. е. «тау-хид».
Аль-Фараби противопоставляет «добродетельный град», целью бытия которого является реализация религиозного пути, достижения блаженства и созерцания Бога, другим типам государств, которые движимы прозаическими целями — выживание, материальное благополучие, процветание, деньги.
Иерархия аль-Фараби почти полностью повторяет касты платоновской политейи. Она состоит из:
• правящего мудреца (аналог царя-философа);
• жрецов, ораторов, поэтов (духовное сословие);
• математиков (ученых в широком смысле этого слова);
• воинов;
• материальных производителей.
Как и у Платона, производители материальных благ поставлены на самую низшую ступень, а высшая власть принадлежит философу-мудрецу.
Правящий мудрец (он может быть или коллективной фигурой, или монархической) сосредоточен на созерцании и пребывает недалеко от десятого интеллекта, последнего в серии вертикальных эманаций и являющегося ангелом человечества, его эйдосом. Как тот, кто воспринимает напрямую лучи десятого интеллекта, идеальный правитель может считаться пророком или имамом, предстоятелем и законодателем.
Аль-Фараби признает, что такие идеальные правители в истории встречаются редко, но, безусловно, относит к ним Мухаммада, который совмещал в себе пророческие и законодательные черты, являясь лидером всей ислам-ской общины, строящейся изначально как раз как проект исламской нормативной политейи.
Шиитское направление в исламе, отчасти повторяя логику аль-Фараби в отношении «совершенного правителя», наделенного одновременно религиозной и политической миссией и стоящего во главе идеальной политической организации общества, привносит, однако, драматический аспект. Шииты утверждают нормативную структуру исламской политейи как религиозно-политической общины, которая после Мухаммада должна управляться Али и его потомками, святыми имамами. Исторически имам Али проиграл борьбу за политическое лидерство в умме и был убит. Такая участь проигрыша и насильственной смерти повторилась и у его потомков. Так у шиитов сложилась картина «двух градов»: с одной стороны, нормативного, «добродетельного», главой которого может быть только Алид, признанный имамом, а с другой стороны, «неправильного града», где преобладают узурпация, насилие и царит фрагментарное и неточное толкование религиозных истин (т. к. подлинное толкование «Корана» и хадисов возможно только с опорой на авторитет имама-толкователя, вали). Оппозиция усугубляется после того как начинается «эра сокрытия» и последний имам исчезает из общества, хотя и не умирает, как считают шииты, и в конце времен возвращается для того, чтобы восстановить правильные пропорции в политике и религии. Как мы видим, эсхатология шиитов носит диалектический и политический характер. Парусия Махди, последнего имама, ка’има исмаилитов (шиитов-семеричников), означает восстановление истинных пропорций, т. е. реализацию на земле идеального государства. Имам выполняет здесь роль царя-философа Платона.
Кроме того, можно соотнести между собой фигуру «скрытого имама» с той отсутствующей фигурой в центре идеального политического устройства, которую мы зафиксировали в политической системе, соответствующей первой гипотезе «Парменида».
В философии Ишрака Шихабоддина Яхья Сохраварди тема идеального государства развивается на уровне среднего мира, пространства воображения (малакут). Это пространство воображаемого мира (алам аль-митхаль) Сохраварди описывает по обратной аналогии с миром материальным, называемым им «миром западного изгнания». Воображение — это страна тысячи городов, где душа путешествует в пейзажах, развертываемых благодаря отражению лучей десятого интеллекта. Если же душа поворачивается к материи, то оказывается под влиянием города-тюрьмы. Идеальное государство, по Сохраварди, есть государство воображения. Его правитель — Пурпурный Архангел, сам десятый интеллект. Это политика озарения, град Востока, где иерархия чинов строго соответствует духовным ступеням внутреннего развития.
Трудно сказать, имела ли философия Ишрак прямое политическое выражение, т. е., хотел ли Сохраварди и его последователи реформировать общество на основании своих представлений. Сам факт его казни позволяет допустить, что определенные политические проекты, построенные на прин-ципах философии Ишрака, вполне могли иметь место, что и вошло в противоречие с политическим суннизмом султана Саладдина и его богословско-политического экзотерического окружения.
Современный шиизм (особенно в Иране) опирается в своих политиче-ских проектах на идеи, чрезвычайно близкие идеальной политейе и в ожидании парусии Махди делегирует высшую власть системе вилайяти-факих, т. е. аятоллам-толкователям.
Идеальное государство в иудейской эсхатологии: царь-машиах
Иудаизм как религиозное и историческое явление, безусловно, обладает своей политической философией. Но условия, в которых евреи находились в течение последних двух тысячелетий (галут — рассеяние), не предполагали внятного и эксплицитного изложения своей нормативной политической программы, своей иудейской политейи, т. к. она в определенных моментах конфликтовала с религиозно-политическими установками тех обществ, где евреи находились (преимущественно, христианских и мусульманских). Поэтому о собственно иудейской политической философии приходилось говорить либо намеками, символами, либо переносить все исключительно на религиозный уровень. В ХХ веке и особенно после появления государства Израиль ситуация изменилась, но таких работ, которые бы сводили воедино мессианские, политические, каббалистические (а значит, платонические) и исторические аспекты иудаизма, до сих пор нет. Тем не менее работы наиболее серьезных исследователей иудаизма и его духовных течений, таких как Гершом Шолем и др., позволяют реконструировать основные моменты иудейского Платонополиса, идеального государства.
Идеальное государство единодушно помещается религиозными иудеями в будущее и описывается как мессианское явление. Более того, большинство священных текстов иудаизма описывает приход машиаха как политическое явление, напрямую связанное с (вос)созданием еврейской государственно-сти на «святой земле». Царство машиаха и есть иудейская политейя, которая является идеальной структурой политической организации как таковой. Машиах мыслится обязательно как царь иудейский, как духовный глава политической иерархии, воплощенной в конкретной мессианской государственности. Таким образом, историческое время в его сакральном измерении для иудеев есть движение к политическому идеалу, достижимому только в мессианские времена. Машиах есть идеальный правитель, пророк и посланник Бога.
Эсхатологическое царство машиаха понимается иудеями как духовный итог истории, в котором будут сосредоточены архетипы всех положительных периодов — от рая (пардес) до эпохи патриархов и исторических прецедентов самостоятельной еврейской государственности — Израиль и Иудея. Все светлые символы будут восстановлены — начиная с Иерусалимского Храма (Третий Храм) и регулярных богослужений в нем, а также независимость, мощь, процветание и древние иудейские законы, основанные на предписаниях «Торы».
Если мы рассмотрим мессианские тенденции иудаизма в каббалистиче-ском и мистическом ключе[139], то подойдем вплотную к возможности дать платоническое толкование царству машиаха, т. е. поместить его в контекст философии, онтологии, космологии и гносеологии. Каббала как течение, наиболее сходное с неоплатонизмом, оперирует с аналогичной метафизической топикой. Из апофатической стороны Бога, Эн Соф, изливаются световые эманации, структурирующие вначале промежуточный мир божественных сефирот (аналог идей и парадигм Платона, божественных имен ибн Араби, интеллигибелей неоплатоников и т. д.), а затем формирующие по их образцу феноменальный мир. Древо сефирот представляет собой три канала — правый, левый и средний, по которым происходит диспенсация божественных энергий сверху вниз. Первая сефира (Кетер, корона) находится в центре, от нее исходят три луча — вправо, ко второй сефире Хохма (мудрость), влево, к третьей сефире Бина (рассудок) и к центральной четвертой сефире Тифарет (красота). Лучи, спускающиеся по правой стороне, являются проявлениями божественной милости; по левой — строгости. По центральной колонне циркулируют энергии синтеза. Все энергии снова собираются внизу Древа Сефирот в девятой сефире, называемой Йесод (основание) и от нее к последней десятой сефире Малькут, дословно «царству». Эта последняя сефира занимает промежуточное положение между миром божественным и материальным космосом. Показательно, что она называется «царством», т. е., относится к области политического. Можно сказать, что эта сефира и есть каббалистический аналог политейи. Малькут отождествляется некоторыми каббалистами с шекиной, божественным присутствием. А т. к. шекина видится каббалистами двойственно — как шекина, остающаяся у Бога, и шекина, отправленная в изгнание, — то и Малькут (царство, полис) может иметь две версии — нормативную и искаженную, страдающую, отпадшую. Таким образом, мы подходим к концепции «двух царств» или «двух градов».
Один град — это царство в его идеальном состоянии. Таким будет цар-ство машиаха, а все его аналоги в предшествующей еврейской истории можно рассматривать как его «прообразы». Прямое снисхождение сефиры Малькут в космос реализуется только в мессианскую эпоху, и между трансцендентным Богом и имманентным космосом будет установлена прямая связь. Эта связь найдет свое выражение, в первую очередь, в политике, в мессианском царстве, но наступление этого царства будет сопряжено с параллельными глубинными трансформациями в структуре самого бытия. Отношения между землей и небом, Вселенной и Богом, людьми и ангелами, живыми и мертвыми, стихиями и сефиротами будут приведены в состояние прямой аналогии, станут прозрачными. Ограничения нынешнего мира будут чудесным образом отменены, и настанет эпоха справедливости, чудес и изобилия. Таким, собственно, мир и человек и были созданы, но в силу катастрофы правильная структура творения и политейи была отложена вплоть до последних времен.
Катастрофа, о которой идет речь и которая начинается с грехопадения Адама и Евы в раю и продолжается через серию отступлений и преступлений избранного народа, сопровождающихся серией наказаний (последним из них является четвертое рассеяние, нынешний галут), является центром внимания иудейской и особенно каббалистической мысли. Ицхак Лурия описывает прелюдию к этой катастрофе в самом божественном мире еще до творения космоса и человека. Божество сжимается, скрывается, возвращается в себя (цимцум), стягивается к самому себе, самоограничивается, т. е. само отправляется в изгнание (галут), чтобы дать место небожественному миру. Это начало отклонения и порчи, ведь Божество, как единственное что есть, скрывает свою истину. Поэтому мир сам по себе уже есть катастрофа. Второй этап катастрофы — это разбиение ваз сефирот, которые не выдержали излитого в них божественного света и расплескали его. Таким образом, структура феноменального космоса заведомо представляет собой смешение и отступление от истины: творение и открывает Бога и его пневматические структуры (сефироты), и скрывает его. В результате на дне творения возникает зло, которое выражается в божественной строгости и концентрируется в онтологической зоне «иной стороны» (ситре ахер), «левой стороны», или в мире «скорлуп» (клиппот). Квинтэссенцией зла является «трефное царство», т. е. псевдо-полис, город лжи, к которому иудеи относят все типы политических систем, отличных от нормативной иудейской политейи. Это цар-ства гоев (неевреев), идолопоклонников, язычников, а также мир Исава (христианские страны) и Ишмаэля (исламские страны). Нееврейские государства рассматриваются в таком случае как историческое и политическое выражение онтологии зла и знак духовной катастрофы.
Среди этих псевдополисов исключением является Израиль как религиозно-политическое образование, направленное на восстановление (тиккун) и преодоление катастрофы. Но когда граждане этого исключительного цар-ства отходят от религиозных норм, правители совершают аморальные деяния или уклоняются в многобожие, Бог наказывает их, последствия изначальной катастрофы снова дают о себе знать и избранный народ оказывается под давлением «левой стороны». В истории это проявляется в рассеянии, т. е. в изгнании шекины со своего центрального места в мире, символизирующегося землей обетованной и высящимся на ней Иерусалимским Храмом, и в попадании евреев как религиозной и мессианской общины под власть «трефных царств». Евреи несут в себе «истинную политейю», но находятся под властью «ложной политейи». «Святой град» оказывается под властью «греховного града», управляемого демонами и могуществами левой стороны (гойские царства и их правители). Эта политическая дисгармония сопровождается переворотом космических условий, отсутствием чудес, природными катастрофами и т. д. И лишь с приходом машиаха истинные пропорции будут восстановлены, а результаты первокатастрофы преодолены. Тогда завершится четвертое (актуальное) рассеяние, будет восстановлен Храм Соломона, в нем возобновятся священнослужения, Израиль будет править миром, а «трефные царства» и могущества «левой стороны» низвергнуты и подчинены машиаху.
Таким образом, в иудаизме и, особенно в его каббалистической версии, мы встречаемся с вполне платонической философией политики, основанной на дуализме «двух градов», помещенных (как и в шиизме и отчасти в христианстве) в историко-диалектический контекст. Если у Бл. Августина борьба между «Градом Божиим» и «Градом Сатаны» развертывается на уровне противостояния церкви и земной политики, то в иудаизме аналогичный дуализм воплощен в политической и мессианской судьбе «избранного народа» в его диалектическом противостоянии с миром скорлуп («левой стороны»), проявляющихся в форме «гойских» политических (и соответственно религиозных) образований.
От политического синтеза Рима к глобальной лже-Империи
Ученик Платона Аристотель построил собственную философскую систему, отчасти продолжающую и развивающую идеи своего учителя, а отчасти их существенно пересматривающую. Отношения между платонизмом и аристотелизмом — бескрайняя и достаточно изученная тема. Здесь лишь отметим, что неоплатоники легко включили теории Аристотеля в свои синтетические системы, прочитав его с позиции признания абсолютной правоты и первичности Платона. В отличие от Стои, начинавшей с Аристотеля и на этом основании пересматривающей отдельные идеи Платона или вообще отвергающие их, неоплатоники предложили недуальное прочтение обоих величайших философов в рамках общей системы. В исламский мир и отчасти в Средневековую Европу Аристотель попал преимущественно именно в таком неоплатоническом толковании, а зачастую и прямо в изложении неоплатоников. А в ряде случае под именем «Аристотеля» вообще циркулировали тексты Плотина или Порфирия. Именно в этой неоплатонической интерпретации рассмотрим некоторые политические теории Аристотеля, заведомо считая их творческими комментариями к платонической философии политики. Но т. к. в целом Аристотель рассматривает вещи в имманентном срезе, исходя из того состояния, в котором они пребывают, и отвлекаясь от идеальных конструкций своего учителя, то и в политике он останавливается не на построении идеальной политейи, но на анализе тех политических систем, которые ему эмпирически знакомы. Таким образом, он ближе по духу к диалогам платоновским диалогам «Политик» и «Законы», хотя знаком и с «Государством» и берет оттуда ряд теоретических конструкций.
Аристотель принимает основные типы политических систем, представленных в «Государстве», но структурирует их следующим образом.
Правильные типы:
• монархия (легитимная власть одного квалифицированного правителя);
• аристократия (власть немногих лучших, героев);
• полития (власть квалифицированного ответственного большинства).
Неправильные типы:
• тирания (нелегитимная власть сумасброда и эгоиста);
• олигархия (узурпация власти крупными торговцами и финансовыми монополистами);
• демократия (хаотическое беснование безответственной черни).
Мы видим, что в целом здесь воспроизводится модель Платона, при этом Аристотель находит название для положительного аналога «демократии» — «полития», о котором гипотетически говорит Платон. Типы режимов симметричны и соответствуют главенству одной из трех традиционных каст индоевропейского общества. Единственная аномалия — это подмена воинов во второй серии «неправильных типов» монополистами, основывающими свою власть на капитале. Они относятся к третьей касте, а не ко второй. Объяснение можно найти в тимократии, наличествующей у Платона, но отсутствующей у Аристотеля, т. к. этот тип представляет собой процесс деградации военной аристократии, превращающейся постепенно в крупных собственников, понижающих свою касту и изменяющих структуру своего правления в сторону материальных ресурсов вместо «капитала славы и доблести».
Аристотель не выстраивает никакой политической эсхатологии, лишь указывая, что крупным территориальным образованиям с разнородными группами населения более соответствует монархия; средним — аристократия; небольшим — полития. Продукты их извращения — тирания, олигархия и демократия — могут обнаружиться где угодно. Аристотель фиксирует политические режимы, систематизирует, оценивает, но не предписывает. И у него есть аналогии между правителем и недвижимым двигателем, активным интеллектом, стоящим в центре космоса. А сама политическая система отражает структуру космоса, но понятого на сей раз не платонически, а аристотелиански.
У государства есть форма и материя. Качество политической системы (то есть ее типы) говорят нам о форме. Наличие, объем, фактичность, упругость, устойчивость — ближе к материи.
Римский политик и философ Цицерон в книгах «О Государстве» и «О Законах» предложил интересную модель объединения всех трех позитивных типов аристотелевской политики в единой модели, которую он считал оптимальной для Римской империи. Обширные территории Рима требуют един-ства стратегического управления, т. е. монархии, что воплощено в фигуре императора, наделяемого диктаторскими полномочиями в чрезвычайных условиях (высокая военная опасность, волнения и т. д.).
Значение воинской касты для создания и защиты империи, для расширения ее границ, требует наделить воинов политическими полномочиями — это воплощено в политических привилегиях римского патрициата и в структуре Сената. Это соответствует аристократии. И наконец, на низовом уровне в отдельных городах и населенных пунктах, а также в сельских областях учреждается власть комитов, выборных органов народного самоуправления.
Собранные вместе в пространстве империи эти типы формируют качественную общность, объединенную гармонией, согласием и исторической судьбой. В определенном смысле описание Цицероном политической системы империи представляет собой универсальную модель имперской Римской политейи, как образца и идеала, на который так или иначе были ориентированы все известные в истории имперские образования. И здесь, соответственно, мы можем распознать одну из версий Платонополиса, организованного как «второе наилучшее устройство», разбираемое Платоном в «Политике» и «Законах» и продолженное Аристотелем. Кроме того, тот факт, что сам Аристотель был наставником Александра Македонского, создавшего величайшую империю древности, можно рассматривать как момент трансляции вертикальной топики политического платонизма (хотя и несколько приближенной к эмпирической реальности) в сферу конкретного историко-политического праксиса планетарного масштаба.
Закончить рассмотрение этого предмета можно обращением к «неправильным типам» политических систем (по Аристотелю). Их можно рассматривать по отдельности или по контрасту с «правильными типами», но это уведет нас в длительные систематизации и сопоставления, не имеющие принципиального значения. Но если мы попытаемся проделать синтез, аналогичный Цицерону, только с этими «неправильными типами», то получим закон-ченную модель антиимперии, псевдополиса. Эта обратная политейя, наихудшее государственное устройство в платоновско-аристотелевских терминах, будет представлять собой сочетание демократии, олигархии и тирании. Самовлюбленный изверг, тиран правит с опорой на крупных финансовых монополистов, прикрывая свою нелегитимную и непрозрачную диктатуру лестью безумным толпам, уверенным, что они наделены полной свободой и распоряжаются сами собой. Но сочетание этих типов правления требует больших территорий, т. е. тяготеет к тому, чтобы стать глобальным, всемирным. Приблизительно таким видится царство антихриста христианам, режим дадджала-лжеца — мусульманам или глобальное «трефное цар-ство» — правоверным иудеям.
В политической реальности современной эпохи, в эру глобализма и глобализации мы можем эмпирически фиксировать в мировом масштабе два безусловно наличествующих момента — всесилие мировой финансовой олигархии и универсальную демократию. Причем существует и политиче-ская идеология, возводящая эти принципы в норматив, т. е. приписывающая им моральную ценность: это либерализм, либерал-капитализм, буржуазная демократия. Сегодня эта идеология является глобальной. Два момента псевдополиса (если смотреть с точки зрения политического платонизма) налицо. То, чего пока мы не видим, по меньшей мере, эксплицитно и явно — это фигуры «мирового тирана». Конечно, собирательно, можно предположить, что его эквивалентом являются различные прообразы «мирового правитель-ства» или единственная оставшаяся на сегодняшний день «сверхдержава» (гипердержава). Но все же это будет метафорический тиран, фигура тирана, но не сам он. Тем не менее два других принципа неправильной политической системы налицо, причем в планетарном масштабе, а определенные социальные процессы, связанные с повышением заботы о безопасности и противодействием глобальному террору, в будущем вполне могут привести к более отчетливому проявлению тиранических черт глобальной политической системы. И все же не следует забегать вперед: место антицаря, «князя мира сего» в структуре современного глобального псевдополиса пока вакантно, и это является главным драматическим фактом политической эсхатологии, развертывающейся на наших глазах. Констатация того, что место глобального тирана вакантно, может несколько успокаивать; но то, что это пока закономерно, вселяет в сторонника платонической философии политики (какой бы версии он ни придерживался и какую бы религию ни исповедовал) как минимум глубокую тревогу.
Часть 4. Негативный дух и тайна Urgrund
Глава 15 Деконструкция Гегеля (заметки на полях «Феноменологии Духа»)
Раздел 1. Субъект, Господин и Смерть
Феноменальное как вакхическое
Книга Гегеля называется «Феноменология Духа»[140]. Как он понимает феномен? Прежде можно было бы обратиться к «Тимею» Платона и его философской топике, где четко выделены два начала: мир идей (Гегель начинает свою философию с постулирования Идеи-Логоса, являющейся вначале Абстракцией) и мир феноменов (явлений). Мир идей неизменен, вечен, бессмертен, первичен. Это область парадигм — образцов. Мир явлений характеризуется сменой ритма появлений/исчезновений, это область копий, т. е. идей, воплощенных в вещах, подверженных изменению.
Можно было бы сопоставить первый мир с Аполлоном, второй — с Дионисом. Аполлон есть солярная строгость пропорций и неизменность прин-ципов. Дионис есть лунарная динамика появлений и исчезновений — его встречают и провожают; он проводит часть времени в Аиде, часть на земле. По Платону, оба мира (и мир идей и мир копий) являются вечными, только по-разному — первый вечно-неизменен, второй вечно меняется. Первый напоминает бытие Парменида, второй — бытие Гераклита.
Тут можно вспомнить К. Кереньи[141] и его гипотезу о влиянии орфизма на Платона, при том, что самих орфиков он описывает как группу мужчин, посвященных в дионисийские культы и систематизировавших интеллектуально их содержание, ранее бывшее достоянием жриц. Феноменальный мир — это привилегированная зона Диониса, его царство, «пещера нимф» неоплатоника Порфирия.
Теперь вот что читаем у Гегеля, определяющего явление (феномен):
«Явление есть возникновение и исчезновение, которые сами не возникают и не исчезают, а есть в себе и составляют действительность и движение жизни истины. Истинное, таким образом, есть вакхический восторг, все участники которого упоены; и т. к. каждый из них, обособляясь, столь же непосредственно растворяется им, то он так же есть чистый и простой покой. В рамках этого движения отдельные формы существования духа, правда, не обладают постоянством определенных мыслей, но они столь же положительные необходимые моменты, сколь и негативны и исчезающи»[142].
«Die Erscheinung ist das Entstehen und Vergehen, das selbst nicht entsteht und vergeht, sondern an sich ist, und die Wirklichkeit und Bewegung des Lebens der Wahrheit ausmacht. Das Wahre ist so der bacchantische Taumel, an dem kein Glied nicht trunken ist, und weil jedes, indem es sich absondert, ebenso unmittelbar auflöst, — ist er ebenso die durchsichtige und einfache Ruhe. In dem Gerichte jener Bewegung bestehen zwar die einzelnen Gestalten des Geistes wie die bestimmten Gedanken nicht, aber sie sind so sehr auch positive notwendige Momente, als sie negativ und verschwindend sind. — In dem Ganzen der Bewegung, es als Ruhe aufgefaßt, ist dasjenige, was sich in ihr unterscheidet und besonderes Dasein gibt, als ein solches, das sich erinnert, aufbewahrt, dessen Dasein das Wissen von sich selbst ist, wie dieses ebenso unmittelbar Dasein ist».
Внимание привлекает «вакхический восторг», а в оригинале «der bacchantische Taumel», что означает «опьянение», «шатание», «головокружение» — как состояния, сопровождающие дионисийский обряд. Эта отсылка к Дионису не случайна. Явление принадлежит второму миру и есть сам этот мир. Но этот мир, мир явлений, мыслится Гегелем не как механиче-ская схема в плоти неподвижного мира образца (как у схоластиков, например, или в деизме Нового времени). Этот мир пронизан божественной силой, к которой отсылает фигура Вакха и его мистерии.
Таким образом, явление в философии Гегеля несет в себе элемент экстатического — это выход идеи (бога) за свои границы и выход за свои границы мира. При этом оба движения не последовательны, а одновременны.
Не является ли такая отсылка ключом к диалектике как таковой? Везде в своей философии Гегель стремится удержать единство противоположного, при этом придать ему как духовный характер, свойственный высшим регионам разума, так и текучий, характерный для гибкости чувственного восприятия. Само становление как центральный принцип гегелевской философии можно истолковать как дионисийское начало — божественное и телесное, упорядоченное и хаотическое. И лишь на пике дионисийской спирали достигается точка «наблюдательного пункта» (Прокл помещал его на пике горы Олимп) или «демиургическое сечение», где реализуется спекулятивный синтез — открывается родина Аполлона.
Диалектика пожирания
Второй раз мы встречаем Вакха (вместе с Церерой) в ссылке Гегеля на Элевсинские мистерии.
«С этой точки зрения можно посоветовать тем, кто утверждает названную истину и достоверность реальности чувственных предметов, обратиться в низшую школу мудрости, а именно, к древним элевсинским мистериям Цереры и Вакха, и сперва изучить тайну вкушения хлеба и пития вина; ибо посвященный в эти тайны доходит до того, что не только сомневается в бытии чувственных вещей, но и отчаивается в нем, и, с одной стороны, сам осуществляет их ничтожность, а с другой стороны, видит, как ее осуществляют. Даже животные не лишены этой мудрости, а, напротив, оказываются глубочайшим образом посвященными в нее; ибо они не останавливаются перед чувственными вещами как вещами, сущими в себе, а, отчаявшись в этой реальности и с полной уверенностью в их ничтожности, попросту хватают их и пожирают; и вся природа празднует, как они, эти откровенные мистерии, которые учат тому, что такое истина чувственных вещей»[143].
«In dieser Rücksicht kann denjenigen, welche jene Wahrheit und Gewißheit der Realität der sinnlichen Gegenstände behaupten, gesagt werden, daß sie in die unterste Schule der Weisheit, nämlich in die alten Eleusischen Mysterien der Ceres und des Bacchus zurückzuweisen sind, und das Geheimnis des Essens des Brotes und des Trinkens des Weines erst zu lernen haben; denn der in diese Geheimnisse Eingeweihte gelangt nicht nur zum Zweifel an dem Sein der sinnlichen Dinge, sondern zur Verzweiflung an ihm; und vollbringt in ihnen teils selbst ihre Nichtigkeit, teils sieht er sie vollbringen. Auch die Tiere sind nicht von dieser Weisheit ausgeschlossen, sondern erweisen sich vielmehr am tiefsten in sie eingeweiht zu sein, denn sie bleiben nicht vor den sinnlichen Dingen als an sich seienden stehen, sondern verzweifelnd an dieser Realität und in der völligen Gewißheit ihrer Nichtigkeit langen sie ohne weiteres zu und zehren sie auf; und die ganze Natur feiert wie sie diese offenbare Mysterien, welche es lehren, was die Wahrheit der sinnlichen Dinge ist».
В этом ироничном пассаже содержится не просто метафора. Поясним его смысл. Гегель насмехается над «эмпириками» и «материалистами» (позднее в этой роли оказались позитивисты), утверждавшими, что «вещь-для-себя» в отрыве от фиксирующего ее субъекта, т. е. в отрыве от «вещи-для-нас», обладает самостоятельной автономной онтологией, т. е. может существовать как достоверность (certitudo). Первым движением сознания к самосознанию является познание того, что это бытие ничем не доказуемо и что то же самое сознание субъекта, которое воспринимает вещь как вещь-для-нас, одновременно и создает ее и отрицает ее бытие-для-себя, выступая как радикальная негативность. Отсюда убежденность Гегеля, что субъект есть чистая негация. Постижение же ничтожной сути вещи-для-себя осуществляется в ее «проглатывании» — т. е. во введении внутрь субъекта (превращение ее в понятие) и ее уничтожении. Но это и есть «мистерия» — пробуждение осознания того, чем является субъект на пути к совершенному самосознанию, которое возможно только после снятия (Aufhebung) второго члены пары субъект-объект. Посвящаемые в Элевсине, по мнению Гегеля, поглощая вино и хлеб и наблюдая, как это делают другие, обретали опыт субъекта как мощной свободной силы, имеющей божественную природу. Но это были еще «подземные» мистерии, т. е. посвящение на уровне феноменов: отсюда женское божество земли Церера и Дионис — бог диалектики.
Эта операция «поедания», «метафизика пожирания» («пожрать» этимологически восходит к сожжению обрядовой жертвы) есть важнейшее гносеологическое действие, обращающее внимание посвящаемого на то, отражением и выражением чего являются феномены: сняв их чувственную иллюзорность, мы ассимилируем их как понятия, возводя к миру идей.
Поразительно, что в следующих строчках мы видим свиту Диониса: это «животные, не лишенные мудрости». Пантеры и леопарды сопровождают Диониса, вместе с процессиями вакханок, всегда готовых разорвать на своем пути встретившуюся жертву.
Почему животные «не лишены мудрости»? Что это за мудрость животных? Гегель имеет в виду очень тонкую вещь. Дело в том, что дикое животное не работает, т. е. не производит усилий по воспроизводству своей жертвы (которой питается) как субстанциальной вещи-в-себе. Дикое животное (пантера, тигр, лев, волк и даже кошка) является философски «посвященным» в большей степени, нежели позитивист или эмпирик, вынужденный постоянно воспроизводить материальную вещь как источник чувственной достоверности. Оно видит в жертве (другом животном) только вещь-для-хищника, набрасывается и свободно пожирает жертву, совершенно не заботясь о том ничто, что открывается на месте исчезнувшей в его утробе пищи и о его заполнении чем-то. Хищность есть переход к усвоению и освоению негативности, т. е. к субъектности, и соответственно, к дальнейшим моментам развертывания феноменологии духа. Животное обладает сознанием и бесстрашием в завоевании опыта смерти. Это делает его священным. Отсюда можно вывести некоторые важные соображения о символизме охоты и о тотемных культах. Но лучше сейчас обратить внимание на символизм разрывания.
Разрывание жертвы — быка, козла и т. д. — есть необходимая часть вакхических мистерий. И вместе с тем, разрывая предмет, чтобы высвободить его понятие, субъект открывает самому себе бездны своей негативности, т. е. умерщвление постигает и самого бога.
Но смерть не есть то, чего должен избегать дух.
«Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила не в качестве того положительного, которое отвращает взоры от негативного, подобно тому, как мы, называя что-нибудь ничтожным или ложным, тут же кончаем с ним, отворачиваемся и переходим к чему-нибудь другому; но он является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем»[144].
«Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch, und nun, damit fertig, davon weg zu irgend etwas anderem übergehen; sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt. — Sie ist dasselbe, was oben das Subjekt genannt worden, welches darin, daß es der Bestimmtheit in seinem Elemente Dasein gibt, die abstrakte, d.h. nur überhaupt seiende Unmittelbarkeit aufhebt, und dadurch die wahrhafte Substanz ist, das Sein oder die Unmittelbarkeit, welche nicht die Vermittlung außer ihr hat, sondern diese selbst ist».
Ссылки на разорваность (Zerrissenheit) совершенно точно соответствуют операциям, постоянно воспроизводимым в разных ситуациях в различных версиях дионисийских мифов и обрядов. Расчленение и воскрешение, уникальное бытие, включающее в себя исчезновение и рождение, а не исключающее их — характерная черта Диониса.
Это расчленение Гегель определяет следующими словами:
«Деятельность разложения [на составные части] есть сила и работа рассудка, изумительнейшей и величайшей или, лучше сказать, абсолютной мощи. Неподвижный, замкнутый в себе круг, как субстанция содержащий свои моменты, есть отношение непосредственное и потому не вызывающее изумления. Но в том, что оторванное от своей сферы акцидентальное как таковое, в том, что связанное и действительное только в своей связи с другим приобретает собственное наличное бытие и обособленную свободу, — в этом проявляется огромная сила негативного; это энергия мышления, чистого «я». Смерть, если мы так назовем упомянутую недействительность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удержать мертвое, требуется величайшая сила. Бессильная красота ненавидит рассудок, потому что он от нее требует того, к чему она не способна»[145].
«Die Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes, der verwundersamsten und größten, oder vielmehr der absoluten Macht. Der Kreis, der in sich geschlossen ruht, und als Substanz seine Momente hält, ist das unmittelbare und darum nicht verwundersame Verhältnis. Aber daß das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solches, das gebundne und nur in seinem Zusammenhange mit anderm Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des Negativen; es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die größte Kraft erfordert. Die kraftlose Schönheit haßt den Verstand, weil er ihr dies zumutet, was sie nicht vermag».
Здесь стоит обратить внимание на выражение «огромная сила негативного». По сути, для Гегеля чистая негативность есть сам субъект. Это он является убийцей вещи-для-себя, он расчленяет ее, разрывает ее и тем самым одновременно и уничтожает мир (как мир-для-себя) и конституирует его, удерживая разрозненные «мертвые» (как видно в этом пассаже) части своей великой мощью.
Здесь кроме Диониса на ум приходит фигура из другого мифологического контекста: это индуистский Шива, бог, уничтожающий мир как иллюзию (Шива Вирабхадра) и одновременно тем же самым (а не иным!) действием творящий его как игру. Амбивалентность Шивы проявляется во всех мифах и еще более заострена в его женских ипостасях — шакти, которые, подчас (Дурга, Кали) выступают пластическими манифестациями «огромной силы негативного». Сюжеты, связанные с Шивой (например, история с отсечением головы Дакши-Праджапати во время жертвоприношения богов), часто включают в себя ритуальное разделывание противника или жертвы.
Это сближение рассудка с Шивой проливает свет на некоторые не совсем очевидные стороны гегелевской философии. Некоторые аспекты философии Гегеля, в частности, те, что связаны с особым пониманием «становления», могут быть интерпретированы в духе шиваистской адвайта-веданты и учения Тантр. Адвайта знает о трансцендентности принципа и об «иллюзорности» имманентного мира (а значит, не является пантеизмом), но при этом она недуально настаивает одновременно на божественной реальности имманентного, т. е. на парадоксальной и сверхрассудочной имманентно-трансцендентности. Не так ли (вполне по-гераклитовски) мыслит Гегель свое становление как диалектическое преодоление противоположности между абстрактной идеей и эмпирической данностью?
Господство и смерть
Теперь перейдем к пассажу о самосознании, где идет речь о знаменитой диалектике Господин–Раб.
Самосознание, по Гегелю, есть способность сознания схватить себя само как источник «огромной силы негативности», т. е. как полюс смерти. Субъект есть то, что уничтожает объект, и Гегель подчеркивает, что осознавший свое «я» субъект формирует свое отношение к объекту как чистое вожделение — Begierde, «желаемое», «жадность», «стремление». В архаических пластах русского языка значение корня «мысль» также было связано с индоевропейским понятием «стремление». Здесь можно вспомнить и об «интенциональности» Брентано и Гуссерля как о структуре ноэзиса.
Мысля предмет, субъект его конституирует своим «желанием» и снимает потреблением. (Снова символизм «пожирания».) Термин «потребление» показателен. В русском языке он изначально связан со значениями «выкорчевывать», «теребить», затем «треба» — сакральная жертва (предполагающая расчленение), отсюда «истреблять», и далее «потреблять», «требовать» и т. д.
«…Самосознание поэтому достоверно знает себя само только благодаря снятию того другого, которое проявляется для него как самостоятельная жизнь; оно есть вожделение. Удостоверившись в ничтожности этого другого, оно устанавливает для себя эту ничтожность как его истину, уничтожает самостоятельный предмет и сообщает себе этим достоверность себя самого в качестве истинной достоверности как таковой…»[146].
«…das Selbstbewußtsein hiemit seiner selbst nur gewiß, durch das Aufheben dieses andern, das sich ihm als selbstständiges Leben darstellt; es ist Begierde. Der Nichtigkeit dieses Andern gewiß, setzt es für sich dieselbe als seine Wahrheit, vernichtet den selbstständigen Gegenstand und gibt sich dadurch die Gewißheit seiner selbst, als wahre Gewißheit, als solche…»
Таким образом, самосознание субъекта открывается и становится фактом в процессе уничтожения (Vernichtung) и, соответственно, войны. Очевидно, что мы не можем не вспомнить здесь Гераклита с его знаменитым высказыванием: «Война (Полемос) — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными»[147]. Тем более, что Гегель говорил, что так или иначе использовал в своих книгах все фрагменты Гераклита. Итак, самосознание есть акт войны, в которой субъект, вожделея объект как объект, снимает его как вещь-в-себе, выпускает ничто и осознает негативность как свою природу. Отсюда и рождается идея господства. Господин — это самосознание, распознавшее себя как единственное вожделеющее и несущее всему смерть. Господин есть тот, кто оказался на стороне богов в схватке с объектом. И теперь он становится единственным в мире смерти уже реализованной, потребленной им или приближающейся к этому вещи. Господин есть Господин, потому что он рискует жизнью и обнаруживает бытие смерти как свое собственное бытие. Раб же поворачивается к смерти спиной, он эвфемизирует ее. Тем самым он постоянно откладывает, отодвигает горизонт самосознания. «Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг»[148].
«Das Individuum, welches das Leben nicht gewagt hat, kann wohl als Person anerkannt werden; aber es hat die Wahrheit dieses Anerkanntseins als eines selbstständigen Selbstbewußtseins nicht erreicht».
Но вожделение все же нуждается в предмете, который оно же и уничтожает, и как только субъект замечает это, он вновь вступает в борьбу; но теперь не с предметом, а с другим самосознанием. Самосознание может быть только одно, и видя перед собой другое самосознание, первое стремится сделать его предметом, «опредметить» и «потребить» так же, как потребило ранее вещи мира. Отсюда вывод: «Самосознание достигает своего удовлетворения только в некотором другом самосознании».
«Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung nur in einem andern Selbstbewußtsein».
«Befriedigung» можно перевести и как «умиротворение» (от Frieden, «мир»). Но это очень особый «мир», т. к. он есть результат войны и победы. Самосознание совершенно, когда ему удается приравнять к объекту другое самосознание: только тогда наступает для него «мир».
Этот «мир», который рождается из «войны», знает два самосознания: одно из них сумело настоять на том, что оно единственно и является исключительным носителем смерти и негатива, которые несет в себе самом, т. к. ими является, а другое сдалось и предпочло сохранить связи с предшествующими моментами сознания, которые еще оперировали с предметами, хотя и вкушаемыми, но никогда не потребляемыми до конца, постоянно воспроизводимыми. Отсюда появляется пара Господин–Раб. Вполне можно было бы сказать: и пара Бог (например, Шива или Дионис)–Человек.
В битве за чистоту негации Господин получает власть. Теперь он свободен распространять свое «вожделение»–«потребление»–«истребление» на весь мир (Снова Гераклит: «Смерть — все, что мы видим, когда бодрствуем, а все, что мы видим, когда спим, есть сон»). Господствующие классы в традиционном обществе занимаются исключительно войной (воины) или жертвоприношениями (жрецы). Они культивируют чистую негацию. Выс-шие касты оперируют не с предметами, от которых они отделены бытием рабов, но с этими рабами. Труд, предполагающий соотношение с предметами, еще не снятыми, — удел «малого самосознания».
Господин достигает предела самосознания в стихии абсолютной свободы от объекта, и раб обеспечивает ему эту возможность. Отныне Господин потребляет не вещи, он потребляет Раба, т. е. питается самосознанием, а не чувственной достоверностью или восприятием.
Сопряжение гераклитовского высказывания между Господином (Свободным) и Богом, с одной стороны, и Рабом и Человеком, с другой, позволяет понять гегелевскую мысль лучше: Гераклит постоянно возвращается к параллелизму между бытием богов и бытием людей. Они живут за счет друг друга: «Бессмертные смертны, смертные бессмертны: жизнь одних есть смерть других, и смерть одних есть жизнь других»[149].
Господин независим от предмета, но зависим от Раба как от другого самосознания, подчиненного ему и сведенного к уровню предмета. Гегель пишет: «…господин соотносится с вещью посредством раба».[150]
«Ebenso bezieht sich der Herr mittelbar durch den Knecht auf das Ding».
Так появляется новая пара и новое опосредование. Далее Гегель показывает, как Господин становится зависимым от Раба, который удовлетворяет его вожделение, взаимодействуя с предметами, от которых он остается зависимым и в бытие которых он инвестирует свое сознание через практику труда/воспроизводства. Господин привыкает жить за счет «потребления» Раба и опосредованных им вещей, приводимых к уничтожению: ведь Господину всегда надо что-то уничтожать, в этом его «вожделение». Раб же привыкает пользоваться самосознанием Господина по причастности, подчас забывая, что это не его самосознание и на него он не имеет никакого философского права.
Толкования метафоры Господин—Раб
Известно, что это место из «Феноменологии Духа» стало центральным для марксизма. Маркс отметил эту диалектическую зависимость Господина от Раба и, выделив этот момент духа в самостоятельную структурную композицию, построил на нем теорию классовой борьбы и пролетарской революции. Идея состояла в том, что Раб в определенный момент может заметить, что Господин зависит от него самого экзистенциально (Господин его потребляет), а он от Господина не зависит, разве что заимствуя его самосознание (то есть буржуазную идеологию — ложное сознание по Марксу), т. к. Раб имеет дело с предметами как таковыми и устанавливает с ними уравновешенные отношения (эту тему «проклятой части» и ритуального уничтожения «излишков» в обществах «пещерного коммунизма» тщательно исследовал Ж. Батай). Господин же привносит в бытие Раба только смерть, негацию, ужас и войну. Дух и субъект есть война и смерть, при том что жизнь Раба — это пролетарский пацифизм.
Раб, по Марксу, должен направить негацию не против предмета, но против Господина, заменив войну как таковую «классовой войной», в ходе которой должно быть уничтожено самосознание — по крайней мере, на той стадии, где оно раздваивается на антагонистическую пару.
Развивая эту тему, можно прийти к очень важному пункту. Марксизм побеждал исторически в тех странах, где, согласно Марксу, победить не мог, т. к. в них не было достаточно развитого капитализма и соответствующего процента городского пролетариата. Но если истолковать пролетарские революции и, в первую очередь, пролетарскую революцию в России в гегелев-ском контексте, первичном по отношению к марксизму, то мы легко поймем, в чем тут дело: русское сознание в начале ХХ века не было пролетарским, но было, безусловно, сознанием Раба, тесно склеенным с объектом внешнего мира. Тем самым, оно было вполне «материалистическим» и «позитивистским» по своей структуре, т. е. идолопоклоннически инвестирующим сознание в миротворческое бытие-в-себе объекта. В марксизме Раб совершенно верно распознал призыв к опрокидыванию Господина как источника негации, субъекта и носителя самосознания. Раб освободился от философии, и подлинная революция произошла не в октябре 1917-го, а осенью 1922 года, когда от пристани отчалил «философский пароход», увозивший в никуда мысль. В Советской России остались труд и Раб.
Другую версию интерпретации этой пары и заложенной в ней диалектики развил А. Кожев. Он толковал противоречие между Господином и Рабом как то, что должно быть снято в появлении новой фигуры. Но не гегелевского «стоика», открывающего новую триаду моментов в самой «Феноменологии Духа» (стоицизм, скептицизм, «несчастное сознание»), а «гражданина», который представлял бы собой компромисс между самосознанием Господина и связностью Раба с предметными миром. «Гражданин» мыслился здесь как наделенный особым самосознанием — не столь негативным и шиваистским, как у Господина, но и не столь заниженным и нерефлективным, как у Раба. Так Кожев открыл возможность либеральной интерпретации Гегеля.
Третьей политической идеологией, которая также могла претендовать на наследие Гегеля в контексте Модерна, был итальянский фашизм (и в меньшей степени германской национал-социализм), где Дж. Джентиле[151] дал соб-ственную интерпретацию гегельянства в духе «актуализма». У Джентиле диалектика самосознания толкуется ближе всего к мысли самого Гегеля, что отмечал и его оппонент, другой итальянский гегельянец, относившийся, однако, к фашизму критически — Бенедетто Кроче.
Фигура «Господина Мира»
Можно обратить внимание на то, как разные философские традиции, в частности, три весьма политизированные, упомянутые нами выше, трактуют «Феноменологию Духа» в отрыве от общего движения гегелевской мысли. А именно, мы имеем дело (особенно у Маркса и Кожева, а позднее у экзистенциалистов) со структуралистским прочтением Гегеля, когда из последовательного развертывания спирали гегелевской диалектики выбирается один срез, который анализируется сам в себе со своими коннотациями и рамификациями. Вполне приемлемая философская процедура. Однако ее возможности далеко не исчерпываются упомянутыми примерами и могут быть продолжены. Так, вполне можно попытаться применить гегелевскую модель к кириологическим системам различных религий — как монотеистических (это он сам как раз явно подразумевал), так и иным.
Попробуем перейти через несколько этапов развертывания самосознания и обратимся к более высоким циклам «Феноменологии», где уже осуществился переход через стадии Разума к сфере духа. На уровне развития духа в область Лица Гегель обнаруживает фигуру «господина мира», который приобретает у него довольно зловещие черты.
«Этот господин мира видит себя, таким образом, абсолютным лицом, в то же время объемлющим в себе все наличное бытие, — лицом, для сознания которого не существует более высокого духа. Он — лицо, но одинокое лицо, противостоящее всем; эти все составляют имеющую значение всеобщность лица, ибо единичное как таковое истинно лишь как всеобщая множественность единичности: отделенная от этой множественности одинокая самость на деле есть недействительная бессильная самость. — В то же время она есть сознание содержания, противостоящего указанной всеобщей личности. Но это содержание, освобожденное от своей негативной силы, есть хаос духовных сил, которые, будучи неукротимы как стихийные сущности, движутся в диком разгуле, беснуясь и сокрушая друг друга; их бессильное самосознание есть безвластное окружение и почва для их буйства. Зная себя, таким образом, как совокупность всех действительных сил, этот господин мира есть чудовищное самосознание, которое чувствует себя действительным богом; но т. к. он есть лишь формальная самость, которая не в состоянии обуздать эти силы, то его движение и самоуслаждение точно так же есть чудовищный разгул.
Господин мира имеет действительное сознание того, что он есть, — всеобщей силы действительности — в той разрушающей власти, которую он осуществляет по отношению к противостоящей ему самости его подданных. Ибо его мощь не есть духовное единодушие, в котором отдельные лица узнавали бы свое собственное самосознание, а напротив, как лица они суть для себя и исключают непрерывную связь с другими из абсолютной хрупкости своей точечности (Punktualitat); они, следовательно, находятся в некотором лишь негативном отношении и друг к другу и к нему, который составляет их соотношение или непрерывную связь. В качестве этой связи он есть сущность и содержание их формализма, но содержание им чуждое и сущность — им враждебная, которая, напротив, снимает именно то, что для них имеет значение их сущности, — их бессодержательное для-себя-бытие, — и, будучи непрерывной связью их личности, именно ее и разрушает. Таким образом, правовая личность, т. к. в ней выказывается чуждое ей содержание (а оно выказывается в них, потому что оно есть их реальность), на опыте узнает скорее свою бессубстанциальность. Наоборот, разрушительное возбуждение умов на этой лишенной сущности почве сообщает себе сознание своего всевластия, но эта самость есть одно лишь опустошение, поэтому она оказывается лишь вне себя и есть скорее отказ от своего самосознания»[152].
«Dieser Herr der Welt ist sich auf diese Weise die absolute zugleich alles Dasein in sich befassende Person, für deren Bewußtsein kein höherer Geist existiert. Er ist Person; aber die einsame Person, welche allen gegenübergetreten; diese Alle machen die geltende Allgemeinheit der Person aus, denn das Einzelne als solches ist wahr nur als allgemeine Vielheit der Einzelnheit, von dieser abgetrennt ist das einsame Selbst in der Tat das unwirkliche, kraftlose Selbst. — Zugleich ist es das Bewußtsein des Inhalts, der jener allgemeinen Persönlichkeit gegenübergetreten ist. Dieser Inhalt aber von seiner negativen Macht befreit ist das Chaos der geistigen Mächte, die entfesselt als elementarische Wesen in wilder Ausschweifung sich gegeneinander toll und zerstörend bewegen; ihr kraftloses Selbstbewußtsein ist die machtlose Umschließung und der Boden ihres Tumultes. Sich so als den Inbegriff aller wirklichen Mächte wissend, ist dieser Herr der Welt das ungeheure Selbstbewußtsein, das sich als den wirklichen Gott weiß; indem er aber nur das formale Selbst ist, das sie nicht zu bändigen vermag, ist seine Bewegung und Selbstgenuß die ebenso ungeheure Ausschweifung.
Die freie Macht des Inhalts bestimmt sich so, daß die Zerstreuung in die absolute Vielheit der persönlichen Atome durch die Natur dieser Bestimmtheit zugleich in einen ihnen fremden und ebenso geistlosen Punkt gesammelt ist, der einesteils gleich der Sprödigkeit ihrer Personalität rein einzelne Wirklichkeit ist, aber im Gegensatze gegen ihre leere Einzelnheit zugleich die Bedeutung alles Inhalts, dadurch des realen Wesens für sie hat, und gegen ihre vermeinte absolute, an sich aber wesenlose Wirklichkeit die allgemeine Macht und absolute Wirklichkeit ist. Dieser Herr der Welt ist sich auf diese Weise die absolute zugleich alles Dasein in sich befassende Person, für deren Bewußtsein kein höherer Geist existiert. Er ist Person; aber die einsame Person, welche allen gegenübergetreten; diese Alle machen die geltende Allgemeinheit der Person aus, denn das Einzelne als solches ist wahr nur als allgemeine Vielheit der Einzelnheit, von dieser abgetrennt ist das einsame Selbst in der Tat das unwirkliche, kraftlose Selbst. — Zugleich ist es das Bewußtsein des Inhalts, der jener allgemeinen Persönlichkeit gegenübergetreten ist. Dieser Inhalt aber von seiner negativen Macht befreit ist das Chaos der geistigen Mächte, die entfesselt als elementarische Wesen in wilder Ausschweifung sich gegeneinander toll und zerstörend bewegen; ihr kraftloses Selbstbewußtsein ist die machtlose Umschließung und der Boden ihres Tumultes. Sich so als den Inbegriff aller wirklichen Mächte wissend, ist dieser Herr der Welt das ungeheure Selbstbewußtsein, das sich als den wirklichen Gott weiß; indem er aber nur das formale Selbst ist, das sie nicht zu bändigen vermag, ist seine Bewegung und Selbstgenuß die ebenso ungeheure Ausschweifung».
На эти строки обращал внимание Ж. Маритэн, но лишь с тем, чтобы по-критиковать с позиции неотомизма гегелевскую философию за ее заносчивость. На самом деле мы имеем здесь крайне интересную попытку заглянуть в субъективное переживания субъектом самого себя на уровне прохождения основных ступеней индивидуации и превращения в лицо. Господин мира — этот тот же самый Господин, которого мы видим в основе становления самосознания, на втором витке развертывания феноменологии духа, но только прешедший огромный путь через диалектические перипетии разума и первые стадии собственно Духа. Господин мира появляется в «Феноменологии» там, где завершается раздел «Истинный дух, нравственность» и подраздел «Правовое состояние». По сути, это кульминация тезиса Духа (первого момента тезис-антитезис-синтез), предшествующего антитезе Духа, которым является «Образование».
Хотя сфера религии будет рассматриваться Гегелем на следующем витке, структуралистский подход позволяет нам осуществить срез гегелевского повествования и истолковать эту фигуру «Господина мира» в самых разных контекстах.
Что произошло с Господином, который стал отныне «Господином мира»? Формальное отличие в том, что у него появился «мир». На уровне самосознания у Господина был лишь Раб, а через него снятый Рабом предмет. Теперь же после стадии Разума (еще раз прошедшего круг: природа, разумное самосознание, индивидуум) и начальной стадии Духа в его нравственном выражении, где пошла речь о народе и обществе, Господин имеет перед собой хорошо организованную упорядоченную систему социального целого, состоящего из нравственных и правовых единиц, наделенных и Разумом и Духом (в первом тезисном состоянии). Эта совокупность и есть «мир». «Мир» представляет собой систематизированное представление о природе и морали, снятые в индивидуальности, а затем интеграцию этих моментов в Дух, проявляющий себя в обществе (народе), состоящем из лиц, которые наделяются народом автономным бытием как выражением Духа. И вот тут снова, когда Дух сложился в мир, свернутым образом воплощенный в обществе (народе), обнаруживается новое присутствие субъекта, носителя свободной негативности.
Несколько ранее в том же первом разделе о Духе Гегель уже упоминал о важности войны для поддержания духовного (на сей раз) самосознания личности.
«Для того чтобы последние (люди. — А. Д.) не укоренились и не укрепились в этом изолировании, благодаря чему целое могло бы распасться и дух улетучился бы, правительство должно время от времени внутренне потрясать их посредством войн, нарушать этим и расстраивать наладившийся порядок и право независимости; индивидам же, которые, углубляясь в это, отрываются от целого и неуклонно стремятся к неприкосновенному для-себя-бытию и личной безопасности, дать почувствовать в указанной работе, возложенной на них, их господина — смерть»[153].
«Um sie nicht in dieses Isolieren einwurzeln und festwerden, hiedurch das Ganze auseinanderfallen und den Geist verfliegen zu lassen, hat die Regierung sie in ihrem Innern von Zeit zu Zeit durch die Kriege zu erschüttern, ihre sich zurechtgemachte Ordnung und Recht der Selbstständigkeit dadurch zu verletzen und zu verwirren, den Individuen aber, die sich darin vertiefend vom Ganzen losreißen und dem unverletzbaren Für-sich-sein und Sicherheit der Person zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Herrn, den Tod, zu fühlen zu geben».
Война снова напоминает людям о том, кто их Господин и на кого они работают, когда работают по настоящему — т. е. воюют. И как кульминация утверждения Духа у смерти появляется Лицо. Она становится юридическим и социальным, политическим понятием, личностью, лицом. Смерть персонифицирована и учреждена как социально-политическое явление, как «глава правительства» над раскинувшимся под ним оформленным в общество и диалектически развитым целым, которым и является «мир». «Мир» понимается здесь как историко-социальная категория, как народ и государство, где все предшествующие моменты развертывающегося сознания сняты. «Мир» есть общество. И у общества есть Господин. Это смерть.
И далее Гегель делает удивительную попытку, на которую, насколько мне известно (хотя, возможно, я ошибаюсь) никто не обратил должного внимания: он пытается описать внутреннее бытие Бога, его самосознание и его самочувствие; коль скоро Бог есть субъект и Лицо, это становится возможным (пусть теоретически). То, что предпринимает Гегель в этом фрагменте, есть не что иное, как попытка взглянуть на Бога и его бытие изнутри него самого. Взгляд на смерть изнутри нее самой…
«Этот господин мира видит себя, таким образом, абсолютным лицом, в то же время объемлющим в себе все наличное бытие, — лицом, для сознания которого не существует более высокого духа. Он — лицо, но одинокое лицо, противостоящее всем (…)». «Einsame Person», «Одинокое Лицо». Здесь мы имеем дело с броском, проникающим в одиночество Бога и в одиночество смерти, которая утверждает свое бытие и свою персональность, только снимая бытие всех остальных персональностей, т. е. взрывая мир как социум.
Это одиночество не случайно, оно проистекает из «чудовищного самосознания», которое является апофеозом раннего «несчастного сознания». При всем своем абсолютном могуществе и единственности, актуализированной способности к снятию мира, «чудовищное самосознание» «Господина мира» болезненно, т. е. содержит в себе не самотождество, а напротив, предельное нетождество, раскол, Zerrissenheit. Мы видим Бога страдающего, Бога несчаст-ного, Бога расколотого и печального, мучимого абсолютностью своей силы и своего одиночества. Быть может, Гегель приближается здесь к самому главному движущему моменту его философии: динамика истории и движение мира как моменты самопостижения Духа, его феноменология, и собственно «становление» есть выражение глубинной травмы, которая заложена в самом Божестве и которая не дает ему самому воспринимать самотождество как последний ответ, но толкает его в циклы диалектики, чтобы поделиться своей болью, своим несчастьем с другим, которого, впрочем, нет и который заведомо снят абсолютной силой единственно господствующей смерти. Нель-зя исключить, что Гегель уловил эту гностическую и революционную тему у Беме и Шеллинга, которые осмысливали «Grund» Бога, фасцинирующую и ужасающую догадку о бездонном Боге, у которого есть, однако, тайное «дно».
Еще важно: «Господин мира» у Гегеля есть Бог народа и общества, с которыми он диалектически сопряжен. Мир как «хорошо организованная упорядоченная система социального целого» есть одновременно «хаос духовных сил, которые, будучи неукротимы как стихийные сущности, движутся в диком разгуле, беснуясь и сокрушая друг друга». И сам «Господин мира» — «т. к. он есть лишь формальная самость, которая не в состоянии обуздать эти силы, то его движение и самоуслаждение точно так же есть чудовищный разгул». Мир есть зеркало Бога, и мир есть народ.
Что это напоминает? Бога Ветхого Завета, взаимодействующего с избранным народом — как Лицо с лицами. Но только это — попытка проникнуть в него как в субъекта.
Но с другой стороны, мы вполне можем представить себе процессию Диониса, который также выступает как «Господин Мира» в стихии прекрасно организованного и упорядоченного, но опьяненного празднеством духа в момент вакхических обрядов космоса. То, что Гегель использует в описании внутреннего состояния «Господина мира» термин «Ausschweifung» — «разгул», «эксцесс», «вакханалии», подтверждает эту подсознательную (или сознательную) метафору. И снова мы можем вернуться к самому началу, где Гегель давал описание сути «феномена» как экстатического (вакхического) момента.
Если мы поставим сюда Шиву, то получим обоснование того негатива, возведенного в личность, который определяет еще один аспект этой фигуры.
И наконец, нельзя исключить полностью, что речь идет о дьяволе как «князе мира сего».
раздел 2. Дух и Общество
Народ как дух
Продолжим структуралистское прочтение отдельных фрагментов «Феноменологии Духа» Гегеля. На сей раз обратим внимание на социологиче-ские моменты, которые можно вывести из его общего подхода.
Приблизительно на середине «Феноменологии Духа» мы встречаем очень важный переход, обнаруживающий особенность гегелевского понимания субъекта. На тематической карте книги это соответствует второй части раздела «Разум», которым открывается «Абсолютный Субъект». Как всегда у Гегеля, раздел «Разум» разбит на три составляющие, соответствующие трем диалектическим моментам, и интересующий нас раздел является вторым (разделом В), т. е. соответствует диалектической стадии негации. До этого момента Гегель изучает движения сознания и самосознания, а также первой фиксации разума (как самосознания, осознавшего свое содержание как понятие), направленного на рациональное исследование природы, без ясного указания на то, какова конкретная структура носителя этих функций — т. е. субъекта. Эта половина книги определена как «Абсолютный Субъект», и мы вправе расчитывать, что найдем в ней пояснение природы этого субъекта. И действительно, в разделе В («Претворение разумного самосознания в действительность им самим») мы сталкиваемся с первым пояснением, а в следующем разделе С, завершающим часть «Разум», — с определением сущности индивидуума и процесса индивидуации.
Когда Гегель доходит до этого момента, в его диалектической картине становления духа появляется «народ». Вот как Гегель это понимает:
«Прежде всего этот деятельный разум сознает себя самого только в качестве некоторого индивида и как таковой необходимо требует своей действительности в другом и создает ее; но затем, когда сознание индивида возвышается до всеобщности, оно становится всеобщим разумом и сознает себя в качестве разума, как то, что признано уже в себе и для себя и что объединяет в своем чистом сознании всякое самосознание; оно есть простая духовная сущность, которая, приходя в то же время к сознанию, есть реальная субстанция, куда прежние формы возвращаются как в свою основу, так что по отношению к последней они суть лишь отдельные моменты ее становления; эти моменты хотя и отрываются и выступают в качестве соб-ственных формообразований, на деле, однако, обладают наличным бытием и действительностью, только имея своим носителем эту основу; своей же истиной обладают лишь постольку, поскольку они суть и остаются внутри его самого»[154].
«Zuerst ist diese tätige Vernunft ihrer selbst nur als eines Individuums bewußt, und muß als ein solches seine Wirklichkeit im andern fordern und hervorbringen — alsdenn aber, indem sich sein Bewußtsein zur Allgemeinheit erhebt, wird es allgemeine Vernunft, und ist sich seiner als Vernunft, als an und für sich schon anerkanntes bewußt, welches in seinem reinen Bewußtsein alles Selbstbewußtsein vereinigt; es ist das einfache geistige Wesen, das, indem es zugleich zum Bewußtsein kommt, die reale Substanz ist, worein die frühern Formen als in ihren Grund zurückgehen, so daß sie gegen diesen nur einzelne Momente seines Werdens sind, die sich zwar losreißen und als eigne Gestalten erscheinen, in der Tat aber nur von ihm getragen Dasein und Wirklichkeit, aber ihre Wahrheit nur haben, insofern sie in ihm selbst sind und bleiben».
Здесь мы видим четкое описание того, что позднее Дюркгейм назовет «коллективным сознанием», субстанциально первичным по отношению к отдельным индивидуумам. Именно коллективный (по Гегелю, всеобщий) разум (allgemeine Vernunft) снабжает индивидуумов действительностью и существованием (бытием). Показательно, что Гегель использует здесь термин Dasein, из чего можно сделать очень далеко идущие выводы (с учетом терминологии Хайдеггера). При этом Гегель эксплицитно отождествляет всеобщий разум с фактичностью народа (Volk).
Гегель подтверждает эту субстанциальность метафорой звезд.
«В жизни народа понятие претворения в действительность разума, обладающего самосознанием, на деле имеет свою завершенную реальность — это понятие состоит в том, что разум усматривает в самостоятельности другого полное единство [его] с ним, или в том, что он имеет предметом, в каче-стве моего для-меня-бытия, «эту», мною уже найденную свободную вещность некоторого другого, которая есть негативное меня самого. Разум наличествует как текучая всеобщая субстанция, как неизменная простая вещность, рассыпающаяся на множество совершенно самостоятельных сущностей, подобно свету в звездах, — бесчисленными для себя сверкающими точками, которые в своем абсолютном для-себя-бытии растворены в простой самостоятельной субстанции не только в себе, но и для самих себя; они сознают, что они суть эти единичные самостоятельные сущности благодаря тому, что они жертвуют своей единичностью, и эта всеобщая субстанция есть их душа и сущность, подобно тому, как это всеобщее, в свою очередь, есть действование их как отдельных лиц или ими созданное произведение»[155].
«In dem Leben eines Volks hat in der Tat der Begriff der Verwirklichung der selbstbewußten Vernunft, in der Selbstständigkeit des Andern die vollständige Einheit mit ihm anzuschauen, oder diese von mir vorgefundene freie Dingheit eines andern, welche das Negative meiner selbst ist, als mein Für-mich-sein zum Gegenstande zu haben, seine vollendete Realität. Die Vernunft ist als die flüssige allgemeine Substanz, als die unwandelbare einfache Dingheit vorhanden, welche ebenso in viele vollkommen selbstständige Wesen wie das Licht in Sterne als unzählige für sich leuchtende Punkte zerspringt, die in ihrem absoluten Für-sich-sein nicht nur an sich in der einfachen selbstständigen Substanz aufgelöst sind, sondern für sich selbst; sie sind sich bewußt, diese einzelne selbstständige Wesen dadurch zu sein, daß sie ihre Einzelnheit aufopfern und diese allgemeine Substanz ihre Seele und Wesen ist; so wie dies Allgemeine wieder das Tun ihrer als einzelner oder das von ihnen hervorgebrachte Werk ist».
Индивидуум растворен в народе как в основе своего бытия. При этом для диалектики Гегеля чрезвычайно важно, что именно в народе, в эмпирическом факте его исторического существования разум становится действительным.
«В свободном народе поэтому разум поистине претворен в действительность; разум есть наличествующий живой дух, в котором индивид находит не только высказанным и имеющимся налицо в качестве вещности свое определение, т. е. свою всеобщую и единичную сущность, но он сам есть эта сущность и он также достиг своего определения. Мудрейшие люди древности поэтому решили, что мудрость и добродетель состоят в том, чтобы жить согласно нравам своего народа»[156].
«In einem freien Volke ist darum in Wahrheit die Vernunft verwirklicht; sie ist gegenwärtiger lebendiger Geist, worin das Individuum seine Bestimmung, das heißt sein allgemeines und einzelnes Wesen, nicht nur ausgesprochen und als Dingheit vorhanden findet, sondern selbst dieses Wesen ist, und seine Bestimmung auch erreicht hat. Die weisesten Männer des Altertums haben darum den Ausspruch getan: daß die Weisheit und die Tugend darin bestehen, den Sitten seines Volks gemäß zu leben».
Свободный народ есть важнейшим момент становления духа на стадии разума. Только здесь разум становится действительным, а значит, до народа как свободного народа, он таковым не является.
Тем самым Гегель утверждает субстанциальность народа как духа Volk als Geist, а не «народного духа» (Volkgeist).
Бунт индивидуума и духовное гражданство
Поскольку мы в разделе В имеем дело с вторым диалектическим моментом, с моментом негации, то должны наверняка столкнуться с противоречием и проблемой. Так оно и происходит там, где речь доходит до «бунта индивидуальности» или «извращения индивидуальностью».
«Разум должен выйти из этого счастливого состояния, ибо лишь в себе или непосредственно жизнь свободного народа есть реальная нравственность (…) ».
«Die Vernunft muß aus diesem Glücke heraustreten; denn nur an sich oder unmittelbar ist das Leben eines freien Volks die reale Sittlichkeit (…)».
Это очень болезненный выход, но необходимый для диалектики. В нем дает о себе знать раскол между субстанцией народа как «коллективного разума» и «ничтожностью» индивидуума — «тощего «я» (trockenes «Ich»). В определенный момент индивидуум осознает собственную недействительность перед лицом народа, схватывает свою ничтожность и даже свое «небытие», коль скоро Dasein'ом его снабжает субстанция (=народ).
«Выражая этот момент своей сознающей себя гибели и в ней результат своего опыта, сознание выказывает себя как это внутреннее извращение себя самого, как помешательство того сознания, для которого его сущность (Wesen) непосредственно есть не-сущность (Unwesen), его действительность непосредственно — недействительность (Unwirklichkeit). — Помешатель-ство нельзя понимать в том смысле, что вообще нечто лишенное сущности принимается за существенное, нечто недействительное — за действительное; так что то, что существенно или действительно для одного, для другого не было бы таковым, и сознание действительности и недействительности или существенности и несущественности распалось бы»[157].
«Indem es dies Moment seines sich bewußten Untergangs und darin das Resultat seiner Erfahrung ausspricht, zeigt es sich als diese innere Verkehrung seiner Selbst, als die Verrücktheit des Bewußtseins, welchem sein Wesen unmittelbar Unwesen, seine Wirklichkeit unmittelbar Unwirklichkeit ist».
Если бы мы остались на этом уровне, то получили бы картину, фиксируемую философами либерализма — например, Дж. Миллем с конкретностью «свободы от» (liberty) и абстрактностью «свободы для» (freedom). Пустой индивидуум выступает против субстанциального разума и отвоевывает право на иечем не подкрепленную онтологически «свободу», у которой нет никакого другого пути, кроме как двигаться к утверждению «приватной рациональности» и «индивидуальному языку». То есть выделение этого момента становления разума в самостоятельную систему дает нам либерализм, с одной стороны, и (французский) экзистенциализм и анархический солипсизм в духе Штирнера, с другой. Показательно, что брезгливость Гегеля, проявляющаяся даже в подборе терминов для описания этого момента и его признание лишь в качестве переходной, почти технической, ступени, отражает его тяготение к описанию совсем иных горизонтов духа. Но структуралистский подход вполне может вынести это «тяготение» за скобки и рассмотреть только отдельно взятый срез. Тогда мы можем вывести из этой ясно намеченной дилеммы два полярных социологических подхода: социологический максимализм (Маркс, Конт, Дюркгейм) и социологический минимализм (М. Вебер и Чикагская школа). Одним словом, из этого фрагмента «Феноменологии» легко вывести все основные версии социологии.
На следующем витке, когда мы переходим собственно к духу, Гегель развивает понятие народ, подчеркивая, что дух «как действительная субстанция есть народ»[158]. (Als die wirkliche Substanz ist er ein Volk). Но теперь бунт индивидуума снят, чем завершена последовательная цепочка его корректной индивидуации, связанной с рефлексией соотношений целого и части, субстанции и сознания. Это как раз и есть перехода разума в дух, что сопряжено с самосознанием народа через индивидуума, и параллельной индивидуацией через осмысление диалектики своего отношения к народу, по ту сторону первичного истерического бунта (на котором останавливается либерал или анархист, а методологически, представитель «понимающей социологии»). Поэтому, уточняет Гегель, дух «как действительное сознание [есть] гражданин народа»[159] («als wirkliches Bewußtsein Bürger des Volkes»).
Так «бунт индивидуума» снимается в развитии духа, отводящего индивидууму, на сей раз как «гражданину народа», место в субстанциальном целом. Сердце и власть законов примирены в акте «гражданского сознания». Индивидуальная частица народа мыслит самостоятельно целое (сам народ) как свой главный и единственный объект, за счет которого и имеет только свое собственное действительное бытие как «духовного явления». Гражданство, таким образом, понимается как осознание народа и факт соучастия в дей-ствительности духа, т. е. гражданство в духе или духовное гражданство.
Вся политическая система и общество как таковые должны строиться нормативно именно на этом принципе. Либо осознанно и прямо — тогда мы имеем дело со здоровым обществом, либо извращенно — тогда воцаряется аномия, где снова обнаруживается раскол и дисгармония. Но уже на следующем уровне.
Диалектика социальной аномии: Модерн
Болезнь духа как фаза негации описана у Гегеля во второй части раздела «Дух». Здесь мы имеем дело с удивительным по своей проницательности и глубине описанием «больного общества» как выражения «отчужденного духа». Гегель сопрягает эту фазу с тем, что он называет «образованием» (Bildung).
Если снова взять описание этой фазы изолированно, то мы находим по-трясающую по своей силе и глубине критику Просвещения, а также всего Модерна. Причем, фокусируюсь на этом моменте, Гегель проникает не только в глубину Модерна, но и предвосхищает его дальнейшее развитие, т. е. собственно Постмодерн. По схеме самого Гегеля, дух, совершив этот виток негации, должен сменить направление и по спирали взойти к фазе «морального сознания» (то есть к третьему, спекулятивному уровню — синтезу и отрицанию отрицания). Но наблюдение за последними тремя столетиями социального и философского развития дает нам несколько другую картину, резонирующую с Гегелем, только если представить фазу «отчужденного духа» как нечто самостоятельное и длящееся линейно. Можно представить это как движение на высокой скорости по кругу, когда водитель не справляется с управлением, не вписывается в (крутой, диалектический) поворот и его продолжает нести по инерции все дальше и дальше, уже без разбора пути и сверки с изначальным планом и дорожными знаками.
«Просвещение», совершенно точно описанное Гегелем как момент, не согласилось с тем, что было предписано ему Гегелем как диалектическое укрощение, и стало развиваться само по себе через всю историю высокого Модерна прямо в Постмодерн. В описании Гегелем «языка разорванности» и «разорванного сознания» мы ясно видим именно контемпоральное общество Постмодерна.
Ядром катастрофы является «чистое здравомыслие» (reine Einsicht, т. е. «bonne raison» Декарта). В нем разум, достигший высокой стадии духа в народе и его историческом самосознании, вступает в зону кризиса. Именно на здравомыслии основано образование (как явление) и Просвещение (одновременно и как метод и как эпоха).
«Обращенное против веры как против чуждого, лежащего по ту сторону царства сущности, оно (чистое здравомыслие. — А. Д.) есть просвещение. Просвещение завершает отчуждение и в этом царстве, куда спасается отчужденный дух как в сознание равного самому себе покоя; оно вносит хаос в хозяйство, которое дух здесь ведет, тем, что вносит в него утварь посюстороннего мира, которую тот не может не признать своей собственностью, потому что его сознание в равной мере принадлежит этому миру. В то же время чистое здравомыслие реализует в этом негативном занятии себя само и создает свой собственный предмет — непознаваемую абсолютную сущность и полезное. Так как таким образом действительность потеряла всякую субстанциальность и в ней ничто уже более не есть в себе, то как царство веры, так и царство реального мира низвергаются, и эта революция порождает абсолютную свободу (…)»[160].
«Diese vollendet auch an diesem Reiche, wohin sich der entfremdete Geist, als in das Bewußtsein der sich selbst gleichen Ruhe rettet, die Entfremdung; sie verwirrt ihm die Haushaltung, die er hier führt, dadurch, daß sie die Gerätschaften der diesseitigen Welt hineinbringt, die er als sein Eigentum nicht verleugnen kann, weil sein Bewußtsein ihr gleichfalls angehört. — In diesem negativen Geschäfte realisiert zugleich die reine Einsicht sich selbst, und bringt ihren eignen Gegenstand, das unerkennbare absolute Wesen, und das Nützliche hervor. Indem auf diese Weise die Wirklichkeit alle Substantialität verloren und nichts mehr an sich in ihr ist, so ist wie das Reich des Glaubens so auch der realen Welt gestürzt, und diese Revolution bringt die absolute Freiheit hervor (…)».
По сути, эта картина описывает крушение духа. «Привнесение утвари посюстороннего мира» есть триумф технического, абсолютизация того начала, который позднее Хайдеггер назовет Gestell. Абсолютная сущность в виде апофатической мистики материальности и грубый утилитаризм (полезное) составляют орудия «чистого здравомыслия» как агрессивной болезненной формы обскурантизма.
Здравомыслие переворачивает ценностную структуру духа в его народной фазе (стартовый момент духа как народа). Для этой первой стадии государственная власть есть благо, т. к. отражает всеобщее сознание и субстанцию, а богатство — зло, т. к. в нем выражается лишь сингулярная сторона наличности индивидуума, отчуждающая его от целого. На уровне «образования» и на стадии «Просвещения» это меняется: для здравомыслия, напротив, материальное благополучие индивидуума в отрыве от его духовных свойств становится благом, а государственная власть, с необходимостью ограничивающая материальную свободу индивидуумов (Левиафан Гоббса), — злом.
Больное общество сводится к максимализации пустой свободы индивидуума в ущерб содержательной свободе народа как целого. Гегель описывает это так:
«Но наивысшая и всеобщей свободе наиболее противоположная дей-ствительность или, лучше сказать, единственный предмет, который ей еще открывается, есть свобода и единичность самого действительного самосознания. Ибо та всеобщность, которая не может достигнуть реальности органического расчленения и цель которой — сохранить себя в нераздельной непрерывности, в то же время различается внутри себя, потому что она есть движение или сознание вообще. И притом в силу своей собственной абстракции она разделяется на столь же абстрактные крайние термины — на простую непреклонную холодную всеобщность и на разобщенную абсолютную жесткую косность и своенравную точечность действительного самосознания. После того, как она покончила с уничтожением реальной организации и теперь существует для себя, это действительное сознание — ее един-ственный предмет, предмет, который более не имеет никакого иного содержания, владения, наличного бытия и внешнего протяжения, а есть только это знание о себе как абсолютно чистой и свободной единичной самости.
(…) Единственное произведение и действие всеобщей свободы есть по-этому смерть, и притом смерть, у которой нет никакого внутреннего объема и наполнения; ибо то, что подвергается негации, есть ненаполненная точка абсолютно свободной самости; эта смерть, следовательно, есть самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не больше, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды.
В пошлости одного этого слога состоит мудрость правительства, рассудок всеобщей воли, направленной на осуществление себя. Само правительство есть не что иное, как укрепившаяся точка или индивидуальность всеобщей воли. Будучи проявлением воли и осуществлением, исходящим из одной точки, оно проявляет волю и осуществляет в то же время определенный порядок и поступок. Этим оно, с одной стороны, исключает прочие индивиды из своего действия, а с другой стороны, благодаря этому оно конституируется как такое правительство, которое есть определенная воля и которое вследствие этого противоположно всеобщей воле; оно поэтому безусловно не может проявить себя иначе, как в виде некоторой партии (Faktion). Только побеждающая партия называется правительством, и именно в том, что она есть партия, непосредственно заключается необходимость ее гибели; и наоборот, то, что она есть правительство, делает ее партией и возлагает на нее вину. Если всеобщая воля считает ее поступки преступлением, которое она совершает, против нее, то эта партия, напротив, не располагает ничем определенным и внешне выраженным, в чем проявилась бы вина противоположной ей воли; ибо ей как действительной всеобщей воле противостоит лишь недействительная чистая воля, намерение. Быть под подозрением приравнивается поэтому к виновности или имеет такое же значение и такие же последствия, а внешне выраженная реакция на эту действительность, заключающуюся в простом «внутреннем» намерении, состоит в холодном уничтожении этой сущей самости, у которой нечего отнять, кроме лишь самого ее бытия»[161].
«Aber die höchste und der allgemeinen Freiheit entgegengesetzteste Wirklichkeit oder vielmehr der einzige Gegenstand, der für sie noch wird, ist die Freiheit und Einzelnheit des wirklichen Selbstbewußtseins selbst. Denn jene Allgemeinheit, die sich nicht zu der Realität der organischen Gegliederung kommen läßt, und in der ungeteilten Kontinuität sich zu erhalten den Zweck hat, unterscheidet sich in sich zugleich, weil sie Bewegung oder Bewußtsein überhaupt ist. Und zwar um ihrer eignen Abstraktion willen trennt sie sich in ebenso abstrakte Extreme, in die einfache unbiegsam kalte Allgemeinheit, und in die diskrete absolute harte Sprödigkeit und eigensinnige Punktualität des wirklichen Selbstbewußtseins. Nachdem sie mit der Vertilgung der realen Organisation fertig geworden und nun für sich besteht, ist dies ihr einziger Gegenstand — ein Gegenstand, der keinen andern Inhalt, Besitz, Dasein und äußerliche Ausdehnung mehr hat, sondern er ist nur dies Wissen von sich als absolut reinem und freiem einzelnem Selbst. An was er erfaßt werden kann, ist allein sein abstraktes Dasein überhaupt. — Das Verhältnis also dieser beiden, da sie unteilbar absolut für sich sind, und also keinen Teil in die Mitte schicken können, wodurch sie sich verknüpften, ist die ganz unvermittelte reine Negation; und zwar die Negation des Einzelnen als Seienden in dem Allgemeinen. Das einzige Werk und Tat der allgemeinen Freiheit ist daher der Tod, und zwar ein Tod, der keinen innern Umfang und Erfüllung hat, denn was negiert wird, ist der unerfüllte Punkt des absolut freien Selbsts; er ist also der kälteste, platteste Tod, ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Kohlhaupts oder ein Schluck Wassers».
Это описание дает нам «общество смерти» как выражение доведенного до предела либерального принципа, являющегося сущностью здравомыслия. Эта смерть является пустой и банальной, в отличие от той насыщенной, активной и динамически заряженной смерти, которую несет в себе субъект. Здесь творческий негатив, являющийся сутью становления (явления), приобретает застывшие черты и превращается в то, что Ницше позднее назовет «европейским нигилизмом».
Так Просвещение уничтожает веру, которая, по Гегелю, является не антитезой разума, но его наиболее возвышенным и самоосознающим выражением (т. к. разум есть абсолютная негация вещи как вещи-в-себе). Гегель издевается над философской наивностью здравомыслия:
« Просвещение, которое выдает себя за чистоту, делает здесь из того, что для духа есть вечная жизнь и дух святой, некоторую действительную преходящую вещь и оскверняет это ничтожным в себе воззрением чувственной достоверности — воззрением, которого для благоговейной веры вовсе не существует, так что просвещение попросту ложно приписывает ей это воззрение. То, что почитает вера, для нее отнюдь не камень или дерево или тесто и не какая-либо иная преходящая, чувственная вещь. Если Просвещению вздумается сказать, что, мол, предмет веры все-таки есть также и это, или даже, что такова она в себе и поистине, то, с одной стороны, вера равным образом знает это «также», но оно для веры — вне ее благоговения; а с другой стороны, для веры вообще не существует в себе чего-либо такого, как камень и т. п., а в себе есть для нее одна лишь сущность чистого мышления»[162].
«Die Aufklärung, die sich für das Reine ausgibt, macht hier das, was dem Geiste ewiges Leben und heiliger Geist ist, zu einem wirklichen vergänglichen Dinge, und besudelt es mit der an sich nichtigen Ansicht der sinnlichen Gewißheit — mit einer Ansicht, welche dem anbetenden Glauben gar nicht vorhanden ist, so daß sie ihm dieselbe rein anlügt. Was er verehrt, ist ihm durchaus weder Stein oder Holz oder Brotteig, noch sonst ein zeitliches sinnliches Ding. Wenn es der Aufklärung einfällt, zu sagen, sein Gegenstand sei doch dies auch, oder gar, er sei dieses an sich und in Wahrheit, so kennt teils der Glauben ebensowohl jenes Auch, aber es ist ihm außer seiner Anbetung; teils aber ist ihm überhaupt nicht so etwas wie ein Stein und so fort an sich, sondern an sich ist ihm allein das Wesen des reinen Denkens».
Очень важно, что Гегель тем самым показывает Модерн с его оптимистическими установками и верой в линейный прогресс как пародию и лживую гальванизацию пошлой смерти. Модерн, таким образом, и, соответ-ственно, Просвещение есть для него нечто, что следует преодолеть. Сам Гегель внятно указывает то направление, в котором это надо делать — в сторону морали и обретения духом новой достоверности самого себя. Но это исторически оказалось столь же проблематичным, как «пролетарские революции», предсказанные Марксом — они кое-где произошли в дейст-вительности, но
1) не там, где ожидалось;
2) оказались обратимыми (реверсивными), а значит;
3) видимо, были не тем, за что себя выдавали и как осознавались внешними наблюдателями.
Визионерская дескрипция Постмодерна
Вслед за Модерном как кризисом сознания пришло не излечение (снятие, отрицание отрицания), но усугубление. Это принято называть Постмодерном. Его вполне можно описать как радикализацию того явления, которое Гегель называет «разорванностью». Разорванность коренится в языке как основе «отчуждения». Этот тезис мог бы служить концептуальным знаменем постструктуралистов.
«Но это отчуждение совершается единственно в языке, который здесь выступает в свойственном ему значении»[163].
«Diese Entfremdung aber geschieht allein in der Sprache, welche hier in ihrer eigentümlichen Bedeutung auftritt».
При этом язык может выступать как в опосредовании отношений внутри народа как политического тела, и тогда «отчужденность» его снимается тем, что через него осуществляется распределения духа от государственной вла-сти (монарха) к отдельным индивидуумам, но может в перевернутой оптике индивидуализма Просвещения, следуя траектории «чистого здравомыслия» (reine Einsicht), сопрячься с богатством (сегодня мы бы сказали с «частной собственностью») как выражением общественной разорванности и бессмысленной (мертвой) свободы.
«Богатство уже в самом себе заключает момент для-себя-бытия. Оно не есть лишенное самости «всеобщее» государственной власти, или примитивная (unbefangene) неорганическая природа духа, а есть природа, как она придерживается себя самой благодаря воле против той воли, которая хочет завладеть ею для пользования. Но т. к. богатство имеет только форму сущно-сти, то это одностороннее для-себя-бытие, которое не есть в себе, а напротив, есть снятое «в себе», есть в своем наслаждении лишенное сущности возвращение индивида в себя самого. Богатство само, следовательно, нуждается в оживотворениии, и движение его рефлексии состоит в том, что оно, будучи только для себя, превращается, но в-себе и для-себя-бытие, что оно, которое есть снятая сущность, превращается в сущность; так оно в самом себе обретает свой собственный дух»[164].
«Der Reichtum hat an ihm selbst schon das Moment des Für-sich-seins. Er ist nicht das selbstlose Allgemeine der Staatsmacht, oder die unbefangene unorganische Natur des Geistes, sondern sie, wie sie durch den Willen an ihr selbst festhält gegen den, der sich ihrer zum Genuß bemächtigen will. Aber indem der Reichtum nur die Form des Wesens hat, ist dies einseitige Für-sich-sein, das nicht an sich, sondern vielmehr das aufgehobne An-sich ist, die in seinem Genusse wesenlose Rückkehr des Individuums in sich selbst. Er bedarf also selbst der Belebung; und die Bewegung seiner Reflexion besteht darin, daß er, der nur für sich ist, zum An — und Für-sich-sein, daß er, der das aufgehobene Wesen ist, zum Wesen werde; so erhält er seinen eigenen Geist an ihm selbst».
Здесь стоит обратить внимание на игру слов «Reich», «государство», «правительство» и «Reichtum», «богатство». У Гегеля они выступают социальными и, соответственно, политическими антитезами. «Reich» — это всеобщее нравственное начало народа как целого, его интеллектуально логическое выражение. «Reichtum», богатство — предельная концентрация отчуждения. Богатство и дискурс богатства (частной собственности) и составляет сущность языка разорванности.
«Богатство, следовательно, разделяет со своим клиентом отверженность, но на место возмущения вступает заносчивость. Ибо богатство, как и клиент, знает для-себя-бытие с одной стороны как некоторую случайную вещь; но оно само есть эта случайность, насильственной власти которой подчиняется личность. В этой заносчивости, которая мнит, что при помощи пиршеств она получила само чужое «я» и тем приобрела себе покорность его сокровеннейшей сущности, богатство не видит внутреннего возмущения «другого»; оно не замечает, что все оковы сброшены, не видит той чистой разорванности, для которой (т. к. для нее равенство для-себя-бытия себе самому попросту стало неравным) разорвано все равное, всякое устойчивое существование и которая поэтому более всего подвергает разрыванию мнение и взгляды благодетеля. Богатство стоит прямо перед этой глубочайшей пропастью, перед этой бездонной глубиной, в которой исчезла всякая опора и субстанция; и в этой глубине оно видит только некоторую тривиальную вещь, игру своего каприза, случайность своего произвола; его дух есть полностью лишенное сущности мнение о том, что оно есть покинутая духом поверхность».
«Der Reichtum teilt also mit dem Klienten die Verworfenheit, aber an die Stelle der Empörung tritt der Übermut. Denn er weiß nach der einen Seite, wie der Klient, das Für-sich-sein als ein zufälliges Ding; aber er selbst ist diese Zufälligkeit, in deren Gewalt die Persönlichkeit steht. In diesem Übermute, der durch eine Mahlzeit ein fremdes Ich-selbst erhalten, und sich dadurch die Unterwerfung von dessen innerstem Wesen erworben zu haben meint, übersieht er die innere Empörung des andern; er übersieht die vollkommene Abwerfung aller Fessel, diese reine Zerrissenheit, welcher, indem ihr die Sichselbstgleichheit des Für-sich-seins schlechthin ungleich geworden, alles Gleiche, alles Bestehen zerrissen ist, und die daher die Meinung und Ansicht des Wohltäters am meisten zerreißt. Er steht unmittelbar vor diesem innersten Abgrunde, vor dieser bodenlosen Tiefe, worin aller Halt und Substanz verschwunden ist; und er sieht in dieser Tiefe nichts als ein gemeines Ding, ein Spiel seiner Laune, einen Zufall seiner Willkür; sein Geist ist die ganz wesenlose Meinung, die geistverlaßne Oberfläche zu sein».
Ориентация на богатство, т. е. собственно капитализм, превращает лесть, возвышающую монарха в Reich’е и тем самым связывающую частное с общим, как основной вектор отчуждающей функции языка, в лесть, воплощающую чистую ложь и отчуждение. Язык капитализма непосредственно связан с образованием как базовым инструментом Просвещения и является «языком разорванности» по преимуществу. «Но язык разорванности есть совершенный язык и истинный существующий дух этого мира образованности в целом»[165]. («Die Sprache der Zerrissenheit aber ist die vollkommne Sprache und der wahre existierende Geist dieser ganzen Welt der Bildung».) Частная собственность и ее прославление становятся осью языка отчуждающей лести. Образование строится на этом языке, укрепляющем сознание в том, что такое положение дел подкреплено якобы «очевидностью», что приводит к устойчивому формированию якобы «честного сознания».
Но «честное сознание считает каждый момент постоянной существенностью, и оно есть необразованное безмыслие, когда не знает, что именно так оно приходит к извращению. Но разорванное сознание есть сознание извращения, и притом абсолютного извращения; понятие есть то, что господствует в этом сознании, и связывает мысли, в отношении честности далеко отстоящие друг от друга, и поэтому язык его остроумен (geistreich)»[166].
«Das ehrliche Bewußtsein nimmt jedes Moment als eine bleibende Wesenheit und ist die ungebildete Gedankenlosigkeit, nicht zu wissen, daß es ebenso das Verkehrte tut. Das zerrissene Bewußtsein aber ist das Bewußtsein der Verkehrung, und zwar der absoluten Verkehrung; der Begriff ist das Herrschende in ihm, der die Gedanken zusammenbringt, welche der Ehrlichkeit weit auseinanderliegen, und dessen Sprache daher geistreich ist».
Пронзительно употреблено здесь слово «geistreich», означающее дословно и «богатое духом», и «остроумное», и даже «ироничное». «Очевидное», на чем строится образование Модерна, на самом деле оказывается полной бессмысленностью и абсурдом, а «прямота» — предельной формой ироничного извращения. Все это спустя полтора века откроют вновь постмодернисты, обнаружив «иронию» в самых серьезных декларациях Модерна и иррационализм в самой сердцевине его самопровозглашенной рассудочности. Среди других это проницательно показал Бруно Латур[167], осуществив деконструкцию многих естественно-научных аксиом современной картины мира, оказавшихся на поверку удачным PR-проектом, натяжками, рекламой и пролиферацией гибридов под видом строгого запрета на их производство (то есть Модерн был вскрыт как бесстыдное интеллектуальное бутлегерство).
Ненависть Гегеля к образованию и Просвещению настолько сильна, что он впадает в реальное визионерство и описывает нам уже не его время, а то, во что оно может вылиться, будучи доведенным до своих логических пределов. Тем самым он дает нам картину Постмодерна, который для нас является фактом.
«Содержание речей духа о себе самом и по поводу себя есть, таким образом, извращение всех понятий и реальностей, всеобщий обман самого себя и других; и бесстыдство, с каким высказывается этот обман, именно поэтому есть величайшая истина. Эти речи — сумасшествие музыканта, «который свалил в кучу и перемешал тридцать всевозможных арий, итальянских, французских, трагических, комических, — то вдруг низким басом спускался в самую преисподнюю, то потом, надрывая глотку и фальцетом раздирая выси небес, он был то яростен, то смиренен, то властен, то насмешлив». — Спокойному сознанию, которое честно перекладывает мелодию добра и истины на одинаковые тона, т. е. на одну ноту, эти речи представляются «бредом мудрости и безумия, смесью в такой же мере ловкости, как и низости, столь же правильных, как и ложных идей, такой же полной извращенности ощущения, столь же совершенной мерзости, как и безусловной откровенности и правды. Нельзя отказать себе в том, чтобы войти в эти тона и проследить снизу доверху всю шкалу чувств — от глубочайшего презрения и отвержения до высочайшего изумления и умиления; в них переплавится некоторая комическая черта, которая лишает их свойственной им природы»; в самой своей откровенности они найдут некоторую примиряющую, всемогущую в своей потрясающей глубине черту, которая сообщает дух себе самой»[168].
«Der Inhalt der Rede des Geistes von und über sich selbst ist also die Verkehrung aller Begriffe und Realitäten, der allgemeine Betrug seiner selbst und der andern, und die Schamlosigkeit, diesen Betrug zu sagen, ist eben darum die größte Wahrheit. Diese Rede ist die Verrücktheit des Musikers, „der dreißig Arien, italienische, französische, tragische, komische, von aller Art Charakter, häufte und vermischte; bald mit einem tiefen Basse stieg er bis in die Hölle, dann zog er die Kehle zusammen, und mit einem Fistelton zerriß er die Höhe der Lüfte, wechselsweise rasend, besänftigt, gebieterisch und spöttisch.“ — Dem ruhigen Bewußtsein, das ehrlicherweise die Melodie des Guten und Wahren in die Gleichheit der Töne, d.h. in eine Note setzt, erscheint diese Rede als „eine Faselei von Weisheit und Tollheit, als ein Gemische von ebensoviel Geschick als Niedrigkeit, von ebenso richtigen als falschen Ideen, von einer so völligen Verkehrtheit der Empfindung, so vollkommener Schändlichkeit, als gänzlicher Offenheit und Wahrheit. Es wird es nicht versagen können, in alle diese Töne einzugehen, und die ganze Skale der Gefühle von der tiefsten Verachtung und Verwerfung bis zur höchsten Bewunderung und Rührung auf und nieder zu laufen; in diese wird ein lächerlicher Zug verschmolzen sein, der ihnen ihre Natur benimmt“; jene werden an ihrer Offenheit selbst einen versöhnenden, an ihrer erschütternden Tiefe den allgewaltigen Zug haben, der den Geist sich selbst gibt».
Гегель описывает «смешение языков», что, по сути, есть та игра цитат и контекстов, которая составляет сущность Постмодерна. И продолжая это описании, он приходит к самой главной черте Постмодерна, которую, на самом деле, в самом Модерне, с его серьезнстью, оптимизмом и пафосом прогресса было опознать не только не просто, но, пожалуй, невозможно.
«Если мы сопоставим речи этого отдающего себе отчет хаоса с речами названного простого сознания истины и добра, то последние окажутся только односложными по сравнению с откровенным и сознательным красноречием духа образованности; ибо такое сознание не может сказать этому духу ничего, чего он сам не знал бы и не говорил. Если же оно и выходит за пределы своей односложности, то оно говорит то же, что провозглашает дух, но при этом еще совершает ту глупость, что воображает, будто говорит что-то новое и иное. Даже выговариваемые им слова «мерзко», «низко» уже есть эта глупость, ибо дух говорит их о самом себе. Если этот дух в своих речах искажает все, что однотонно, потому что это равное себе есть только абст-ракция, а в своей действительности он есть извращение в себе самом, и если, напротив, неизвращенное сознание берет под защиту добро и благородство, т. е. то, что сохраняет равенство в своем внешнем проявлении, — берет под защиту единственным здесь возможным способом, так чтобы добро не потеряло своей ценности именно от того, что оно связано с дурным или смешано с ним, ибо это его условие и необходимость, в этом состоит мудрость природы, — если это так, то это сознание, воображая, что оно противоречит, тем самым лишь резюмировало содержание речей духа тривиальным способом, который, делая противное благородному и хорошему условием и необходимостью благородного и хорошего, безмысленно воображает, будто говорит что-то иное, чем то, что названное благородным и хорошим в сущности своей есть обратное себе самому, точно так же как дурное, наоборот, есть превосходное»[169].
«Betrachten wir der Rede dieser sich selbst klaren Verwirrung gegenüber die Rede jenes einfachen Bewußtseins des Wahren und Guten, so kann sie gegen die offene und ihrer bewußte Beredsamkeit des Geistes der Bildung nur einsilbig sein; denn es kann diesem nichts sagen, was er nicht selbst weiß und sagt. Geht es über seine Einsilbigkeit hinaus, so sagt es daher dasselbe, was er ausspricht, begeht aber darin noch dazu die Torheit, zu meinen, daß es etwas Neues und Anderes sage. Selbst seine Silben, schändlich, niederträchtig, sind schon diese Torheit, denn jener sagt sie von sich selbst. Wenn dieser Geist in seiner Rede alles Eintönige verkehrt, weil dieses sich Gleiche nur eine Abstraktion, in seiner Wirklichkeit aber die Verkehrung an sich selbst ist, und wenn dagegen das gerade Bewußtsein, das Gute und Edle, d.h. das sich in seiner Äußerung gleichhaltende, auf die einzige Weise, die hier möglich ist, in Schutz nimmt — daß es nämlich seinen Wert nicht darum verliere, weil es an das Schlechte geknüpft oder mit ihm gemischt sei; denn dies sei seine Bedingung und Notwendigkeit, hierin bestehe die Weisheit der Natur –, so hat dies Bewußtsein, indem es zu widersprechen meinte, damit nur den Inhalt der Rede des Geistes in eine triviale Weise zusammengefaßt, welche gedankenlos, indem sie das Gegenteil des Edeln und Guten zur Bedingung und Notwendigkeit des Edeln und Guten macht, etwas anderes zu sagen meint, als dies, daß das edel und gut Genannte in seinem Wesen das Verkehrte seiner selbst, so wie das Schlechte umgekehrt das Vortreffliche ist».
И далее:
«Разорванность сознания, сознающая и выражающая самое себя, есть язвительная насмешка над наличным бытием, точно так же, как над хаосом целого и над самим собой; это есть в то же время еще улавливающее себя затихание всего этого хаоса»[170].
«Die ihrer selbstbewußte und sich aussprechende Zerrissenheit des Bewußtseins ist das Hohngelächter über das Dasein sowie über die Verwirrung des Ganzen und über sich selbst; es ist zugleich das sich noch vernehmende Verklingen dieser ganzen Verwirrung».
Обратим внимание: «das Hohngelächter über das Dasein», дословно «насмешка над Deasein'ом», и отсюда уже насмешка над «извращением Целого» и «над самими собой».
Если мы теперь обратимся к разделу С этой части, посвященной духу, мы будем удивлены тому, в чем видит Гегель диалектическое снятие «разорванного сознания» и его языка, т. е. каким является для него проект «преодоления Просвещения». Конечно, это можно было бы истолковать как намеченную траекторию «Консервативной Революции» и выход к новым социально-политическим горизонтам, но для этого пришлось бы переписывать соответствующие места радикально иным языком. А те фрагменты, которые мы привели, звучат пронзительно и актуально, будто написаны они в начале XXI века, а не в начале XIX.
Гегель и Радикальный Субъект
Гегель неисчерпаем. Всего на нескольких свободно проинтепретированных моментах его философии Маркс и Энгельс построили политическую философию, захватившую в ХХ веке умы миллионов и спровоцировавшую мощные социальные революции, движения и политико-экономические реформы. Левое гегельянство, впрочем, марксизмом не исчерпывается, т. к. критика капитализма в духе Гегеля, Reichtum, вполне может быть построена и альтернативным Марксу и Энгельсу образом. Но этот путь пока никто не проделал — хотя бы потому, что интеллектуальный масштаб фигуры Маркса, с которым пришлось бы всерьез соревноваться, заведомо задавал чрезвычайно сложные условия.
Кожев в ХХ веке, а сегодня Фукуяма и американские неоконсерваторы предлагают либеральное прочтение Гегеля, что, кстати, вполне приемлемо, учитывая насыщенную глубину, парадоксальность и диалектичность его книг. Те же либералы, которые пытаются его критиковать в лоб (как, к примеру, К. Поппер), выставляют самих себя в неприглядном свете, ничуть не задевая духовного колосса, которого силятся ниспровергнуть.
Карл Шмитт в одном месте[171] указывал, что рассуждения Гегеля о «Доме», как истоке права и его противостоянии «Кораблю», могли бы стать основанием такой геополитической философии, которая вполне могла бы успешно конкурировать с марксизмом.
В Италии идеи Гегеля в эстетике развил Б. Кроче, а в политике — Дж. Джентиле. Но все это вместе взятое никак не покрывает тех возможностей развития, которые в изобилии содержатся в работах Гегеля.
На его идеях можно было бы основать, в частности, чрезвычайно разветв-ленную социологическую теорию, где общество понималось бы как диалектическое становление с открытой телеологией, не совпадающей ни с одной из заведомо данных моделей того, к чему это становление стремится. Конец истории или «абсолютное знание», достижением которых завершается диалектический цикл по Гегелю и, в частности, «Феноменология Духа», чаще всего обосновываются в терминах либо прошлого, либо настоящего, либо как проекции того, что имеется сейчас, в будущее. Отчасти это свойственно и самому Гегелю, замыкающему свою диалектику в спираль, укрощая «огромную силу негатива» и пытаясь удержать дионисийское напряжение становления. Но нельзя ли пойти таким путем: обратить мощь гегелевской радикальной негации как этапов развертывания Абсолютного Субъекта на существующее общество в целом, дошедшее (так или иначе) до своего низшего предела? Нель-зя ли помыслить конец истории как приход очищающего вселенского огня, которому самое время «мерами возгореться»… Все хотят видеть в «конце истории» торжество утопии (коммунистической, либеральной, граждан-ской, фашистской и т. д.) и соответствующую этой утопии социальную проекцию. Гимн прусской монархии самого Гегеля относится к этому же разряду.
Но наблюдение за судьбой всех версий социального гегельянства — как левых, так и правых — в ХХ веке показывает, что ни одна из них не справляется с корректным предсказанием того, как будет заключена в петлю гигантская мощь социальных процессов, стартовавших на Западе и захвативших сегодня пространство всей планеты. Именно это заставило Хайдеггера, идентифицировавшего центральность проблемы Gestell и «технэ» для развития западной метафизики, заговорить о Новом Начале философии[172]. Социальный нигилизм, воплощенный в «разорванном сознании», в «образовании», в «богатстве» и, в целом, в Модерне и тем более в Постмодерне, только нарастает с ускорением. Спящих стремительно тянет к обрыву.
В такой ситуации, быть может, самое время сосредоточиться на открытой эсхатологии и прояснении того, что может остаться содержательного в мире, где общества вспороты безжалостным лезвием нигилизма и готовы исчезнуть во мгновение ока.
Это значит, что мы можем задаться вопросом о том, как философия Гегеля может быть соотнесена с горизонтом Радикального Субъекта Новой Метафизики[173]. А в контексте «Феноменологии Духа» это означало бы тщательное исследование темы, к которой мы даже не приблизились в этих разрозненных заметках — как Абсолютный Субъект соотносится с Радикальным Субъектом? Быть может, решение этой проблемы освежило бы для нас по-стижение этого удивительного гения.
раздел 3. Гегель и тантрическая инициация
Рассудок как энигма
Обратимся к третьему моменту диалектического развития сознания, описанного в «Феноменологии». Ранее сознание проходит через две фазы:
1) фазу чувственной достоверности (certitudo) (на ней основано «мнение», Meinung, трактуемое Гегелем как «мое имение» — das meine), и
2) фазу восприятия (Wahrnehmung), понимаемую Гегелем как «взятие» (Nehmen) вещи как «истинного» (das Wahre).
В первой фазе сознание начинает догадываться, что чувственный опыт скрывает в себе две стороны вещи — «для-нас» и «в-себе». То, что мы чувст-венно ощущаем в вещи, это только феномен, явление (Erscheinung), ее появление/исчезновение для нас.
Во второй фазе сознание обнаруживает, что имеет дело не с вещью как таковой, а с ее бытием-для-нас, и это бытие-для-нас возводится в понятие (Begriff), т. е. «поднимается», «принимается», «берется», «воспринимается» (Wahrnehmen).
Здесь мы подходим к третьей фазе, где Гегель располагает рассудок (Verstand). На этой фазе завершается первый виток сознания. Можно сказать, что здесь заканчивается имманентное развитие сознания в себе, доходящее до определенного логического предела, который далее (на стадии самосознания) можно будет только перепрыгнуть. Природу этого будущего «прыжка» Гегель попытается вывести из своей диалектической модели, но мы в этом можем сделать шаг в сторону от него и от его траектории. В моменте рассудка мы достигли потолка мышления самого по себе, далее рождается нечто радикально иное — мышление о мышлении, вторгается наблюдатель, возникает Логос, т. е. мы становимся свидетелями появления собственно философии. Эту следующую фазу Гегель назовет «самосознанием» и займется ее феноменологией. Но для нас чрезвычайно важно, что происходит на границе — там, где вторжения Логоса еще не произошло и где сознание лишь приближается к фатальной черте. Это происходит в области рассудка. Рассудок у Гегеля есть пограничная зона имманентного сознания, его предельный горизонт.
Феноменологию этого пространства рассудка, описанного Гегелем, мы снова, как и ранее, можем вырезать из общего контекста и далее работать со срезом, как с самостоятельной топикой — с концептуальной картой, подыскивая ассоциативные ряды в тех контекстах, которые нам интуитивно покажутся наиболее уместными.
Кратофания
В описании рассудка Гегель сразу вводит в игру слово «сила» (Kraft). Это чрезвычайно важный эвристический шаг, т. к. сознание уже на предшествующей стадии восприятия обнаружило, что говорить о вещи-в-себе было бы наивно и безответственно, т. к. ее самобытие срезано великой силой негатива, начинающего осознавать свою механику сознания. Сознание на стадии восприятия опустошило вещь, заменив ее понятием (концептом, Begriff), но понятие пока оказалось пустым в себе, коль скоро все его содержание структурировалось самим сознанием. Так вещь ускользнула от него. И вот теперь на новом уровне рассудок снова обращается к исчезнувшей, почти упраздненной вещи, но на сей раз он мыслит ее радикально иначе — как силу.
Что такое сила? Это не вещь с ее свойствами, но нечто себя силовым образом сознанию навязывающее, предъявляющее, предлагающее. Силу, по-гречески δύμανις, Гегель понимает иначе, нежели Аристотель в Античности или Ньютон в Новое время, у которых она выступала как свойство тел при их взаимодействии и, соответственно, как причина движения. У Гегеля совсем иное понимание силы; она есть нечто самостоятельное, существующее как понятие вне вещи как таковой. На уровне рассудка вещи нет, вместо нее есть сила. И эта сила обращена в первую очередь к области сознания — в этом ее основное движение.
Сила у Гегеля мыслится в двух моментах:
1) она выступает из себя, развертываясь в поле различий или среде, т. е. делает шаг навстречу сознанию, — так она делает себя различимой;
2) но, став различимой и выступив как совокупность свойств, она перестает быть силой, что отбрасывает ее к самой себе и заставляет собраться в противоположном моменте; Гегель говорит об «оттеснении» силы внутрь себя самой.
Гегель пишет:
«Сила как таковая или как оттесненная обратно в себя есть, следовательно, для себя в качестве некоторого исключающего «одного», для которого развертывание материй есть некоторая другая устойчиво существующая сущность; и таким образом установлены две различенные самостоятельные стороны. Но сила есть также целое, другими словами, она остается тем, что она есть по своему понятию, т. е. эти различия остаются чистыми формами, поверхностными исчезающими моментами. Различий между оттесненной обратно в себя силой в собственном смысле и развертыванием самостоятельных материй в то же время вовсе не было бы, если бы они не имели устойчивого существования; другими словами, силы не было бы, если бы она не существовала этим противоположным образом; но «она существует этим противоположным образом» — это значит не что иное, как то, что оба момента сами в то же время самостоятельны»[174].
«Die Kraft als solche, oder als in sich zurückgedrängte ist hiemit für sich als ein ausschließendes Eins, welchem die Entfaltung der Materien ein anderes bestehendes Wesen ist, und es sind so zwei unterschiedne selbstständige Seiten gesetzt. Aber die Kraft ist auch das Ganze, oder sie bleibt, was sie ihrem Begriffe nach ist, nämlich diese Unterschiede bleiben reine Formen, oberflächliche verschwindende Momente. Die Unterschiede der in sich zurückgedrängten eigentlichen Kraft und der Entfaltung der selbstständigen Materien wären zugleich gar nicht, wenn sie nicht ein Bestehen hätten, oder die Kraft wäre nicht, wenn sie nicht auf diese entgegengesetzte Weise existierte; aber, sie existiert auf diese entgegengesetzte Weise, heißt nichts anderes, als beide Momente sind selbst zugleich selbstständig».
Оба момента силы не существуют как нечто отдельное, но как именно сила, при этом ни в одном из моментов сила не равна самой себе, но равна самой себе в обоих. Это снова обращает нас к «явлению» (Erscheinung), т. е. к экстатическому появлению/исчезновению, составляющему суть становления. Сила, таким образом, есть сама по себе игра сил.
В этом срезе рассудок имеет дело с миром как полем сил, т. е. с совершенно особой средой, насыщенной не вещами с их сущностями и не мыслями, но с интенсивной игрой постоянно меняющихся напряжений, где оба момента явления/сокрытия силы, своего рода «кратофании», даны одновременно и непосредственно — в экстатическом опыте. Сила, являя себя, себя же скрывает; развертывает ковер различий, но этим же развертыванием его снимает. Рассудок схватывает мир как жизнь, как динамическую игру многомерных и никогда не самотождественных феноменов.
Гегель и Шакти
Совсем в другом интеллектуальном контексте мы встречаем очень сходную картину мира в индуистском адвайта-шиваизме[175]. Здесь также мир мыслится как игра (lila), управляемая структурами «майи». При этом некоторые шиваистские школы мыслят «майю» недуально, как нечто скрывающее и открывающее высший принцип одновременно. Шиваизм, и особенно тантризм, утверждают, что реальность есть одновременно два взаимоисключающих движения — выдох (развертывание силы как поле различий) и вдох (оттеснение силы в себя)[176]. При этом йогические и тантрические практики и шиваистские медитации призваны освоить недуальное восприятие этих противоположных моментов как нечто целое и непротиворечивое. В этом и состоит сущность адвайта-ведантизма: воспринимать имманентное как имманентное и трансцендентное одновременно, снимая в уникальном отношении к реальности разного рода дуальности — обнаружение/сокрытие, верх/низ, бог/человек и т. д. Это не пантеизм, т. к. трансцендентное признается строго не совпадающим с имманентным (Deus sive Natura Спинозы здесь неприемлемо, т. к. Natura, Prakriti, не есть бог, Первопринцип, но нечто отличное от него[177]). Однако несовпадение одновременно и есть, и его нет. То есть это несовпадение не есть сущность, но есть явление, момент, исчезающий и являющийся.
Пребывание в таком адвайтистском миросозерцании в тантрической школе называется «прозрачным опьянением» (ebbrezza lucida[178]), и его вполне можно соотнести с инициатическими аспектами дионисийских практик. Опьянение позволяет совместить то, что обыденное сознание тщится непременно разделить. Поэтому в некоторых религиозных традициях, где упо-требление опьяняющих средств (вина) или строго запрещено (как в исламе) или нежелательно (в индуизме), эзотерические братства, напротив, возводят их в культ и строят вокруг их ритуального употребления инициатические практики. Воспринимать мир как силу, одновременно и развертывающуюся и свертывающуюся в себя, значит пребывать в «прозрачном опьянении».
Прилагательное «прозрачный» здесь очень важно. В латинских языках (lucido ит., lucide фр. и т. д.) этот термин означает также «трезвый», «ясно воспринимающий». Поэтому «прозрачное опьянение» можно перевести как «трезвящееся опьянение» или «трезвенное опьянение». Отсюда становится ясным, почему Гегель говорит именно о рассудке. Свойство рассудка — быть «ясным», «трезвым», но эта трезвость, по крайней мере, у Гегеля, основывается на глубинной экстатике, т. к. рассудок оперирует не с вещами (с ними покончено на второй фазе сознания в «Феноменологии духа» — по крайней мере, временно), а с силами.
Развивая эту параллель, мы сталкиваемся с еще одним интересным соответствием. В шиваизме и тантризме термин «сила» передается как «shakti» и истолковывается как «женская сторона Божества»[179]. По названию «шакти» в Индии до сих пор существует широкое религиозное направление, «шактизм», основанное на почитании «женских» персонифицированных или абстрактных «богинь». В систематизированном виде шиваизм развивает теорию «шакти» как силы Божества, находящейся с ним самим и с людьми в тонких диалектических отношениях. Шакти (=сила) есть и сам Бог и не-сам Бог одновременно. Можно понять шакти как развертывание бога вне его, но такое развертывание есть одновременно и обнаружение Бога и его сокрытие. То есть шакти всегда есть игра, двусмысленность, перелив двух в одно и одного в двух, тождества в различие и обратно или, точнее, одновременно во всех направлениях. Сила есть «майя» (māyā) [180], и некоторые исследователи связывают санскритское слово «māyā» с индоевропейским корнем *mag, откуда «мочь», «могу» и т. д.[181] Поэтому тот, кто говорит «сила», говорит «игра», что мы и встречаем у Гегеля.
По Гегелю, игра сил состоит в том, что единая сила раздваивается на два момента — внешнюю развернутость и внутреннюю оттесненность в себя, но эта двойственность диалектична, так речь идет все же об одной и той же силе (сравни Шиву и его Шакти).
Вот этот пассаж теоретически можно было бы расположить в каком-то тантрическом тексте:
«Игра обеих сил состоит, таким образом, в том, что они определены противоположным образом и существуют в этом определении друг для друга, а также в том, что происходит абсолютный, непосредственный обмен определениями, — переход, благодаря которому только и существуют эти определения, в коих силы выступают как будто самостоятельно. То, что возбуждает, установлено, например, как всеобщая среда и, напротив того, возбуждаемое — как оттесненная обратно сила; но первое есть сама всеобщая среда лишь благодаря тому, что другое есть обратно оттесненная сила; или, вернее, последняя для первого есть возбуждающее, и лишь она его делает средой. Первое обладает своей определенностью только благодаря другому и есть возбуждающее лишь постольку, поскольку оно возбуждается другим к тому, чтобы быть возбуждающим; оно так же непосредственно и теряет эту данную ему определенность, ибо последняя переходит к другому или, лучше сказать, уже перешла к нему; чуждое, возбуждающее силу [начало] выступает как всеобщая среда, но только благодаря тому, что к этому возбудила его сила; а это значит, что она так устанавливает его и скорее сама есть по существу всеобщая среда; она так устанавливает возбуждающее [начало] потому, что это другое определение для нее существенно, т. е. потому что она сама, вернее, есть это определение»[182].
«Das Spiel der beiden Kräfte besteht hiemit in diesem entgegengesetzten Bestimmtsein beider, ihrem Füreinander-sein in dieser Bestimmung, und der absoluten unmittelbaren Verwechslung der Bestimmungen — einem Übergange, wodurch allein diese Bestimmungen sind, in denen die Kräfte selbstständig aufzutreten scheinen. Das Sollizitierende ist, zum Beispiel, als allgemeines Medium, und dagegen das Sollizitierte als zurückgedrängte Kraft gesetzt; aber jenes ist allgemeines Medium selbst nur dadurch, daß das andere zurückgedrängte Kraft ist; oder diese ist vielmehr das Sollizitierende für jenes, und macht dasselbe erst zum Medium. Jenes hat nur durch das andere seine Bestimmtheit, und ist sollizitierend, nur insofern es vom andern dazu sollizitiert wird, sollizitierend zu sein; und es verliert ebenso unmittelbar diese ihm gegebene Bestimmtheit; denn diese geht an das andere über oder vielmehr ist schon an dasselbe übergegangen; das fremde die Kraft Sollizitierende tritt als allgemeines Medium auf, aber nur dadurch, daß es von ihr dazu sollizitiert worden ist; das heißt aber, sie setzt es so und ist vielmehr selbst wesentlich allgemeines Medium; sie setzt das Sollizitierende so, darum weil diese andere Bestimmung ihr wesentlich, das heißt, weil sie vielmehr sie selbst ist.»
Немецкое слово латинского происхождения «sollizitiren» (от «sollicitare») можно перевести как «вызывать внимание», «привлекать», но также и «возбуждать», «соблазнять» и т. д. То есть выбранное Г. Шпетом «возбуждение» вполне уместно для того, чтобы передать явно подчеркиваемую Гегелем экстатическую эротичность. Переплетение возбуждений (соллицитаций) силы и ее развертывания в среду как нельзя точнее соответствует тантрическому пониманию мира в адвайта-шиваизме: феноменальная реальность есть поле игры эротических сил сознания, развертывающихся от неподвижного центра к бушующей периферии и обратно. Эта картина иллюстрируется шиваитскими мандалами, где в центре изображен бесстрастный аскет Шива (неподвижный принцип), а с ним в объятьях переплетена Шакти (сила), которая представляет собой развернутое поле реальности, пронизанной эротиче-ским напряжением. Шакти как поле есть та среда, о которой в данном пассаже говорит Гегель.
Внутреннее
Когда рассудок описан в процессе развертывания диалектики духа как экстатико-эротический нон-дуализм, им обнаруживается новый элемент философской игры сознания: «внутреннее».
Здесь уместно вспомнить такое понятие как «эзотеризм»[183], т. е. «внутреннее учение», а также то, что под «внутренним» (по-арабски batin) понимает суфийская традиция. «Внутреннее» есть особое измерение, о котором (применительно к «внутреннему человеку») говорит и христианская традиция, особенно эксплицитно в исихазме. Поэтому переход от «игры сил» к «внутреннему» вполне логичен для самой структуры инициатического процесса.
Внутреннее, по Гегелю, — это то, что открывается под обе стороны от игры сил. Это поле или эта среда (Шакти) образует зону феноменологиче-ского экстаза («прозрачного опьянения»), по обе стороны которой рассудок конструирует «внутреннее». Можно сказать, в индуистских терминах, что это Атман-сам-по-себе и Брахман-сам-по-себе.
Как происходит этот контакт с «внутренним»? Гегель описывает это так:
«Средний термин, смыкающий оба крайние, рассудок и «внутреннее», есть развитое бытие силы, которое для самого рассудка теперь уже есть исчезание. Оно называется поэтому явлением (Erscheinung), ибо видимостью (Shein) мы называем то бытие, которое непосредственно в себе самом есть небытие. Но оно — не только видимость, но и явление, некоторое целое видимости. Именно это целое как целое, или всеобщее, и составляет «внутреннее», игру сил как рефлексию его в себя самого»[184].
«Die Mitte, welche die beiden Extreme, den Verstand und das Innere, zusammenschließt, ist das entwickelte Sein der Kraft, das für den Verstand selbst nunmehr ein Verschwinden ist. Es heißt darum Erscheinung; denn Schein nennen wir das Sein, das unmittelbar an ihm selbst ein Nichtsein ist. Es ist aber nicht nur ein Schein, sondern Erscheinung, ein Ganzes des Scheins».
Обратите внимание: «Verschwinden» (исчезновение, исчезание) и есть «Erscheinung» (появление, явление, феномен). Прекрасное определение феномена (майи) — «бытие, которое непосредственно в само себе есть небытие». Рассудок схватывает небытийность явления/исчезания (то есть постигает майю как иллюзию), и перед ним разверзается бездна внутреннего. В этой бездне внутреннего рассудок получает пространство того, что Гегель называет «сверхчувственным миром» («übersinnliche Welt»). Этот мир становится для рассудка отныне единственно истинным. Но это не просто мир, наполненный новыми вещами, силами или представлениями, это именно бездна — откуда метафоры Гегеля при описании «внутреннего» — полный мрак, ослепляющий свет и т. д. Во «внутреннем», которое рассудок открыл через адвайта-шиваистскую «кратофанию», он встречает пустоту (Leerheit).
«Или: дабы все же в «пустом» (которое, хотя и возникло лишь как пустота от предметных вещей, но в качестве пустоты в себе должна быть принята за пустоту всех духовных отношений и различий сознания как сознания) — словом, дабы в этой столь полной пустоте, которая называется также святостью, все же что-нибудь да было, оставалось бы только заполнить ее мечтаниями, призраками, которые сознание порождает себе самому; «внутреннее» вынуждено было бы примириться с тем, что с ним так дурно обходятся, ибо оно ничего лучшего и не заслуживало бы, т. к. даже мечтания все же лучше его пустоты»[185].
«Оder damit doch in dem leeren, welches zwar erst als Leerheit von gegenständlichen Dingen geworden, aber, als Leerheit an sich, auch für die Leerheit aller geistigen Verhältnisse und der Unterschiede des Bewußtseins als Bewußtseins genommen werden muß — damit also in diesem so ganz Leeren, welches auch das Heilige genannt wird, doch etwas sei, es mit Träumereien, Erscheinungen, die das Bewußtsein sich selbst erzeugt, zu erfüllen; es müßte sich gefallen lassen, daß so schlecht mit ihm umgegangen wird, denn es wäre keines bessern würdig, indem Träumereien selbst noch besser sind als seine Leerheit».
А вот этот пассаж, с которым Шпет справляется уже явно с трудом (чего стоит перевод все того же «Erscheinungen» (во множественном числе) как «призраки»), совсем поразителен и может быть истолкован теперь уже в духе буддистской доктрины (пустота=шуньята[186]). Сверхчувственное есть пустота, и для Просвещения остается понять, что эта пустота священна и она же есть фундамент нирваны. И Гегель абсолютно точно заключает, пустота в себе, т. е. святость (das Heilige).
Самое важное, что пустота=священное вызывает ужас, и поэтому рассудок спешит ее заполнить чем попало — но снова именно «явлениями», которые теперь уже мыслятся как «призраки», «видения», «аппариции».
Пустота и сакральное
Здесь в области эзотерической бездны рассудок, по Гегелю, должен совершить еще одно непредсказуемое диалектическое действие: схватить поле «внутреннего» как область закона. «Сверхчувственный мир есть покоящееся царство законов». (Die übersinnliche Welt ist hiemit ein ruhiges Reich von Gesetzen). Это законы (пустоты и ужаса) он называет «законами всеобщего различия». Точнее всего в индуизме им соответствует понятие «дхармы» или «санатана дхармы» (аналог того, что на Западе называли Sophia Perennis[187] или Prisca Theologia[188]).
Когда «внутреннее» осознано как область законов, оно может быть переосмыслено заново — уже не в отношении к тому, что лежит по ту сторону игры сил, как было в начале, когда мы только подходили к этому «внутреннему», но в симметрическом отношении к самому полю силы, т. е. к силе (шакти) как таковой. «Внутреннее» (как закон) теперь мыслится на иной плоскости, нежели поле мандалы и составляет момент негации в отношение всей ее структуры. «Внутреннее» есть чистое различие, но различающее теперь пространство силы (феноменальный мир в его живой экстатической структуре) от себя самого.
Таким образом, рассудок учится передвигаться и осваиваться в абсолютной тьме Сакрального, подобно поэтам у Гельдерлина, которые «как жрецы бога вина, тащатся из страны в страну в священной Ночи» («wie des Weingotts heilige Priester, Welche von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht»). «Священная Ночь» как нельзя точнее соответствует пространству, где спят законы.
Далее Гегель открывает две двери внутри этой «священной Ночи», пытаясь прорваться к ее центру — к ее истине.
Первый шаг — обнаружение «перевернутого мира» (die verkehrte Welt). Этот «перевернутый мир» (что можно было бы перевести и как «извращенный мир», «первертный мир») есть нечто совершенно необычное и по своему онтологическому статусу и по своей роли в развертывании «феноменологии духа». Этот «перевернутый мир» представляет собой выражение полной освобожденности от мира феноменов — такого, каким он воспринимается в поле игры сил, с ее непосредственной конкретикой экстатической и рассудочной очевидности (очевидности уже не сознания, а посвященного в секреты негации рассудка). В «перевернутом мире» законы и пропорции, симметрии и пары противоположны тому, что мы осознаем, воспринимаем и рассудочно различаем в поле феноменов. Здесь все наоборот, но столь действенно и наглядно, что заставляет нас пронзительно и глубинно схватить (bergeiffen) наглядную достоверность сверхчувственного. Это опыт идеи, видения архетипов в их первозданной и свободной от феноменальности природе, хотя эта свобода здесь проявляется не как полный разрыв, а как опрокидывание обыденного, закономерность наизнанку, т. е. наглядная острота чуда.
«Перевернутый мир» убедительно учит рассудок тому, как и насколько закон отличается от силы и игры сил: в законе есть свобода от явления, проявляющаяся в возможности легкого переворачивания.
«При поверхностном взгляде этот мир наизнанку составляет контраст первому в том смысле, что этот первый мир находится вне его и отталкивается им как некоторая действительность наизнанку, что один мир есть явление, а другой — в-себе[ — бытие], один есть мир как он есть для чего-то иного, другой, напротив, как он есть для себя. Так что, пользуясь прежними примерами, то, что на вкус сладко, собственно или внутренне, в вещи кисло, или то, что в действительном магните явления есть северный полюс, во внутреннем или существенном бытии было бы южным полюсом; то, что в являющемся электричестве проявляется как анод, в электричестве не-являющемся было бы катодом. Или: поступок, который в явлении есть преступление, должен бы быть во «внутреннем», собственно говоря, хорошим поступком (дурной поступок с хорошим намерением); наказание было бы наказанием только в явлении, но в себе или в каком-нибудь другом мире оно было бы благодеянием для преступника. Однако таких противоположностей внутреннего и внешнего, явления и сверхчувственного как двоякого рода дей-ствительности здесь уже не имеется. Отталкиваемые различия не распределяются снова между двумя такими субстанциями, которые были бы их носителями и сообщали бы каждому из них отдельно устойчивое существование, благодаря чему рассудок, выйдя из «внутреннего», оказался бы снова на прежнем месте»[189].
«Oberflächlich angesehen ist diese verkehrte Welt so das Gegenteil der ersten, daß sie dieselbe außer ihr hat, und jene erste als eine verkehrte Wirklichkeit von sich abstößt, die eine die Erscheinung, die andere aber das An-sich, die eine ist, wie sie für ein anderes, die andere dagegen, wie sie für sich ist; so daß, um die vorigen Beispiele zu gebrauchen, was süß schmeckt, eigentlich, oder innerlich am Dinge, sauer, oder was am wirklichen Magnete der Erscheinung Nordpol ist, am innern oder wesentlichen Sein Südpol wäre; was an der erscheinenden Elektrizität als Sauerstoffpol sich darstellt, an der nichterscheinenden Wasserstoffpol wäre. Oder eine Handlung, die in der Erscheinung Verbrechen ist, sollte im Innern eigentlich gut sein (eine schlechte Handlung eine gute Absicht haben) können; die Strafe nur in der Erscheinung Strafe, an sich oder in einer andern Welt aber Wohltat für den Verbrecher sein. Allein solche Gegensätze von Innerem und Äußerem, von Erscheinung und Übersinnlichem, als von zweierlei Wirklichkeiten, sind hier nicht mehr vorhanden. Die abgestoßenen Unterschiede verteilen sich nicht von neuem an zwei solche Substanzen, welche sie trügen und ihnen ein getrenntes Bestehen verliehen; wodurch der Verstand aus dem Innern heraus wieder auf seine vorige Stelle zurückfiele».
«Перевернутый мир» не отрицает феноменального, но демонстрирует свободу от него, и эта свобода, начавшись с обратного, вполне может снова перевернуться, сконструировав тем самым точную копию поля силы, только в области «внутреннего». Идеи (перевернутый мир) отразились в данном случае не в водах феноменов, но в идеальных водах внутреннего, создав удивительный (чудесный) дубль обычного, его сакрального двойника. В этой операции «внутреннее» выступает как «бесконечное». Обнаружение бесконечности в сфере рассудка — вторая дверь, проломленная Гегелем для освобождения духа.
«Сверхчувственный мир, который есть мир наизнанку, в то же время взял верх над другим миром, и последний имеет его в самом себе; он для себя есть мир наизнанку, т. е. обратный себе самому; он есть сам этот мир и ему противоположный мир в одном единстве. Только таким образом сверхчувственный мир есть различие как различие внутреннее, или различие в себе самом, или есть в качестве бесконечности»[190].
«So hat die übersinnliche Welt, welche die verkehrte ist, über die andere zugleich übergriffen, und sie an sich selbst; sie ist für sich die verkehrte, d.h. die verkehrte ihrer selbst; sie ist sie selbst, und ihre entgegengesetzte in einer Einheit. Nur so ist sie der Unterschied als innerer, oder Unterschied an sich selbst, oder ist als Unendlichkeit».
Так «внутреннее», изначально пустое и бездонное, оказалось заполненным различенной в самой себе бесконечностью. Чрезвычайно выразительны синонимы, подобранные Гегелем для описания этой бесконечности:
«Эту простую бесконечность или абсолютное понятие можно назвать простой сущностью жизни, душой мира, общей кровью, которая, будучи вездесуща, не замутняется и не прерывается никаким различием, напротив, сама составляет все различия, как и их снятость, следовательно, пульсирует внутри себя, не двигаясь, трепещет внутри себя, оставаясь спокойной. Она равна себе самой, ибо различия тавтологичны; это различия, которые не есть различия. Эта себе самой равная сущность соотносится поэтому только с самой собою»[191].
«Diese einfache Unendlichkeit oder der absolute Begriff ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele der Welt, das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschiede ist, so wie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein. Sie ist sichselbstgleich, denn die Unterschiede sind tautologisch, es sind Unterschiede, die keine sind».
Особенно уместен здесь образ «души мира» и «общей крови», а также «сущности жизни». Бесконечность «внутреннего» есть то, что пронизывает конечность феноменального мира с его игрой сил и эротической напряженностью, в которой явление и исчезновение, неподвижность и динамика неразрывно связаны. Так возникает новая вертикальная пара — сила с ее двумя моментами представляется как один горизонт, а бесконечность ставит себя как вертикаль к этому горизонту, пронизывая бриллиантовой кровью вселенскую мандалу рассудка. Так описан глубочайший процесс сакрализации и ее пластов, начинающийся с вскрытия пустоты «внутреннего», далее, продолжающийся через находку пространства перевернутых двойников, и наконец, вылившийся в действительную, а не абстрактную, действенную бесконечность жизни духа.
В завершение этого удивительного пассажа Гегель подходит к проблеме самосознания, которую мы рассматривали ранее. Но этот переход, который требует трансцендентного вторжения, удара молнии (ваджры). («Я различаю себя от себя самого, и в этом непосредственно для меня дано то, что это различенное не различено.» Ich unterscheide mich von mir selbst, und es ist darin unmittelbar für mich, daß dies Unterschiedene nicht unterschieden ist.) Но чтобы это момент обнаружения Логоса состоялся, необходимо подготовить место, т. е. осознать «внутреннее», отвоевать его.
Последним моментом подготовки является встреча. Гегель говорит о ней так:
«Мы видим, что во «внутреннем» явления рассудок поистине узнает на опыте не что иное, как само явление, но не так, как оно есть в виде игры сил, а узнает эту игру в ее абсолютно-всеобщих моментах и в их движении и, таким образом, узнает на деле только себя самого. Поднявшись за пределы восприятия, сознание выступает сомкнутым со сверхчувственным через посредство явления как среднего термина, сквозь который оно устремляет взор в этот задний план. Оба крайних термина, один — чистого «внутреннего», другой — «внутреннего», проникающего взором в это чистое «внутреннее», теперь совпали, и подобно тому, как они исчезли в качестве крайних терминов, исчез и средний термин в качестве чего-то иного, нежели они. Итак, эта завеса, скрывавшая «внутреннее», сдернута, и налицо лицезрение «внутреннего» во «внутреннем» — лицезрение неразличенного одноименного, которое отталкивает себя само и устанавливает себя в качестве различенного «внутреннего», но для которого столь же непосредственно есть неразличенность обоих, — [налицо] самосознание. Выясняется, что за так называемой завесой, которая должна скрывать «внутреннее», нечего видеть, если мы сами не зайдем за нее, как для того, чтобы тем самым было видно, так и для того, чтобы там было что-нибудь, на что можно было бы смотреть. Но вместе с тем оказывается, что так просто, без всяких затруднений, за нее нельзя зайти…»[192]
«Wir sehen, daß im Innern der Erscheinung der Verstand in Wahrheit nicht etwas anders als die Erscheinung selbst, aber nicht wie sie als Spiel der Kräfte ist, sondern dasselbe in seinen absolut-allgemeinen Momenten und deren Bewegung, und in der Tat nur sich selbst erfährt. Erhoben über die Wahrnehmung stellt sich das Bewußtsein mit dem Übersinnlichen durch die Mitte der Erscheinung zusammengeschlossen dar, durch welche es in diesen Hintergrund schaut. Die beiden Extreme, das eine, des reinen Innern, das andere, des in dies reine Innre schauenden Innern, sind nun zusammengefallen, und wie sie als Extreme, so ist auch die Mitte, als etwas anders als sie, verschwunden. Dieser Vorhang ist also vor dem Innern weggezogen, und das Schauen des Innern in das Innere vorhanden; das Schauen des ununterschiedenen Gleichnamigen, welches sich selbst abstößt, als unterschiedenes Innres setzt, aber für welches ebenso unmittelbar die Ununterschiedenheit beider ist, das Selbstbewußtsein. Es zeigt sich, daß hinter dem sogenannten Vorhange, welcher das Innre verdecken soll, nichts zu sehen ist, wenn wir nicht selbst dahintergehen, ebensosehr damit gesehen werde, als daß etwas dahinter sei, das gesehen werden kann. Aber es ergibt sich zugleich, daß nicht ohne alle Umstände geradezu dahintergegangen werden könne…»
Разберем более подробно это место:
«Мы видим, что во «внутреннем» явления рассудок поистине узнает на опыте не что иное, как само явление, но не так, как оно есть в виде игры сил, а узнает эту игру в ее абсолютно-всеобщих моментах и в их движении и, таким образом, узнает на деле только себя самого».
Это и есть «встреча»: во «внутреннем» рассудок обнаруживает самого себя. Это встреча с Selbst, Self или «атманом», венец духовного пути.
«Поднявшись за пределы восприятия, сознание выступает сомкнутым со сверхчувственным через посредство явления как среднего термина, сквозь который оно устремляет взор в этот задний план. Оба крайних термина, один — чистого «внутреннего», другой — «внутреннего», проникающего взором в это чистое «внутреннее», теперь совпали (…)»
Здесь выясняется очень важный момент: оказывается, пытаясь заглянуть во «внутреннее» измерение явления (игры сил), рассудок обнаружил там «внутреннее» самого себя. Брахман совпал с атманом.
«(…) и подобно тому, как они исчезли в качестве крайних терминов, исчез и средний термин в качестве чего-то иного, нежели они».
Когда атман и брахман совпали, то, что их разделяло, майя как поле сил, тоже открылось не как иное, а как то же самое, что и они, т. е. адвайто-рализация совершена полностью: слияние двух крайних полюсов бытия повлекло за собой снятие промежуточного; но это происходит при жизни, в режиме дживан-мукта («освобожденный при жизни»), т. е. все эти три момента (два внутренних измерения Атман и Брахман, Субъект и Объект, и одно внешнее (Шакти) оказались одним и тем же.
«Итак, эта завеса, скрывавшая «внутреннее», сдернута и налицо лицезрение «внутреннего» во «внутреннем» — лицезрение неразличенного одноименного, которое отталкивает себя само и устанавливает себя в качестве различенного «внутреннего», но для которого столь же непосредственно есть неразличенность обоих, — [налицо] самосознание».
Неразличенность Атмана и Брахмана и есть трансцендентное вторжение.
«Выясняется, что за так называемой завесой, которая должна скрывать «внутреннее», нечего видеть, если мы сами не зайдем за нее, как для того, чтобы тем самым было видно, так и для того, чтобы там было что-нибудь, на что можно было бы смотреть».
Это апофеоз гегелевского эзотеризма.
«Но вместе с тем оказывается, что так просто, без всяких затруднений, за нее нельзя зайти…»
Выяснению характера этих затруднений будут посвящены остальные разделы «Феноменологии духа».
Глава 16 Шеллинг: динамический Бог и иероистория
Шеллинг как поздний Шеллинг
Поздний Шеллинг на удивление мало изучен[193]. Вторая половина его творчества, после издания «Трактата о человеческой свободе» была опубликована посмертно в форме лекционных курсов, которые сам Шеллинг рассматривал как нечто «инициатическое», «посвятительное», о чем он сам неоднократно упоминает. Принято считать, что Шеллингу не удалось «создать философской системы». Но все подобные разговоры о «неудачах» философов, как правило, чрезвычайно тенденциозны. Сфера философии гораздо более многомерна, чем кажется на первый взгляд, и нет никаких критериев, подобных критериям обычных наук или технических методик, которые позволили бы оценивать философию с помощью количественной шкалы. Однако представляется, что у позднего Шеллинга действительно есть проблемы с его включением в основное русло философского дискурса, соответствующего той фазе, к которой относят его труды общепринятые систематизации истории философии: классический немецкий идеализм. Такого рода проблемы есть, правда, у многих философов Нового времени (и особенно у немецких, хотя не только), которые в своем творчестве выражали как основные вектора развертывания философского Модерна, так и нечто иное, с этими векторами сочетающееся с трудом. Отсюда постоянные итерации «философских чисток» (philosophical cleansing) или «ликвидаций», которым подвергаются те или иные философы, «разоблаченные» блюстителями модернистской ортодоксии как «недостаточно современные». Примеров таких «чисток» можно привести множество, здесь ограничимся тремя: развернутым «доносом» К. Поппера на широкое семейство философов (от Платона и Аристотеля до Гегеля и Маркса), не укладывающееся в рамки либерального концепта «открытого общества»; ревизией Просвещения философами Франкфуртской школы и попыткой денонсации Хайдеггера Виктором Фариасом на основании его политической позиции в 1930-е годы в Германии. Шеллинг, будучи философом Нового времени, под жесткую чистку не попал; первая половина его философского наследия, связанная с переосмыслением Канта и Фихте, а также с полемикой с Гегелем, в общий контекст «немецкой классической философии» вписывается довольно легко, а переход к теологии, мифологии и специфической онтологии, составляющим основу второй половины его наследия, явно в Модерн с его центральными темами не вписался.
Поздний Шеллинг, на самом деле, куда ближе к неоплатоникам, средневековым мистикам, теософам, а в наше время — к традиционалистам (последователям и исследователям Sophia Perennis) или к психологии глубин (особенно в более широком контексте юнгианского семинара «Эранос»). Но и в этой среде идеи и теории Шеллинга не были полностью ассимилированы, будучи причислены к философским поискам (а не к «строго инициатическому» знанию) или просто оставлены без внимания. Больше других оценил фундаментальность Шеллинга известный политический философ Эрик Фогелин, хотя сам он законодателем мод в этом вопросе не стал[194]. Совершенно уникальную по глубине работу о Шеллинге и его философии свободы оставил Мартин Хайдеггер[195], принц философов, но и она чаще всего теряется среди бескрайнего наследия хайдеггеровских текстов, в свою очередь, нуждающихся в интерпретации (самого Хайдеггера, впрочем, также часто упрекают в «неудаче» при составлении собственной системы, хотя Хайдеггер никогда такой задачи и не ставил, а призывал к подготовке совершенно другого Начала философии[196]).
Знакомясь с теорией позднего Шеллинга, трудно отделаться от ассоциаций с трудами Анри Корбена, который на совершенно иной основе — через исламские, шиитские и суфийские тексты и школы — пытается воссоздать грандиозную картину особого направления в неоплатоническом мировоззрении (школа Ишрак, Ибн Араби, исмаилизм и иранизм в широком смысле). Если учесть, что Корбен начинал с Хайдеггера, то эта ассоциация не покажется столь уж натянутой. Между философией как таковой и Philosophia Perennis (традиционализм/перениализм), быть может, мы смогли бы обнаружить больше общих черт и мотивов, чем обычно принято считать. Поздний Шеллинг представляет собой именно такой случай: в нем перенниалистская метафизика неразрывно сопряжена с классической философией.
Grund
Фундамент позднего шелленгианства состоит в его понимании динамической структуры Божества. Можно назвать его теологию теологией процесса. По Шеллингу, Бог представляет собой не абстрактную неподвижную законченную и неизменную инстанцию, но драматическое поле наивысшего напряжения, в котором развертывается предбытийная и предвременная драма, коллизия внутри самой вечности, которую Шеллинг понимает и истолковывает диалектически и динамично.
Божество Шеллинг понимает триадически и описывает его следующим образом.
В основании Божества лежит то, что он, вслед за Яковом Беме, называет «ein Grund», но толкует чрезвычайно оригинально. Слово «Grund» восходит к древнегерманскому корню и означает «низина», «долина», а также «почва», «основание», «база», «основа». Но специфика этой «почвы» («основы») Божества состоит в том, что она не состоит ни из чего другого, кроме самой себя, а поэтому является единственной и примордиальной. Ее сущность — в ее единственности, в отсутствии наряду с ней каких бы то ни было иных инстанций. Поэтому Grund Божества есть тьма, die Finsterniss. В этой тьме ничего невозможно различить, она неделима и не покоится ни на чем и не исходит ни из чего. Она не есть при этом и бытие, но предбытие, т. к. бытие имеет антитезой небытие, а Grund никакой антитезы не имеет, не являясь ни бытием, ни небытием. Grund есть поэтому одновременно Ungrund, «необоснованность», «провал», т. к. сама «почва» Божества ни на чем не основана, кроме самой себя, не отличимой от самой себя. И вместе с тем она есть Abrgund, т. е. бездна, т. к. она есть пропасть, измерение бескрайней и неисследимой глубины. Но вместе с тем в триадической картине Шеллинга Grund есть вместе с тем и Urgrund, т. е. праоснование, праоснова для всего того, что за ним логически и космологически следует.
Детальное описание этой инстанции составляет самую оригинальную и головокружительную часть философской теологии Шеллинга.
Grund Шеллинг понимает как бесконечный и бессознательный эгоизм Божества. Он выражается в двух «движениях» первой потенции — в бесконечном расширении, заполняющем собой все, и в возвращении всего к самому себе, т. е. в утверждении своей не допускающей никакого другого и все исключающей самотождественности. Это есть метафизический первоисток воли (Wille), которая, таким образом, выражается в экспансии и в присвоении. На уровне Grund это составляет сущность Бога.
Заметим, что именно этот пункт философии Шеллинга чрезвычайно важен для Хайдеггера, для которого метафизика как таковая сводится именно к воле. Хайдеггер показывает, что полнее и ярче всего это развернуто в философии Ницше, но именно с Шеллинга и его «теологии воли» начинается последний, заключительный этап, ведущий к Ницше.
На уровне первой потенции Бог один, един и единственен, он полностью исключает саму возможность другого, и исключая возможность другого, он исключает возможность знания, высказывания, языка, мышления и бытия. Желая само себя, Grund делает невозможным живое и бытийное свидетельство о самом себе, а, следовательно, оно всегда остается в предбытийной, несуществующей бездне.
Это свойство первой потенции, желающей только саму себя и не желающей ничего другого, а, следовательно, гасящей любые предпосылки появления чего-то другого, этого «ревнивого Бога», вырывающего сами предпосылки другого наряду с самим собой, Шеллинг определяет как В. В свойственно круговое движение от самого себя, заполнение бесконечности собой, и к самому себе: присвоение бесконечности себе самому.
Шеллинг описывает первую потенцию как проявляющуюся в Sehnsucht. Это слово мы обычно переводим как «тоска», «печаль», но в немецком оно имеет значение «желания», «страсти», «потребности», «влечения».
Здесь уместно вспомнить некоторые темы, вскрытые Анри Корбеном в суфизме Ибн Араби и в исмаилитском гнозисе. Ибн Араби говорит о «вздохе Бога», который выражает его «тоску», горечь и грусть от его «одиночества». Суфии в данном случае приводят кораническое высказывание: «Я был тайным сокровищем и пожелал быть узнанным». Акцент здесь падает на изначальную тайну бытия «скрытого сокровища», которое может испытывать «грусть» от того, что является одиноким, и нет никого, кто мог бы свидетельствовать о нем, знать о нем и преклоняться перед ним.
Исмаилиты идут еще дальше и вообще толкуют божественность «lâhût» как производное понятие от арабского корня wlh, что означает «печалиться», «вздыхать от печали», «бежать вперед под влиянием тоски»…
А. Корбен пишет об этом: «В добавление к этой этимологии, исмаилиты, толкующие само понятие «божественности» как «печаль» (ilāh = wilāh), прибегают к еще более странной этимологии, которая, если присмотреться к ее внутреннему смыслу, перестает быть простой натяжкой и обнаруживает свое значение. Эта этимология состоит в приписывании к слову ulhaniya (построенному, как и слова «ilaha», «ulaha», «ilahiya», от корня «'ilh», означающего Божество) небольшого значка (таждида, означающего удвоение -n-) статуса идеограммы; тогда мы имеем слово al-han(n)iya, представляющее собой абстрактное существительное, обозначающее состояние, форму бытия, образованное от отглагольного существительного с корнем hnn (=ḥnn), который дословно означает «желать», «вздыхать», «чувствовать сострадание»[197].
А. Корбен строит на этом теорию «страдающего Бога» в исламском гнозисе, концепцию «теопатии», в которой Божество понимается не как изобилие, а как нехватка, недостаток, стремящийся быть восполненным, собственно πάθος. Ибн Араби толкует дух Бога, образующий первичное облако Божественных Имен, внутри которого сверкают тайные молнии Божественного присутствия как его вздох.
Это направление мысли в исламском эзотеризме чрезвычайно созвучно теологии Шеллинга в моменте первой потенции, называемой им В. Шеллинг не останавливается перед тем, чтобы назвать это апофатическое Божественное молчание «бессознательным Бога».
Вторая потенция: вечное рождение бытия
Наличие только одной божественной потенции как Grund (В) никак не могло бы объяснить наличие мира. Более того, единственность этой инстанции и ее абсолютность вообще исключали бы саму возможность бытия. Если бы Grund был абсолютен, бытия не могло бы быть вообще. Но раз бытие есть и раз «существует нечто, а не ничто», то Grund неабсолютен и не единственен. Следовательно, продолжает Шеллинг, существует еще одна потенция, которая только и может быть абсолютной. Ее он называет А2, понимая под ней Логос, Слово, Мысль, Бытие, Свет. Если Grund есть Бог в себе и остается непроявленным, не-сущим, то А2 есть Бог для другого и он явлен и наделен бытием. Более того, он сам по себе и есть бытие.
Вторая потенция есть событие (Ereignis). В отличие от первой потенции она имеет под собой основу, а значит, она является «рожденной» ею. Вторая потенция есть также свет, зажегшийся во тьме (первой потенции). Божественное сознание осветило божественное бессознательное; божественный Свет пронзил божественную же Тьму.
Шеллинг говорит, что вторая потенция не обладает действительностью, но может обладать ею; что она, поэтому, в определенном смысле «подве-шена».
Логосу присуще совершенно иное движение, нежели первой потенции. В «Философии Откровения» Шеллинг говорит о нем как о прямолинейном. Логос чертит прямые линии, тогда как тьма первой потенции, напротив, обращает любую траекторию в замкнутую саму на себя окружность. Логос размыкает самотождество первой потенции, освещает ее мрак, а она стремится охватить Логос, быть может, даже потушить его, растворив в своей эксклюзивной бесконечности.
Налицо драма, трагедия, конфликт, высшее напряжение божественных сил. Напомним, по Шеллингу все это развертывается еще до начала мира — в горизонтах вечности. Эта драма — вечная предтварная, предонтологическая драма, т. к. в ней и сквозь нее бытие только рождается.
Здесь возникает у Шеллинга очень тонкий момент: он ставит вопрос о характере божественности А2. С одной стороны, А2 есть Бог, и более того, абсолютный Бог, т. к. в нем не остается ничего непроявленного, непроясненного, он есть чистый нетварный Свет. Но с другой стороны, он отделен от первой потенции, которая и есть Божественность в ее самом глубинном и бездонном метафизическом основании, а следовательно, божественность А2 не такова, как безусловная Божественность Grund. А какова же она тогда? Вот это и составляет сущность Логоса. По Шеллингу Логос, будучи вынесенным из тьмы, зажегшийся во тьме и оказавшийся там, как Бытие посредине небытия (своим явлением Логос и создает эту «середину великого вздоха», его «середину», «центр», «сердце»), наделен свободой в осмыслении своего отношения к первой потенции. Эта свобода есть метафизический исток свободы человеческой, воспроизводящей на тварном уровне великое напряжение предтварной драмы.
Вторая потенция относится к первой двояко. С одной стороны, она находится с ней в состоянии антагонизма. Это два противоположных полюса — бытие и пред-бытие, свет и тьма, прямое движение и круговое движение (кривое), бытие для иного и бытие для себя, слово и молчание, наличие и отсутствие, сознание и бессознательное. Если между ними не будет напряжения, то они будут недействительны, условны, пусты. Но они действительны, и напряжение между светом и тьмой действительно. Это антагонистическое напряжение выражается формулой А2 versus В. В в таком случае — это первая потенция в ее обратной А2 сути, т. е. В есть тьма сама по себе. Но…
Но А2, возникнув, не может возникнуть на пустом месте. Иначе оно будет не обосновано и не проявлено, а значит, оно не может быть «рожденным», светлым, различимым… И поэтому не может быть самим собой. Сущность А2 в том, что оно обосновано другим, т. е. имеет основание не в себе, а в другом, нежели оно само. И пусть это другое, предшествующее, выступает как тьма и бездна, сама божественность А2 требует того, чтобы его истоком было нечто не менее божественное, а то и более божественное. Поэтому А2 вступает с первой потенцией и в другие отношения — в отношения добровольно признанного и принятого сыновства. Однако вся божественная драма, все ее напряжение сведутся к пустоте и фикции, если это признание отцовства первой потенции отменит антагонизм с темной бездной, В. Следовательно, А2 начинает различать в первой потенции две стороны: одна из них В,и это уже нам должно быть понятно, а другая — А или А1. Но это различение А и В для А2 не есть рассечение первой потенции или выявление в ней отдельных сущностей: и А и В есть одна и та же потенция, сама в себе и сама по себе ни в чем не различающаяся. Сама она не знает и не может знать ни о каких А и В, которые обнаруживаются только и исключительно А2 в ходе его драматического и проблематичного бытия. Отсюда возникает тождество А=В, что радикально взрывает аристотелевскую логику, т. к. в этой формуле и А не равно А, и не-А не отрицает А, и не действует закон исключенного третьего. Это основа шеллинговского учения о первотождестве, радикально отличного и от Фихте (начинающего с Я), и от Гегеля, оперирующего в своей диалектике негативностью, разумом и концептами, тогда как Шеллинг описывает метафизику при помощи сил (потенций, могуществ). Это метафизика могуществ, обоснованная совершенно оригинальными методами.
Дух великой Любви
Третья потенция, по Шеллингу, осуществляет уникальную миссию: она снимает антагонизм между А2 и А=В, но не снимает различий между А2 и А=В, а также между собой (А3) и остальными потенциями. Поэтому она называется Духом и Любовью. Эта третья потенция довершает абсолютизацию Абсолютного, т. к. делает А2 полностью обоснованным А=В, при исчерпании в самой себе, т. е. в А3, всех тех моментов, которые составляли идентичность В как В, т. е. как В само по себе, а не как строго тождественное А.
Если А=В совершает круговое движение, а А2 прямолинейное, то А3 воплощает в себе спираль, уходящую вертикально в абсолютный горизонт, в точку полудня.
Третья потенция — самая загадочная и труднообъяснимая. Она венчает собой Божество в его динамической предвременной активности. Шеллинг уподобляет Дух «сказанному слову», «произнесенному слову». Его содержание берется из А2, в свою очередь обоснованного А=В. Но вся цепочка А–А, А2 и А3 завершается и становится действительной именно в Духе (А3).
Все три потенции можно рассматривать и как разные, и как тождественные, поэтому к ним могут быть применены сходные формулы, например, имя «Бог». Но это не делает их ни отдельными «богами», ни сливает в одно лицо, в одну неразделимую субстанцию.
Имя «Дух» применимо ко всем трем А, но в качестве собственного закреплено за третьим А, за А2. Шеллинг описывает Дух как три момента развертывания Божества в нем самом. Эта диалектика несколько напоминает Гегеля, но содержательно качественно отличается.
Вначале дух есть сам в себе. Это соответствует А=В, взятому со стороны А. В неоплатонических терминах это соотносится с неизменным в себе пребыванием (μονή).
Второй момент — это Дух для себя самого, это «для» означает дистанцию, воплощенную в отличии между А и А2. Важно подчеркнуть, что «для» означает уже мышление, тогда как «в» — наличие, Faktizität. Чтобы получить дистанцию, необходимую для возникновения «для» (für), необходимо провести примордиальное деление — на одно и другое, на это и то. Этимология довольно позднего русского предлога «для» ясно выражает это; он образован от деепричастия «деля», т. е. «разделяя». Это второе движение прокловской неоплатонической диалектики: πρόοδος. Выходя из себя, Дух больше не есть в себе.
И наконец, совершаясь как Дух в А3,он становится одновременно и для себя (сохраняя обретенную дистанцию от А), и в себя, т. к. он возвращается к своему изначальному самотождеству. То есть осуществляет επιστροφή.
Главное различие такой диалектики Духа, выстраиваемой Шеллингом, с неоплатониками, является по его собственному представлению тот факт, что неоплатоники оперируют с чисто умозрительными категориями, с интеллигибелями, а сам Шеллинг, мысля в категориях могуществ (потенций), захватывает всю действительность — как разумную, так и бессознательную, коренящуюся в божественной тьме и пред-бытии.
Три вечности
Соотношение трех потенций (могуществ) друг с другом составляет структуру божественной динамики. Таким образом, в Божестве конфигурируются, складываются основные онтологические архетипы — соотношения, пропорции, парадигмы, определяющие в дальнейшем всю структуру феноменального мира. Все, что дано нам в мире явлений, имеет свой корень в Божестве, при этом динамика, ритмика и фигуратив (что такое) мира сотворенного, все его содержание и все его процессы суть проявления динамики, ритмики и фигуратива из сферы внутрибожественного. В первую очередь, это касается времени.
Шеллинг радикально утверждает: в Боге есть время. Но это не наше время, которое не могло бы затронуть того, кто вечен. Это иное метафизическое время; время, развертывающееся внутри вечности, а не за ее пределами; время могуществ.
Это божественное время состоит из метафизического соотношения потенций между собой. Каждая из них представляет собой один из полюсов радикального (корневого) времени. А=В есть радикальное прошлое; А2– — радикальное настоящее; А3– — радикальное будущее. При этом все три радикальных времени по отношению к земному времени синхроничны и строго одновременны. Эти радикальные времена уже свершились, свершаются сейчас и будут свершаться в будущем. Так как речь идет о могуществах, включенных в движение, это движение становится фундаментальным метафизическим процессом, отдаленным отблеском которого является динамика творения.
Творение мира
Теология процесса Шеллинга объясняет космологию, из нее вытекающую. Ее принято называть «натурфилософией».
Исток творения, по Шеллингу, совпадает с рождением второго могуще-ства. Но это творение не является простым произволом всемогущего Бога, как учит классическая школьная теология креационистских религий (иудаизма, христианства, ислама), творящего из ничто по своему произволу. Шеллинг, как представители герметических школ, неоплатоники и мистики, настаивает на том, что творение явленного мира вписано в структуру Божества как необходимый, а не случайный элемент. Будучи ничтожным само по себе, это творение с символической точки зрения, напротив, активно соучаствует в процессах божественной динамики могуществ. Природа действительна, основательна и сильна потому, что действителен, основателен и силен Бог. Творческая мощь тринитарного Божества развертывает природу не как построенный механизм, а как живой, наделенный полноценным бытием организм, включенный в божественную динамику. Здесь нет никакого пантеизма, никакого Deus sive Natura, т. к. полностью сохраняется дистанция между творением и Творцом, но, однако, эта дистанция сама представляет собой не «пустоту», онтологический разрыв (как между горшком и горшечником), но выражает тайную динамику могуществ в их процессах. Природа не Бог, она тварна, но при этом она жива и наделена духовной ролью и высшим сотериологическим смыслом.
Мир не рациональный конструкт, — возражает Шеллинг Канту. Мир не негативное отражение «Я», — возражает он Фихте. Мир не диалектика отрицания и снятия, — более нюансированно возражает он своему бывшему другу и бывшему ученику Гегелю. Мир — это священный процесс, насыщенный смыслами и полностью наделенный бытием и духом срез божественной драмы.
Шеллинг уходит от мышления в категориях субстанций, как это было свойственно прежней теологии или картезианскому рационализму Нового времени. Он предлагает мыслить силами, могуществами (потенциями), смысловыми, духовными и реальными одновременно процессами.
В такой философской картине природа исторична, а история богоподобна и богостремительна. Мир, человек, Божество — все они представляют собой силовые, нагруженные бытием, жизнью и смыслом движения.
Природа и дьявол
Когда рождается вторая потенция, она конфигурирует мир, создающийся Логосом с участием первой потенции и третьей, Духа. Поэтому правильно было бы сказать, и что А2 является принципиальным автором творения, и то, что в нем соучаствуют и все остальные потенции.
Антагонизм B и А2 создает базовую линию напряжения, ось природы, установленную между материей и мышлением. Бессознательное, эгоистиче-ски самотождественное, темное, составляет субстанцию природы. Разбирая философию свободы у Шеллинга[198], Хайдеггер указывает на то, что философам, поэтам, мыслителям свойственно тонкое созерцание этой подосновы проявленного мира; когда они улавливают разлитую в природе «тоску», Sehnsucht, слышат «вздохи матери материи», различают темный отсвет печали и привации, они интуируют саму основу бытия — это интуиция Grund, божественной бездны, инобытием которой и является таинственная основа природы. Дыханием бездны проникнут мир.
Чувство тоски есть основа реальности. В книге «Мировые эпохи» Шеллинг говорит об этом так: «Отсюда проистекает глубокое недовольство, лежащее во всей жизни, без которой не было бы реальности, токсин жизни, который следует победить, но без которого жизнь была бы дремой». «Токсин жизни» — это схватывание могущества В, сама суть реальности в ее наличном, материальном присутствии.
Хайдеггер, разбирая тему Sehnsucht, тоски у Шеллинга, спрашивает себя: а не является ли приписывание человеческого чувства тоски самому Богу просто «грубым антропоморфизмом»? И отвечает: а с чего мы взяли, что тоска есть нечто чисто человеческое? С чего мы взяли, что чувства — это принадлежность только человека? Может быть, логическая цепочка здесь обратная: человек испытывает тоску только потому, что вначале ее испытывает Бог? И шире, не есть ли человеческие чувства, равно как и его разум (о чем теологи не спорят), лишь голограммы напряженных процессов, протекающих в глубине Божества?
В шеллинговской динамичной теологии в Божестве есть движение. Латинский корень emotio происходит от motio, движение. Поэтому, коль скоро мы допускаем в Божестве движение, мы вполне можем признать и эмоции. Но это «вечные эмоции», представляющиеся бесстрастием и неподвижностью для всего, что погружено во время, и исчерпывается временем. Тот же, кто способен заглянуть внутрь вещей, глубже времени, может распознать тонкие оттенки теопатии, которые обнаружатся немедленно и в творении — причем на самых глубоких его этажах. Это вскрытие темной жизни природы… «Только то, что духовно, по-настоящему ужасно», — пишет Хайдеггер, осмысляя теории Шеллинга[199].
Сам Хайдеггер в «Sein und Zeit» в ходе построения аналитики Dasein'а утверждает, что Stimme, настроение, состояние, даже эмоция, есть необходимое свойство Dasein'а, т. к. он никогда не экзистирует «бесстрастно», но всегда так или иначе «настроен», отталкивается от какого-то настроения, состояния.
Из этих замечаний можно было бы сделать столь далеко идущие выводы, что захватывает дух. Впрочем, многие из них были сделаны в контексте суфийской традиции и философии Ишрак, досконально изученных А. Корбеном.
На другом полюсе от глубинной природной тоски располагается сознание, имманентное представительство Логоса, второго могущества. И здесь мы имеем средоточие свободы, имеющей в человеке божественный характер. Человек мыслящий как представитель Логоса, человек внеиндивидуальный (der Mensch), общий, видовой или героически поднявшийся до вида, призван выстроить свое отношение со стихией глубинной природной тоски. Эта тоска дана ему двояко — как внешняя косность вещей мира, идентифицирующихся только с самими собой, слипшихся в комки непрозрачного, грубого, плотного автореферентного самотождества (телесная реальность/материальность природы, как ее понимает философия и наука Нового времени), и как принцип собственной индивидуации, блокирующий само предназначение разума и языка как бытия для другого, как «бытия для», как дистанцию. Злом является объект как материальная реальность и субъект как индивидуум. Зло — это В, представленное человеку (поверенному Логоса) в наглядных и ощутимых формах.
Зло у Шеллинга реально и обладает собственным бытием. Это не просто «умаление добра», но фундаментальный момент божественного процесса. Поэтому Шеллинг в «Философии Откровения» предлагает толковать фигуру «дьявола» не как тварного ангела, а как более глубокую инстанцию, укорененную намного глубже, в структурах предтварного, и даже преонтологического, измерения. Дьявол — это В, взятое только как В, т. е. В как не-А. Опыт дьявола является базовым опытом для самого бытия А2, отсюда и серьезность искушения дьяволом Исуса Христа и драматизм «моления о чаше».
Дьявол наглядно дан нам в индивидууме и в окружающем его реальном мире, которые и есть два полюса дьявола (субъект и объект, res cogens и res extensa). Причем приведение феноменологической природы дьявола к прозрачной форме, экспликация дьявола стала возможной только в философии и науке Нового времени, в картезианской и посткартезианской дуалистической топике.
Между материей (которая реальна, т. к. представляет собой выражение силы В) и человеком, представляющим собой как вид (не как индивидуум) мысль и бытие (А2) располагаются все остальные существа мира. На всех уровнях — среди минералов, растений, животных — действуют обе силы: В и А2. Влияние могущества В делает вещи реальными (материальными), а притяжение к полюсу Логоса, наделяет их действительностью эйдосов, стремится вырвать их из круговращательного движения самотождества и «вечного возвращения одного и того же» и осуществить возгонку к прямым и необратимым бытийным и жизненным траекториям. От рутины к событию.
Минералы, уже выхваченные у чистой материи за счет обладания формами, в этой мере духовны и разумны. Растения, способные на рост и иные динамичные трансформации, духовны в еще большей мере. Животные, оторвавшиеся от земли и обретшие свободу передвижения, — еще одна ступень к Логосу. Но их непреодолимая верхняя планка — вид, который за них решает все.
Человек же, стоящий над всеми остальными, — это проявляется в его способности к мышлению и языку, — имеет вид (то есть принадлежность к человечеству) не как ответ, а как вопрос, не как строго установленное содержание, а как рефлектирующую пустоту. Сущность человека противоположна субстанциальности как вещи-в-себе. Человек есть мышление, а, следовательно, печать нетождества и носитель дистанции, сама эта дистанция. Человек есть процесс. И это касается не индивидуума, но именно человека в целом. Свободен как раз человек, и поэтому он призван вынести вердикт и в отношении мира (наука), и в отношении своей/чужой индивидуальности (мораль), и в отношении Бога (теология).
Драма взаимодействия с дьяволом как напряженного диалога реального и разумного составляет смысл природы в ее человеческом, финализированном выражении.
Хайдеггер совершенно верно интерпретирует мысль Шеллинга о соотношении в таком случае человеческого и божественного: между ними, в сущности, нет никакой разницы — обе инстанции решают строго одну и ту же проблему. Это, кстати, точно совпадает с последним уровнем мистиче-ских учений, восходящих от дистанции к близости, от благочестия к обожению и хеносису. Но у Шеллинга это мыслится не только как цель пути (жизни, бытия), но и как его предпосылка и, более того, как его единственное «здесь и сейчас» содержание.
История и эпохи мира
Имманентный представитель А2 в своем видовом измерении (как человек, как сын человеческий) есть венец природного и платформа для духовного, т. е. для действительного бытия явления (эпифании) третьей потенции — А3. Человек, таким образом, помещен между природой и духом. Человече-ское и духовное, являющееся, в свою очередь, венцом человеческого, составляют сущность истории как процесса. История при этом не есть нечто радикально иное, нежели природное; история является природной, а природа — историчной в той мере, в какой обе суть не что иное, как момент динамического процесса внутри самого Божества. Поэтому у Шеллинга, и особенно у его комментаторов, можно встретить мысли о «наличии природы» в Боге или даже об «историчности» Бога. Такие формулы могут дать основание для подозрения в «пантеизме» и уже только поэтому неудачны, но чтобы их избежать, сам Шеллинг постоянно подчеркивает динамический характер своей теокосмоантропологии — он намеренно не рассуждает в категориях субстанций, когда волей-неволей ему пришлось бы четко давать ответ — идет ли в том или ином случае речь все же о Боге или о творении. Как субстанциальных областей для него нет ни того, ни другого. Бытие, мышление, основание и дух — все они действительны только в процессе, только в диалектике, только в динамике. И здесь, конечно же, есть созвучие с гегелевским становлением и его философией истории, но есть и различия. Более того, стоит указать на менее очевидные параллели такой теологии процесса с философско-мистической доктриной иранского мыслителя Муллы Садра Ширази[200], который также отрицал эссенцию и субстанциальность как в Боге, так и в творении, и говорил (предвосхищая Хайдеггера и подчас в сходных с немецким мыслителем выражениях) о первичности существования (экзистенции) по отношению к бытию (сущности или эссенции). Согласно Садра, в конечном счете есть не Бог и не мир, но акт ('amr — приказ), связывающий то и другое.
Приблизительно в таком же ключе трактует Шеллинг историю: она есть траектория (путь, движение) — общая для мира, человека и для Бога.
Структура истории или «веков мира» (Weltalter), по Шеллингу, соответ-ствует трем радикальным временам внутри вечности.
Первый век — это век В. «Допущенный процесс не может начаться по-другому, чем с исключительного господства В, беспредельно сущего, которое вновь возвысилось в сознании и во власти которого сознание именно поэтому и находится. Сознанием правит не одно только представление этого принципа, но сам этот принцип, сознание попало во власть самого принципа, того принципа, о котором мы говорили, что он есть prius (предшествующее)»[201]. Шеллинг подчеркивает, что речь идет не о «представлении» принципа (начала), но о нем самом. Это замечание важно, т. к. Шеллинг рассматривает и мифологию и религию не просто как ментальные построения субъектов (концепции или фантазии), но как вполне реальный (материальный/дей-ственный) срез бытия. Можно сказать, что он не просто сам верит в «богов и героев», но старается обосновать их бытие философски и научно.
Век В проявляется в мифологии как «звездопоклонничество» (сабеизм) и представляет собой изначальный «монотеизм», когда люди поклоняются Grund, темной молчаливой материи. «Телесное в звездах является не астральным, но по отношению к нему чем-то случайным, астральное старше всякой конкретной, телесной формы, в которой светила, со своей стороны, могут являться», — пишет Шеллинг[202].
В религии элементы этого поклонения Шеллинг идентифицирует у ветхозаветных иудеев, что является устойчивым мотивом его философии, постоянно сопоставляющей языческие мифологии и монотеизм в контексте общей парадигмы истории. В эту эпоху единолично правит «изначальный отец», разрывающий, как Кронос, своих детей, все попытки манифестации в религиозной культуре А2 или любые намеки на него. Эта эпоха относится к прошлому (как к прошлому в вечности относится В).
Пленяющая власть примордиального «темного Бога» получает удары изнутри мифологии и религии, что представляет собой раскол темного монотеизма и переход к политеизму.
Политеизм Шеллинг рассматривает как процесс появления Логоса, разрывающего тягучую субстанцию Grund. Вначале массив «Господина звезд» рассыпается на ряды материальных богов (и героев). Множественность филолог Шеллинг опознает в самом названии еврейского бога Elohim, наделенного окончанием множественного числа мужского рода. Постепенно материальные боги спиритуализируются (под скрытым воздействием А3), и среди них утверждается культ А2, культ Логоса. У греков это Дионис. У монотеистов (христиан) — Христос.
Но как между А2 и В наличествует и оппозиция и нечто иное, выражением чего является тождество А=В, утверждаемое А2, так и мифологический и религиозный Сын (Логос) решает «проблему предшествования»[203] сложным диалектическим образом. Он есть другой Бог (новый Бог), но он есть в чем-то и тот же самый (если увидеть в первом Боге не только В, но и А). Это — историческое настоящее, эон Сына.
И наконец, через сложнейший исторический процесс, развертывающийся под знаком Сына, человечество призвано вступить в следующую, на сей раз финальную, фазу — в будущее, в эпоху Духа, А3. Это чисто духовный цикл, но при этом Шеллинг подчеркивает, что духовность здесь будет не просто интеллектуализмом и трансцендентализмом, но будет вбирать в себя трансформированную материальность, реальность и природность, которые будут не «сняты» (как у Гегеля), но сакрализованы, одухотворены и просвещены.
Три Диониса и структуры безумия
В своем осмыслении истории Шеллинг специально останавливается на фигуре Диониса, оказавшей столь значительное влияние на философию ХХ века (глубина этого влияния может быть оценена хотя бы на одном примере безумия Ф. Ницше, которого Хайдеггер считал «последним философом» и на котором завершается история западноевропейской философии — значит, завершилась она на Дионисе).
Шеллинг строит теорию трех Дионисов, которая сегодня не рассматривается всерьез специалистами Античности и исследователями мифологии, но обладает чрезвычайно убедительной внутренней структурой. Эта теория важна не столько для понимания древнегреческой мифологии, сколько для расшифровки глубинной теории самого Шеллинга.
По Шеллингу, Дионис и его культ относится к историческому циклу рождению культа Бога А2 в Греции и окружающих культурах. Диониса он интерпретирует как языческий Логос.
В соответствии со своей доктриной, Шеллинг строит картину трех Дионисов.
Первый Дионис — Загрей. Его мать — Персефона, изнасилованная Зевсом, принявшим образ змея. Шеллинг соотносит этот сюжет с библейской историей о грехопадении в раю. Персефона оставила надежное убежище, куда ее сокрыли, и стала жертвой вожделения Бога, облаченного в хтониче-ские (древние) черты. Позже она стала супругой Гадеса, царя подземного мира (снова хтонический мотив). Шеллинг пишет: «Персефона первоначально есть не что иное, как голая потенция полагания Бога в сознании»[204]. И далее: «Персефона есть зародыш сознания Бога, который, не падая из окружающей его оболочки в землю, оставался бы один, т. е. бесплодным, который должен упасть в землю (быть подвергнут естественному процессу, каковым является мифология) с тем, чтобы принести много плодов, чтобы безмолвное и невысказанное познание первоначального сознания превратилось в познание вслух, в высказанное, чтобы вместо чисто потенциально положенного в первоначальном сознании монотеизма для сознания возник актуальный, осуществленный монотеизм»[205].
По Шеллингу, сам Дионис-Загрей, сын Персефоны — это другое имя Гадеса (Шеллинг ссылается на фрагмент Гераклита, отождествлявшего Диониса с Гадесом). Следовательно, Загрей — это старший Дионис, первый Дионис, в котором последующие Дионисы видели свой генеалогический Grund. Область этого Диониса — подземный мир, прошлое.
Второй Дионис, или Дионис2, появляется среди людей и носит имя Вакха. Он диалектический Бог, расслабляющий хватку прежнего мифологического уклада. Поэтому его сопровождает гибкая растительность, динамика, движение.
Дионис — Бог безумия. Он насылает безумие и сам безумен[206]. Как это сочетается с Логосом? В ответе на этот вопрос Шеллинг развивает чрезвычайно важную диалектику соотношения безумия, разума и слабоумия, которая очень ценна. Приведем этот пассаж in extenso.
«Всякий действительный рассудок проявляет себя именно лишь во власти или господстве над безрассудным. (…) В психологическом и медицинском отношении безумие и слабоумие различаются, однако не так легко сказать, как оба этих отклонения от нормального состояния относятся друг к другу. Безумие выступает из глубины человеческого существа, оно не входит в человека — это очевидно есть нечто potentiā уже присутствующее, которое никогда не доходит ad actum, это — то, что в человеке должно было бы быть преодолено, однако, какой бы причиной ни побуждаясь к тому, вновь становится действующим. Явление безумия, как никакое другое, может убедить в реальности того принципа, который есть по своей природе вне Себя сущее, из своей потенции выведенное, поэтому самим собой не владеющее. Но не только в этом можно убедиться, но и в том, что данный принцип наличен во всяком и больше всего в высшем рассудке, в последнем, разумеется, как преодоленное и подчиненное, а подлинная сила и крепость рассудка обнаруживается не в совершенном отсутствии этого принципа, а в господстве над ним. Поэтому в особенности всем творческим натурам (а как раз тот принцип, который, будучи освобожден от оков, проявляется как безумие, есть принцип, дающий материал) — прежде всего поэтам — издавна приписывали своего рода божественное (можно было бы сказать управляемое Богом) безумие, и, как известно, даже как изречение Аристотеля цитируются следующие слова: nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae, чем, правда, злоупотребляют иные, полагающие, что чем бессмысленнее, тем гениальнее; те слова означают, однако, лишь то, что где нет никакого безумия, которым управляют, над которым господствуют, там нет и никакого сильного, мощного рассудка, ибо сила рассудка обнаруживается, как было сказано, именно в его власти над противоположностью. Отсюда в то же время явствует, что слабоумие возникает как раз благодаря полному исключению того принципа, господство над которым есть рассудок, что, стало быть, слабоумие является лишь другой стороной безумия, возникая ех defectu, как безумие — per excessum. Однако принцип, абсолютно недостающий в одном и полностью управляемый в другом, тот же самый. Слабоумному не хватает изначального материала, которым он мог бы заняться, через регулирование которого рассудок мог бы быть деятельным. Из-за этой лишенности материала рассудок полностью засыпает. Внутреннему миру каждого человека изначальный материал уже должен быть дан, он не может получить его извне, он должен быть приданым самой природы, т. к. если бы это необходимое для всякого подлинного духовного развития первовещество можно было приобрести извне, то было бы непонятно, почему оно отсутствовало бы у слабоумного, к которому ведь из открытого для всех источника притекает тот же самый материал. Люди отличаются друг от друга главным образом лишь этим прирожденным материалом, развитие которого составляет задачу их жизни — счастлив тот, кто имеет такую задачу!»[207]
На одном этом пассаже — причем минуя Фрейда! — можно было бы выстроить психологию глубин К.Г. Юнга. Если поставить на месте «dementia» «коллективное бессознательное», мы получаем законченную психологическую теорию Логоса. В дионисологии Шеллинга это означает, что рассудок (Дионис2) черпает свою мощь из непрерывного напряженного диалога с Дионисом1, как А2 развертывается в Божестве в тонком диалектическом диалоге с Grund. Слабоумие в такой ситуации есть та ситуация, когда Логос отрывается от своей праосновы, Urgrund, утрачивает с ней связь, и тогда мышление «пробуксовывает», теряет «материальность», «реальность», «действительность» и «действенность», становится выхолощенным. Концептуальное мышление в таком случае, в отличие от силового мышления (могуществами/потенциями), предстанет как раз высокоорганизованным «слабоумием». Этот укол Шеллинг адресует рационалистам — как кантианцам, так и гегельянцам.
Некоторые исследователи Шеллинга недоумевали, почему он «делает» Диониса, у большинства авторов выступающего фигурой «хаотической» и «неупорядоченной», напротив, носителем Логоса. В этом пассаже все объяснено: Логос, чтобы быть самим собой, нуждается в дологическом как своем базисе. И сам Логос становится могуществом только тогда, когда и дологическое схватывается как могущество.
Третьим Дионисом является Йакх, Бог Элевсинских мистерий. Это культ А3, который соответствует «грядущему царству Духа». По Шеллингу, в Йакхе мы видим фигуру «будущего Диониса», чисто духовного Диониса, как провозвестника нового порядка. Это Дионис-царь (ὁ ἄναξ), который, согласно орфикам, должен стать «властителем будущего века», сместив собой Зевса.
У трех Дионисов есть свои женские паредры, которые выражают структуры сознания трех властителей трех эпох. Здесь мысль Шеллинга сближается с индуистским представлением о Шакти или с каббалистической доктриной Шакины. Паредрой Загрея является Персефона (если признать тождество Загрея и Гадеса). Паредрой Вакха — Деметра. Паредрой Йакха — дочь Деметры, Кора, сестра самого Йакха.
Три церкви: Петр, Павел, Иоанн
В христианском контексте Шеллинг выстраивает модель священной истории в духе Иоахима де Флоры, учившего о «трех веках» — веке Отца, веке Сына и будущем хилиастическом веке Святого Духа. Но Шеллинг конкретизирует три эпохи в собственно христианских терминах.
Так, он в духе общепринятой для протестантских кругов традиции отождествляет католичество с Церковью апостола Петра (Рим), и соотносит эпоху доминации католицизма с А=В. Это прошлое христианства.
Протестантская Церковь, раскрепостившая Логос, в первую очередь, мистический Логос Якова Беме, Сведенборга или друга Шеллинга, проте-стантского мистика Франца фон Баадера, мыслится здесь как Церковь Павла — свободно богословствующая Церковь, освобождающаяся от жестких рамок католической экзегезы. Это настоящее (для Шеллинга), подъем Германии и в целом протестантских стран Северной Европы.
И наконец, Церковь Иоанна, хилиазм, наступление эсхатологической эпохи «чисто духовного христианства», когда человечеству, перешедшему к высшей форме своего исторического бытия, к пику божественно-реальной спирали, откроется последняя истина мира, человека, Бога. Все говорит о том, что Шеллинг считал себя провозвестником именно этой Церкви Иоанна, ее глашатаем. Эта тема широко циркулировала в мистических, масон-ских, герметических и розенкрейцеровских кругах того времени, продолжая традиции того явления, которое Ф. Йейтс назвала «розенкрейцеров-ским Просвещением»[208] и убедительно связала с выдающимися фигурами европейской философии и науки Нового времени.
София
Практически все описанные выше философские сюжеты Шеллинга, равно как и множество других, составляющих совокупно весь объем его текстов, начиная с последнего опубликованного при жизни трактата о Человеческой Свободе и лекционных курсов второй половины его творчества, имеют свои аналоги в различных направлениях мистической традиции, эзотеризма и инициатических учений различных направлений и школ. Отнести их к традиционализму и перенниализму было бы вполне естественно. Даже тот факт, что Шеллинг, придавая своим лекциям огромное значение и осознавая их как пророческую миссию в деле подготовки последней «мировой эпохи», не стал их выпускать, но ограничился устным изложением, может быть рассмотрен как еще один аргумент в пользу такого сближения: подлинно эзотерическое знание передается именно устным путем — от учителя к ученику.
В ряде мест «Философии Откровения» Шеллинг напрямую затрагивает тему Софии, предопределив тем самым основные направления того, что станет осью философии В.С. Соловьева, а, следовательно, русской софиологии, а значит, и всей русской религиозной философии, и наконец, практически всей русской философии (или ее суррогата, если быть совсем уж точными), т. к. никакой другой нет даже в черновике. Фигура Софии (Санатана Дхарма индусов, Джавидан Кхерад в персидском Ишраке и т. д.) является центральной и для традиционалистов, называемых иногда «перенниалистами», по словосочетанию «Sophia Perennis».
О Софии Шеллинг говорит, рассуждая о фундаментальной теме — о выхождении Бога за свои пределы. Здесь Шеллингу необходимо решить главную задачу, которая является камнем преткновения для всех мистиков и эзотериков, находящихся в контексте догматического авраамического монотеизма, утверждающего жесткую несопоставимость Творца и твари[209]. Дистанция между миром и Богом, радикальная прерывность двух природ — главное богословское требование монотеизма (во всех его версиях). Отказ от этого пункта автоматически влечет за собой отлучение от монотеистической традиции — экскоммуникацию, анафематствование, обвинение в ереси или пантеизме. Но мистик, даже полностью признающий трансцендентность Бога интеллектуально, не способен примириться с этим на уровне сердечной интуиции. Здесь-то и начинается область Софии, которая обозначает ту зону, где непреодолимая дистанция и неистовая жажда близости сходятся между собой, сплетаясь в нечто неразрывное.
Шеллинг прекрасно осознает основное отличие своей концепции от пантеизма: «Согласно нашему изложению мир возникает посредством положенного Богом процесса, однако такого, в который сам Бог не вступает, т. к. он, напротив, остается вне мира как причина, возвышающаяся над той уже упоминавшейся триадой причин, как абсолютная причина»[210].
Шеллинг развивает это, постоянно приближаясь собственно к теме Софии:
«Богу нельзя приписывать никакого пути, не признавая за ним в то же время движения, т. е. исхождения, из Себя, или оттуда, где он находится изначально»[211]. Вот он главный парадокс: Богу нельзя (в соответствии с догматами монотеизма) приписывать пути (то есть изменения, исхождения), но нельзя и не признавать изменения и исхождения, т. к. мир есть, и — кроме Бога — другого начала и истока у него нет. Это исхождение/неисхождение Бога, его неподвижный путь из Себя, вовне Себя и намечен Софией. Шеллинг недвусмысленно к ней обращается в продолжение того же пассажа: «Так, особенно в одном месте, на котором я позднее остановлюсь более подробно, та potentia prima вводится самим за себя говорящим образом: « Господь (Иегова) имел меня в начале пути своего», т. е. antequam ex se ipso progrederetur, прежде чем он вышел из самого себя. Стало быть, таким образом можно было бы уяснить себе выхождение Бога из его первоначального бытия в другое бытие»[212].
14-я лекция «Философии Откровения» посвящена теме Софии почти целиком. Начинает Шеллинг с базового утверждения: «Бог уже до мира есть Господь мира, а именно властен полагать его или не полагать»[213]. Это напрямую связано с тем, что Шеллинг называет корректной теорий творения: « Если же мы спросим, что, прежде всего, требуется для вразумительной теории творения, то одним основным моментом будет следующий: если мир является не как эманация одной только божественной природы, а как свободно положенное творение божьей воли, то, безусловно, необходимо, чтобы между по своей природе вечным бытием Бога и деянием, которым непосредственно положено напряжение потенций, а опосредованно — мир, было что-то в середине. Без такого промежуточного звена мир мог бы мыслиться лишь как непосредственная и потому необходимая эманация божественной сущности»[214]. «Что-то в середине» — это и есть София.
Шеллинг развивает это положение:
«(…) будто бы играющим перед божественным рассудком, тот принцип, который, однажды став действительным, тянет за собой всю действительность, представляется и в уже раз приводившемся месте Ветхого Завета, где говорится: „Господь имел меня в начале пути своего, прежде творений своих, начиная с вечной жизни. От века я установлена, от начала, до земли. Я была уготовлена прежде, чем были моря, раньше изобилующих водой источников, прежде, нежели были водружены горы. Когда он устроял наверху небеса, я была при том, когда он очерчивал круг по морю и закладывал основание земли, — при возникновении системы мира, — была я, его дитя или питомица, при нем и постоянно играла перед ним, на земном круге его, главная же моя услада была в сынах человеческих“» (в высшем и совершеннейшем).
Можно было бы поставить вопрос, насколько допустимо, чтобы та потенция начала, которая в своем действительном выступании проявляется как слепо сущее, обозначалась здесь именем мудрости. Я мог бы ограничиться ответом, что в себе сущее Бога есть именно основание, субъект и уже как таковое, как постольку не-сущее есть первоначально знающее в божестве (субъект всегда находится к тому, для чего он есть субъект, в отношении знающего, а здесь ведь этот принцип еще не мыслится в его выступлении, а мыслится в его внутреннем состоянии, до всякого действительного бытия). Но я лучше напомню то, что уже было показано, т. е. что как раз этот принцип в своем конце, а именно, в своем полном возвращении, есть все во взаимосвязи знающее, начало, середину и конец постигающее сознание, т. е. в самом деле мудрость. А допущение, что как это происходит во многих других случаях и, в частности, в мифологии, так и здесь данный принцип получает наименование сразу по тому, к чему он определяет себя в конце, стало быть, per anticipationem уже назван мудростью, ничего не имеет против себя. Знающее, в какой мере оно составляет противоположность действительного, вообще встает на сторону возможности. Всякое знание, как таковое, само есть не бытие, а только возможность бытия, а именно выдерживание (Bestehen) бытия, способность к бытию, или оно по отношению к предмету есть мощь, потенция, как ведь и, сообразно языку, « знать» и « мочь» во многих случаях синонимичны; даже основным значением этого употреблявшегося в древнееврейском языке слова является «potentia», « мощь», «власть».[215]
Таким образом, основные черты Софии у Шеллинга состоят в том, что она представляет собой весь цикл знания — от исхождения, через пребывание в действительном, до возвращения (когда она и должна собственно называться «мудростью»), а значит, контакт с ней на всех этапах истории приводит нас сразу к «абсолютному знанию» (одновременно о том, что было, есть и будет), и что она является могуществом и властью, т. е. деятельной упорядочивающей силой. То есть София как знание отождествляется здесь с Софией как мощью. Этот аспект также резонирует с индуистским понятием Шакти, обозначающем ипостазированную силу Божества, и одновременно интеллектуальную доктрину.
И далее Шеллинг приходит к тому рассуждению о безумии, которое мы уже приводили, говоря о Дионисе.
Человек и его крушение
Рассмотрим теперь кратко шеллингианскую антропологию. Она сопряжена с темой Софии и имеет ряд явно гностических черт.
По Шеллингу, три божественные потенции, волевым образом творя мир посредством Софии, актуализировали примордиальную природу, которая сразу расположилась вокруг первочеловека. Можно сказать, что человек явился в такой ситуации воплощением Софии — не Бога, но замысла Бога о мире, того «среднего», что находится между Богом и миром, а точнее, является отношением Бога к миру.
Шеллинг описывает это через символизм числа 4, столь важного для системы Юнга и философии Хайдеггера. Человек есть четвертый элемент, прилагаемый к трем потенциям.
«Если же вы помыслите, что в каком-либо ставшем вся сила первой [потенции. — А. Д.] израсходована, истощена до чистого в себе [это значит, что А=В приведено к виду А1. — А. Д.] и что точно так же вся мощь второй причины [А2. — А. Д.], осуществляющей себя именно в этом истощении (обратном отрицании) первой, осуществлена [т. е. А2 состоялось полностью. — А. Д.], то это ставшее есть то, что Бог есть изначально, оно поистине есть ставший Бог, оно подобно Богу, оно, стало быть, свободно, как Бог, потому что оно не находится в односторонней зависимости ни от одной из двух действующих
в процессе причин[216], а является равновесием [курсив мой. — А. Д.] между обеими, между обеими парящим и свободно движущимся. Оно находится посредине между обеими, или, собственно говоря, если мы учтем и третью причину[217] [А3, т. е. Дух. — А. Д.]— causa finalis, или завершающую, — которую мы до сих пор могли не принимать в расчет, поскольку она, как было показано ранее, является не собственно действующей, а только венчающей и замыкающей целое, если мы, стало быть, учтем и ее, то ставшее высшего или последнего момента, в котором реализован замысел всего процесса, высшее созданное, таким образом, находится посредине между тремя причинами как свободное от каждой в отдельности, а именно потому, что все они принимают в нем одинаковое участие; оно есть поистине четвертое [курсив мой — А. Д.], между тремя причинами заключенное, ими совместно как бы удерживаемое и охраняемое, — именно это высшее создание есть человек [курсив мой — А. Д.], само собой разумеется, человек в своем первом бытии, каким он выходит непосредственно из творения, первобытный человек, который поэтому и в самом старом повествовании представляется помещенным в Богом огражденное и защищенное пространство, в рай. Повествование называет данное пространство садом, однако это древнееврейское слово точно так же, как немецкое «Garten»[218], обозначает всякое обнесенное, всякое окруженное оградой пространство»[219].
Этот человек есть человек изначальный. «Он всецело есть, как Бог, с тем единственным различием, что он стал таковым»[220], — пишет о нем Шеллинг. Человек стал богом в своем архетипическом положении четвертого, расположенного строго в центре равновесных потенций Божества, окруженный Богом со всех сторон. Но он в отличие от трех потенций имеет начало во времени, т. е. он спроецирован во время, открывая, тем самым, особое тварное измерение божественной динамики.
Хайдеггер так излагает в сжатых формулах суть антропологии Шеллинга. «Человек должен быть для того, чтобы Бог мог бы открыть Себя. Что такое Бог без человека? Абсолютная форма абсолютной монотонности. Что такое человек без Бога? Чистое безумие в форме чистой безвредности. Человек должен быть, чтобы Бог мог «существовать». Фундаментально и обобщенно это значит: для того, чтобы сделать Бога возможным как экзистирующий Дух, т. е. для того, чтобы человек мог бы быть, необходимо выполнить определенные условия, соразмерные природе Бога и природе Бытия»[221].
Здесь мы подходим к очень важному моменту: человек как синтез творения был явлен потенциями как инструмент их гармонизации и одновременно как ее результат. В нем нашло свое выражение равновесие.
Однако это равновесие было достигнуто не простой ценой: человек в становлении был спроецирован как носитель всех трех потенций — т. е. получил в себя (но только извне, а не изнутри) их свойства — бессознательную темноту, учреждающую материальность, разумность, включающую в себя свободу и духовность, как высший горизонт свершения. Эти три могущества стали атрибутами человека, как «ставшего Богом», ставшего как Бог.
Начальный человек, по Шеллингу, напоминает «духовного человека» из «Поймандра», который, будучи «братом Логосу», принялся сам творить миры. Эта демиургическая способность была обеспечена обретенной божественностью человека, в которой сочетались господство над материей и свобода. Так человек, поставленный уравновешивать, принялся творить сам, и этим нарушил то равновесие, к которому был призван.
В этом заключалась высшая ставка божественной игры: приведение к бытию человека как четвертого элемента и воплощенной Софии требовало риска — иначе не было бы и спасения. Человек наделялся свободой, которую Шеллинг определил как «свободу к добру и злу». Очень важно, что «зло» входит в определение свободы. Следовательно, зло, как добро, конструировало духовно-историческую судьбу человека. Отсюда катастрофа.
«В отношении этого внешнего мира человек — не какой-то человек, а человек вообще (der Mensch), тот единый человек, который продолжает жить во всех нас — может хвалиться, что является его создателем. В этом смысле Фихте прав, человек (в только что объясненном смысле) является полагающим мира, именно он положил мир вне Бога, не просто praeter, но extra Deum; он может назвать этот мир своим. Тем, что он, поставив себя на место Бога, вновь разбудил тот принцип, он положил мир вне Бога, стало быть, хотя он, по сути дела, присвоил мир себе, однако этот присвоенный им себе мир лишился своего величия, находится с самим собой в разладе, есть мир, который, будучи отрезан от своего истинного будущего, тщетно ищет своего конца и, порождая то ненастоящее, лишь кажущееся время, в печальном однообразии все только повторяет самого себя. Той катастрофой [курсив мой. — А. Д.], повлекшей за собой совершенно новый ряд событий, мы словно отделены от предыдущих событий, от нашего собственного прошлого, равно как именно этой катастрофой на все творение, которое, собственно говоря, содержит в себе историю нашего раннего прошлого, опущена завеса, каковую, разумеется, ни один смертный не в состоянии поднять, как гласит та старая надпись, сбросить. Но именно этим крушением также опосредовано, что тот всеобщий процесс теперь всецело ограничен человеком, человек стал средоточием, вокруг которого вращаются все божественные силы, и, что одно и то же, та же самая божественная история, которая прежде происходила в широком пространстве всеобщего бытия, теперь разворачивается в узком пространстве человеческого сознания»[222].
Природы этой катастрофы — в утрате человеком своего центрального места, в изгнании самого себя на периферию. Сотворенный человеком мир стал «миром наоборот», в нем действия потенций вступили в разногласия, снятые в божественном мире. Тот, который был как Бог, отчуждаясь от самого себя, т. е. от этого «как», становился не самим собой, т. е. человеком наоборот, пределом чего стал современный человек, как человек перевернутый — тот, кто совсем не как Бог. Это существо, не ставшее Богом или, точнее, переставшее быть Богом.
Параллельно этому человек впал в не то время. Шеллинг блестяще его описывает — «мир тщетно ищет своего конца», у него нет будущего, а, следовательно, его прошлое подменено, а настоящее гипотетично, является лишь продуктом (ложного) сознания.
Этот неправильный мир с неправильным человеком на его периферии есть для Шеллинга прошлое. Но оттуда, с этого дна, куда первочеловек (тот же самый, впрочем, человек, что и делает нас сегодняшних людьми; мы люди только в той степени, в которой видовым образом причастны ему, в остальном мы погрешности) _ рухнул мгновенно, неверно организовав начальную демиургию, создавая мир не так и не в том направлении, как надо было, он начинает свой путь в противоположном направлении; познав зло и познакомившись с дьяволом, он начинает выбираться из давления Бога звездных воинств. Этот путь находится в сложном отношении к миру, науке, истории обществ и религий. Все эти конструкты сотворены человеком, но вполне действительны, т. к. произведены могуществами, изначально приданными ему извне. Но все же это вполне перевернутый мир, реальный, но неправильно реальный, сконструированный ложно. В таком мире выход к собст-венной природе человека, а через нее к Божеству, плотно закрыт. Поэтому человек должен бесконечно страдать, разрываясь в клетке материи и материальных богов, пока не пробьется к моменту спасения.
Так София, замысел творения, завершает свой циклический путь блуждания «кривыми путями» — выходом к «третьему царству».
Последний Бог
Статья с многообещающим названием «Последний Бог Хайдеггера и параллели с Шеллингом»[223], случайно попавшаяся на глаза, оказалась вопиющим провалом и полной беспомощностью. И тем не менее фигура «последнего Бога» (der lezte Gott) Хайдеггера, занимающая важнейшее место в среднем периоде его творчества (конец тридцатых — начало сороковых годов) и связанная с темой Er-eignis, на самом деле, вполне может быть сопоставлена с Шеллингом. Видимо, правы те, кто считают Шеллинга самым близким к Хайдеггеру философом после, естественно, Ницше. Эта тема недостаточно исследована, и сам Хайдеггер был здесь немногословен. Однако между Хайдеггером и Шеллингом, действительно, много параллелей. Шеллинг, предпочитая становление и процесс и предвосхищая в этом Хайдеггера, стремится уйти от субстанциализма, от бытия, подчеркивая существование, и от концептов (понятий) к мышлению в категориях потенций (сил, могуществ). Все это станет стартовой позицией при построении Хайдеггером его фундаменталь-онтологии[224]. В то же время, формально а-теологичный Хайдеггер в некоторых работах (среднего и позднего цикла) часто обращается к фигуре Бога и богов, подходя к этой области с осторожностью и деликатностью, предпочитая в большей степени сферу искусства и поэзии (по Хайдеггеру, это есть зона сакрального), чем собственно философию. С философской и даже в чем-то эстетической позиции подходит к теологии и Шеллинг, особенно ранний. И в этом движении двух величайших философов к фигуре Бога есть одно чрезвычайно важное пересечение.
Шеллинг, вводя понятие прошлого, настоящего и будущего в структуру вечного Божества, видит именно в будущем, в фигуре A3 ту инстанцию, которая завершает динамический процесс Божественного. Это «будущее в Боге» есть «будущий Бог» или «Бог будущего». Отсюда, кажущееся на первый взгляд, парадоксальным выражение Шеллинга: «Бог — это то, что будет». Эта формула справедлива для структуры Божественного. Но т. к. природа есть тварное развертывание божественных потенций, то и для природы и ее времени есть будущее — таким «будущим» является для нее человек. Природа выстроена к человеку, она конституирована им и обращена к нему.
И наконец, для самого человека будущее имеет иероисторический пневмоисторический характер, и кульминирует в «Третьем Царстве», в «царстве Святого Духа», в эпифании Церкви Святого Иоанна. В этом моменте исторического будущего сливаются в единое три инстанции:
• третья потенция A3, полностью проявляющая себя как Божество в себе и для себя, и завершающая абсолютность Абсолюта;
• природа, коронованная человеком, героически достигающим своего софийного предназначения через теопатическое исчерпание содержания всего цикла свободы (включая опыт радикального зла, конститутивного для свободы);
• история, финально экзальтированная вертикальной спиралью Духа.
Точка резонанса всех этих инстанций — Бога, природы и человека, вполне может быть названа «последним Богом». Тварный Бог, тот, кто, как Бог, т. е. небесный человек, прошедший все круги природного гнета и исторического страдания, восходит к своему венцу, реализуя все заложенные в нем могущественные энергии в чисто духовном моменте. Через него снова уравновешиваются (как в начале, но только в духовном и необратимом виде) божественные потенции. Так время обрушивается в вечность, или, по словам Гурнеманца, отца Парсифаля, в финале оперы Вагнера: «О да, мой сын; в пространство время здесь обращено!» (Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.)
Теперь посмотрим, как к «последнему Богу» движется мысль Хайдеггера. В аналитике Dasein’а в «Sein und Zeit» Хайдеггер говорит о «трех экстазах времени», соответствующих экзистенциальному толкованию прошлого, настоящего и будущего. В этой особой экзистенциальной темпоральности будущему соответствует «возможность Dasein’а быть аутентичным», т. е. реализовать свое аутентичное Selbst. В таком будущем Dasein обретает возможность прямой интуиции «истины Бытия» и «бытия Истины», причем Бытие здесь обнаруживается как нечто конечное, одноразовое, а значит, уникальное. Это и есть «событие», Er-eignis.
Dasein может быть ориентирован по-разному. Если он и выбирает в настоящем решимость аутентичного экзистирования, он выбирает будущее. Выбрав будущее, решившись на будущее, Dasein сопрягает себя с Er-eignis’ом, присягает бытию. Тем самым он открывает будущее, которого может и не быть. Точнее, собственно будущее, было и есть, но вот грядущее может не стать будущим; а прошлое может не быть бывшим. Все зависит от режима экзистирования Dasein’а: в неаутентичном режиме Dasein погружается в неаутентичное время — в то самое время, которое прекрасно описано Шеллингом, откуда невозможно выбраться, и которое есть не что иное, как бессмысленное повторение одного и того же. Поэтому грядущее может быть будущим, а может и не быть.
Хайдеггер называет «последнего Бога» наигрядущим элементом грядущего, т. е. собственно бытием будущего. Поэтому «последний Бог» есть ось Er-eignis'а, его содержание.
По Хайдеггеру, последний Бог не столько «приходит», сколько «проходит». Проходит стороной, по касательной. Но этого достаточно. Его едва заметный знак, кивок головы, ein Wink, радикально меняет ткань истории и судьбу бытия. Это кульминационный момент другого Начала философии. В своем знаменитом интервью журналу «Spiegel» Хайдеггер скажет: «Нас может спасти только Бог». Он не был бы собой, если бы не имел в виду нечто чрезвычайно парадоксальное. Речь идет как раз о «последнем Боге», который может спасти нас, не как внечеловеческая и внекосмическая сила, а как «гость изнутри», как решительное переключение режима экзистирования в сторону Er-eignis. Если это переключение случится, состоится, «последний Бог» появится и кивнет. Это и будет спасение, т. к. бытие Истины состоится.
Фигуру «последнего Бога» в ключе шиитской имамологии и эсхатологии толковали иранские последователи Хайдеггера (например, Ахмад Фардид и др.), еще на одном уровне замыкая хайдеггерианство, с одной стороны, и изучавшийся А. Корбеном, также начинавшим с Хайдеггера, шиитский гнозис и исламский суфизм, с другой.
Эсхатологический гуманизм
Здесь следует задаться вопросом: как совместить позитивное наделение будущего спасительным смыслом у Шеллинга и Хайдеггера со свойственным всем традиционалистам, исповедующим Sophia Perennis, убеждением, что современное человечество живет в темные времена, и что Новое время и Просвещение представляют собой падение, вырождение и финальную деградацию, а отнюдь не венец истории и не кульминационную точку прогресса? Мы подходим к очень тонкой теме сочетания традиционализма, с его идеей регресса, и Нового времени, с его верой в прогресс. Позиции Р. Генона или Ю. Эволы в этом вопросе очерчены предельно жестко: современный мир есть анти-Традиция, болезнь и «дьявольское извращение», и со всем этим у традиционализма не может быть никакого компромисса. С другой стороны, работы М. Элиаде, А. Корбена, кружка Эранос, а также исследования Ф. Йейтс или М. Сэджвика подводят к интересной мысли, что само Новое время и в еще большей степени Возрождение вдохновлялись во многом именно платоническими и перенниалистскими мотивами, толкуя «прогресс» в эсхатологическом ключе подготовки финального парусии, венчающего цикл эпифании. Отсюда роль герметизма в его влиянии на отцов-основателей рациональной науки Нового времени (начиная с Бруно и Ньютона) или «оккультные корни» социализма, коммунизма, декадентства, модернизма и т. д. Это направление исследований, идентифицирующих так называемый «soft-традиционализм» или «крипто-перенниализм» даже там, где формально и нет радикального отвержения современности (то есть «hard-традиционализма» или эксплицитного перенниализма), полностью подходит к случаю Шеллинга и его реконструкции иеро-истории.
Шеллинг не отбрасывает науку Нового времени, современную ему философию и общественно-исторические тенденции. Но он перетолковывает их (течение жизни все более эксплицитно — отсюда феномен позднего Шеллинга) в духе своей диалектической и эсхатологической теологии процесса. Такое перетолкование, где модернизм сочетается с традиционализмом и принято называть романтизмом. В ХХ веке это течение будет называться также Консервативной Революцией, представителем которой в полной мере можно считать и Мартина Хайдеггера.
В таком случае наше время, однозначно квалифицируемое как канун достижения некоторого телоса, «конца истории», как бы мы его ни истолковывали, является уникальным моментом, в котором соприсутствуют два противоположных исторических, социально-антропологических и философ-ских полюса. Один из них представляет финальное сгущение негативного результата исторического цикла: это нагромождение мусора человечества, непродуманных мыслей, непрожитых состояний, не использованных возможностей, не истолкованных снов, проваленных начинаний, утерянных ориентаций, утративших смысл технический изобретений… Это «закат Запада» (Untergang des Abendlandes), принудительно тянущего в свою бездну все остальное человечество в глобальном режиме. Это триумф отчуждения, абсолютизация неаутентичного экзистирования Dasein'а, царство das Man. Это особое время, которое не течет никуда (рециклирование, постистория), замкнувшееся в своей эфемерности и бессмысленности. Для Шеллинга дьявол открылся уже в дуалистической топике модернистского рационализма — в субъекте и объекте, как кристаллизации дыхания бездны, Grund. Это — наступившее царство антихриста, финальный этаж нисхождения к центру ада — к полюсу первого Диониса, прибытие к Загрею.
Классические традиционалисты понимают под «современностью» только это. И здесь ни о каком прогрессе говорить нельзя. Современность есть катастрофа в ее финальной стадии. Отсюда и нигилизм, обнаруженный Ницше и столь фундаментально и метафизически осмысленный Хайдеггером в его скрупулезном исследовании ничто.
В мифологических и религиозных терминах это обрушение царства A2, Диониса2, конец христианства — и христианства Петра и христианства Павла. «Бог умер», мир обескровлен (т. к. «умер великий Пан»), история остыла и застыла в хаотическом виртуальном симулякре.
И в то же время эта непроглядная тьма, даже забывшая о том, что она тьма, т. к. сравнение со светом невозможно, даже память о нем стерта, есть предрассветный мрак, особенно густой, когда время едва перевалило за полночь. Или «еще не перевалило»? Этим вопросом постоянно задается Хайдеггер, анализируя структуры «все еще не», «noch nicht», что у Шеллинга соответствует страшному проникновению в бездну божественной тьмы, в пред-онтологический Grund, в то прошлое, что никак не может стать настоящим, и тем более будущим. «Все еще не» — это не проблема определения сроков, как если бы эти сроки зрели бы и наступали бы сами по себе, независимо от нас. Таких сроков нет. Сын Божий не знает момента конца, потому что этого конца нет в мире природы и конечной твари. У мира в Боге, Софии, вообще нет конца, так что знать его невозможно никому. Но конец у тварного мира есть, однако он напрямую зависит только от человека, а еще точнее — от Dasein'а. Мир, в котором мы живем, Бог не создавал; его создал человек. И превратил его в бессмысленный мусор тоже человек, созидающий мир как бессмысленный мусор — созидающий здесь и сейчас. И чтобы это завершилось, чтобы поставить точку в истории «Первого Начала», именно человек должен принять решение, переключить режим. Чтобы конец цикла наступил, мы должны решиться на этот конец, мы должны окончиться и окончить.
Вот здесь открывается главное. Хайдеггер в своей работе о Шеллинге внезапно и, по всей видимости, без связи с логикой основного изложения вдруг заявляет, выделяя это место курсивом: «Величие Dasein проявляется в его попытке начать и упорствовать в великом сопротивлении своей природе, надстроенной над ним самим»[225]. Это значит, создав мусорный мир как развертывание многомерных этажей неаутентичного экзистирования, превращенного в действительные, но бессмысленные предметы, загромоздившие собой бытие, перманентно извращая свое могущество, превращением его в свою природу, в субстанцию, в метафизику и онтологию (Первого Начала), Dasein именно в критической точке своей задавленности этим онтологиче-ским барахлом, в катастрофической ситуации «удушения» современной историей, может и должен подняться на восстания и сбросить этот хлам (то есть современный мир как таковой), сделав финальный рывок навстречу Er-eignis'у. Здесь в полной мере уместны часто цитируемые Хайдеггером строки Гельдерлина, близкого друга Шеллинга: «Там, где риск, там — спасение».
Современный мир есть кульминация страдания для человека как вида, для «духовного человека», «светового человека». Это венец теопатии, т. к. вместе с человеком страдает Бог и человек страдает без Бога для Бога и к Богу. Погребенный под горой реализованной свободы ко злу, человек достигает низшей точки. И с этой низшей точки, с учетом знания о смысле ее достижения, он должен сделать последний бросок. Бросок навстречу «последнему Богу».
Третья Церковь, о которой говорил Шеллинг, не явится открыто — а если нечто подобное явится, то это будет очередным симулякром. Она должна явить себе через свое отсутствие, но осознаваемое и переживаемое как нестерпимая боль. Это и есть второй полюс последней эпохи мира: очаг теоантропологического метафизического страдания, утверждение отличия крохотной крупицы Dasein'а от сгустившихся сумерек истории.
Гераклит говорит: «Когда наступает ночь, человек зажигает огонь». Ночь наступила, она так темна, что все забыли о свете. Но кто-то все равно зажигает огонь. Вопреки всему. И переключает режим. И встречает «последнего Бога», Бога полуночи.
Только тот, кто зажигает огонь, и есть человек.
Часть 5. Логос и его дубль
Глава 17. МЫСЛЯЩИЙ ХАОС И «ДРУГОЕ НАЧАЛО» ФИЛОСОФИИ
Хаос vs Логос
Хаос не попал в контекст греческой философии. Греческая философия строилась исключительно как философия Логоса, и для нас такое положение дел настолько привычно, что мы — наверное, справедливо с исторической точки зрения — отождествляем философию и Логос. Мы не знаем другой философии, и в принципе, если верить, во-первых, Фридриху Ницше и Мартину Хайдеггеру, а затем уже и современной постмодернистской философии, придется признать, что эта философия, открытая греками, выстроенная вокруг Логоса, сегодня полностью исчерпала свое содержание. Она воплотилась в технэ, в субъект-объектную топику, которая оказалась состоятельной лишь два-три столетия — до финального, закатного аккорда западноевропейской философии. И сегодня, по сути дела, мы стоим на линии или в точке конца этой философии Логоса.
Мы можем сегодня охватить взглядом весь процесс развертывания логоцентрической философии, начавшейся с Гераклитом и досократиками, достигшей своего апогея в платонизме и Сократе, развивавшейся довольно бурно в греко-латинской патристике, затем в схоластике, позднее в неоплатоническом Возрождении, и в Новое время обратившейся вместе с Декартом через его субъект-объектную топику к последнему, саморефлексирующему этапу, который, в свою очередь, закончился с Ницше. По Хайдеггеру, именно Ницше положил конец западноевропейской философии. Так перед нами предстал законченный рассказ о логоцентрической культуре с завязкой, апогеем и развязкой. Логос от рождения до смерти. Но тогда кем же был сам Хайдеггер?
С одной стороны, Хайдеггер окончательно закрывает процесс западной философии, ставит на нем последнюю печать, а с другой (возможно) — закладывает основания чего-то нового. Окончание философии безусловно, вопрос о «другом Начале» (der andere Anfang) открыт.
Совершенно очевидно, что западноевропейская философия, будучи логоцентричной, исчерпала свой потенциал. И тут стоит задаться вопросом: какую роль играл в этой логоцентричной философии хаос? Он был с самого начала отброшен, вынесен за скобки, перечеркнут, потому что Логос основан на исключении хаоса, на утверждении строгой альтернативы ему. В чем принципиальное различие логоса и хаоса? Логос — это эксклюзивность, Логос — это разделение, Логос есть четкое представление об «этом» и «другом», и не случайно Логос получил свою формализацию в логике Аристотеля, в ее основных законах: законе тождества, законе отрицания и законе исключенного третьего. Необходимо подчеркнуть, что современные модернистские и постмодернистские исследования совершенно справедливо показывают: логоцентрическое понимание мира является маскулиноидным, т. е. исключительно мужским, эксклюзивистским[226]. Именно так, разрывным образом, мыслят мир и порядок мужчины. Логос — это мужское иерархизированное начало, оно выпросталось в западноевропейской философии, достигло высшей точки, и… рухнуло, низверглось, рассеялось. Сегодня «великий мужчина», «космический мужчина» распался на фрагменты. Он рухнул, и вместе с ним обрушилась его философия, поскольку Логос и мужское начало — это, по сути дела, одно и то же. Отсюда правомочность постмодернистского критического термина «фалло-логоцентризм». Вся западноевропей-ская философия была выстроена по мужскому принципу от начала до конца. Этот конец — здесь. Мы проживаем его. Значит, Логос исчерпан. Так что остается либо податливо скользить в ночь, либо искать новые пути.
Если мы окинем взглядом процесс возникновения, становления и краха западноевропейской философии, появления Логоса в чистом виде, то, соответственно, по мере демаскулинизации (по Платону, только философ является полноценным мужчиной, мужчина есть тот, кто философствует, так что сегодня можно говорить о стремительном вырождении и спиритуальной кастрации мужчин, не способных более заниматься философией) и по мере падения Логоса перед нами развертывается картина смешения: диссипативные фрагменты мужского логического мышления турбулентно смешиваются между собой, образуя постмаскулинистскую амальгаму. Именно на это смешение, на феномен турбулентности частей, не являющихся более частями чего-то целого, и указывают те, кто используют понятие «хаоса» в современной науке.
Хаос и смешение
Здесь сразу надо сказать, что хаос, с которым оперируют современная наука, современная физика и теория хаоса, на самом деле представляет собой структуры порядка, но более сложного. Это не что иное, как комплексные системы, отнюдь не альтернативные порядку как таковому, но являющиеся лишь экстравагантной, барочной (и здесь интересны идеи постмодерниста Ж. Делеза, изложенные им в эссе «Складка. Лейбниц и барокко»[227]) версией усложненного, искаженного и, в значительной степени, первертного порядка. То, что называют сегодня «хаосом» представители науки и отча-сти культуры, есть состояние постлогического мира, которой находится, однако, все еще по эту сторону Логоса, внутри его орбиты, хотя и на самой дальней периферии, на его последней окраине. Очень точное определение дано такому положению дел Рене Геноном, назвавшим это состояние среды «la confusion» (франц. «смешение», «путаница», «переплетения всего со всем»).
Понимание «хаоса», которое доминирует в современной науке, соответ-ствует отнюдь не греческому хаосу как чему-то изначальному, органическому, спонтанному, но продукту распада логоцентричной философии и основанной на ней логоцентричной культуры. То, с чем мы сегодня имеем дело как якобы с «хаосом», это продукт распада Логоса, диссипация Логоса, его рассеяние по отдельным фрагментам. Именно поэтому ученые, изучающие «хаос», и находят в нем остаточные или экстравагантные, эксцентричные структуры Логоса. Они поддаются изучению и подсчету, только в более сложных процедурах, с помощью особого аппарата, приспособленного для подсчета и описания бифуркационных процессов, неинтегрируемых уравнений (И. Пригожин), фракталов (Б. Мандельброт). Теория «хаоса» исследует процессы, чрезвычайно зависимые от изначальных условий. «Хаос» сегодня в науке принято определять так — это динамическая система, имеющая следующие свойства: чувствительность к начальным условиям, свойство топологического смешивания, плотность периодических орбит. Математики уточняют: «хаотическая система должна иметь нелинейные характеристики, быть глобально устойчивой, но иметь хотя бы одну неустойчивую точку равновесия колебательного типа, при этом размерность системы должна быть не менее 1,5 (т. е. порядок дифференциального уравнения не менее 3-го)»[228].
На самом деле, под таким «хаосом» имеется в виду отнюдь не греческий хаос, но продукт рассеяния, распада Логоса. Это происходит потому, что мы все еще не выходим за пределы Логоса: тот хаос, с которым имеет дело современная наука, вложен в Логос, плещется в его внутренних просторах, хотя и на самой далекой орбите — на максимальном удалении от вертикальной упорядочивающей логоцентрической оси, на дальней окраине платониче-ского умозрительного космоса, в мире Титанов[229]. Поэтому, строго говоря, следует называть эту реальность «очень далекой копией», почти утрачивающей связь с оригиналом, а отнюдь не «хаосом». Здесь точнее всего подходит термин «смешение» («la confusion», по Генону) или постмодернистское понятие «симулякр», трактуемое Ж. Бодрийяром как «копия без оригинала». Это внутрилогическая зона, максимально удаленная от центра, не имеет ничего общего с изначальным образом греческого хаоса, который, согласно мифам, предшествует логосу, порядку, т. е. космосу. Истинный хаос предкосмичен, предонтологичен. «Смешение» или «хаос» современной науки по-сткосмичен, и хотя бытия в нем почти не остается, оно все-таки есть, значит, он в какой-то мере онтологичен. Здесь вполне уместна апория Зенона о быстроногом Ахилле и черепахе. Как бы «смешение» не стремилось избыть онтологию, оно аналитически этого сделать не в состоянии, предел х при х стремящемся к 0, как показывает Рене Генон[230], никогда не будет равен 0, а будет лишь постоянно к нулю приближаться, всегда оставаясь на все более сокращающемся, но все же бесконечно большом (хотя и бесконечно малом!) от него расстоянии.
Современная наука, исследуя «хаос» (философски Жиль Делез описывает это как способ сосуществования несовозможных монад[231], называя их «номадами»), исследует внутрилогический, послелогический, диссипативный порядок, а вовсе не альтернативу порядку, на что надеялись нигилистически настроенные постмодернисты.
Здесь важно обратить внимание на понятие «ничто». Логос вбирает в себя все, и всему приписывает свойство самотождества в тождестве с самим собой, т. е. с Логосом. Логос есть все, он все в себя вбирает, кроме того, что им не является; но то, что им не является, есть ничто, Логос исключает все то, что не включает, а т. к. он включает все, то вне его остается только ничто. Но с этим ничто он обращается жестко — по словам Парменида, небытия нет. Ничто окружает порядок, служит ему границей. Но т. к. мы смотрим на ничто глазами Логоса, то этой границы достичь нельзя. Сколько бы мы ни стремились к ничто, какой бы нигилизм ни культивировали, мы остаемся в пределах нечто, а не ничто, внутри порядка, под гегемонией Логоса. И хотя эта гегемония на дальней периферии слабнет, но никогда не исчезает вовсе. Поэтому на пути освобождения от власти и доминации модернисты, а за ними и постмодернисты, обнаруживают фигуру «деспота» вслед за Богом и традиционным обществом — сначала в обществе как таковом, затем в рассудке, затем в самом человеке, затем в структурах, языке, контексте (постструктурализм) и т. д. То обстоятельство, что небытия нет, делает бытие непреодолимым для тех, кому его бремя в тягость. И все эвокации «хаоса» или взывания к «номадическим» несовозможным монадам, не способны дать желаемого результата — окончательно и бесповоротно выкорчевать «волю к власти», что является главной целью освободительной программы Просвещения, не удается и не удастся никогда по определению.
Критика европейского Логоса у М. Хайдеггера
Те, кто понимают ситуацию глубинного кризиса Модерна (в частности, Мартин Хайдеггер), обращаются к корням Запада, к греческой матрице, откуда произошла философия. Хайдеггер тщательно исследует рождение Логоса и прослеживает его судьбу — вплоть до царства техники, Machenschaft. Чтобы описать это, он вводит понятие «Gestell», в котором суммируется сама референциальная теория истины — от Платона (и даже от Гераклита) до механической торгово-материалистической цивилизации современного предельного планетарного (но все еще западоцентричного) декаданса. Окинув взглядом историю философии (которая и есть история как таковая) от начала до конца, Хайдеггер обнаруживает, что она кончилась столь неправильно именно потому, что неправильно началась. И как альтернативу он набрасывает проект «другого Начала»[232].
Описав первое Начало философии, которое привело к Логосу и, в конечном итоге, к диссипативному постлогическому (и постмаскулинному) режиму онтологии, в котором мы присутствуем, Хайдеггер опознает его как след-ствие фундаментальной ошибки, совершенной на первых, даже предварительных этапах становления западноевропейской философии. Согласно его взгляду, история западноевропейской философии, культуры и религии есть результат незначительной изначальной погрешности в метафизиче-ском созерцании. Две с половиной тысячи лет человеческой истории, по Хайдеггеру, были тщетными, поскольку в самом начале, где-то в зоне первичных формулировок статуса Логоса, невзначай была допущена определенная ошибка, которую, как полагает Хайдеггер, необходимо, первое — осознать, и второе — преодолеть. Так складывается хайдеггеровская концепция двух Начал в философии: первое Начало философии, которое началось, сложилось, состоялось, расцвело, а потом деградировало, сейчас сошло на нет (вспомним хотя бы современный нигилизм, вскрытый Ф. Ницше и досконально разобранный Хайдеггером), и другое Начало, которое могло бы быть найдено еще в истоках философии (но этого не случилось и результат налицо — Логос и его поражение), но, может и должно быть обозначено и открыто сегодня. Но другое Начало начнется только в том случае, если все по-настоящему станет ясным. Хайддегеру стало. С остальными — «задержка», видимо «все еще нет», noch nicht[233], вечное «все еще нет». Другое начало — der andere Anfang.
Если внимательно рассмотреть, что имеет в виду Хайдеггер под «другим Началом», альтернативным возможным Началом, еще не состоявшимся и не произошедшим, и если проследить линию предпринятой им грандиозной деконструкции Логоса, мы сможем охватить взглядом всю западноевропей-скую философию, культуру, историю, в том числе и религиозную, потому что религия есть не что иное, как развитие логических конструкций (поэтому Хайдеггер говорит о «теологике» — христианская религия, как и мусульманский калам, и теологический иудаизм основаны на Логосе, у нас в принципе нет иных монотеистических религий, кроме религий Логоса). Логоцентризм религий понять чрезвычайно важно: это показывает, что бесполезно обращаться к религии в поисках альтернативы или защиты от краха Логоса: кризис современных религий — это кризис Логоса; когда Логос терпит крах, падает вся его вертикальная топика, все его вариации, в том числе и теологические. Это взаимосвязано — монотеизм теряет фасцинативность, т. к. слабнет притяжение Логоса, и наоборот. Религии без Логоса перестанут быть сами собой. Но даже и в этом случае Логос будет в них присутствовать — как фантомная боль, как «смешение», как суета десемантизированных фрагментов (что мы и видим сегодня вокруг нас в сомнительном феномене так называемого «религиозного возрождения», который недву-смысленно отдает симулякром и пародией).
Поэтому Хайдеггер предложил выход искать совсем иначе: с одной стороны, в истоках греческой философии, в самом Начале, даже в преддверии этого Начала, а с другой — за пределами нашего мира, тем самым соединяя проблематику момента зарождения философии, ее пребывания в эмбриональном, внутриутробном состоянии, с проблематикой момента последней агонии и смерти. До Гераклита философия находилась в утробе, Логос «плавал» в материнских водах, в матрице; сегодня Логос лежит в могиле. Могила и чрево, с одной стороны, имеют значение антитезы: в первой — смерть, в последней — рождение. Но в то же время мы знаем, что в коллективном бессознательном они являются синонимами, взаимными синтемами[234]. Образно можно сказать, что в обоих случаях это ночь, тьма, существование без дистинкции, стирание границ, ноктюрн[235], тем более, что многие инициатические ритуалы связаны с погружением в могилу как с началом воскресения, т. е. другого, второго рождения. Таков же и обряд православного крещения: вода в православном крещении символизирует землю, могилу, смерть. Полное трехразовое погружение крещаемого в купель — символ трехдневного пребывания Христа в могиле. Это погружение в землю, в могилу, «спогребение Христу», является залогом нового рождения.
Итак, если Логос в первом Начале греческой философии родился через отвержение Хаоса как эксклюзивно поставленный в центре Всего принцип разделения, иерархии, исключения, порядка, т. е. если, по сути дела, мужское начало было возведено в абсолют, и если все это началось, как мы знаем, и кончилось тем, что мы имеем в современном мире, то, соответственно, вслед за Хайдеггером, надлежит проследить, что же было упущено, в чем состояла ошибка в том первом толчке, который дал старт развертыванию логоцентричной цивилизации. Хайдеггер развивает свое видение в суммирующей фундаментальной и чрезвычайно сложной работе «Beiträge zur Philosophie»[236], с которой я всем рекомендую ознакомиться (работа не переведена и, я бы сказал, это прекрасно, она не может быть переведена; есть вещи, которые не просто сложно переводить, их преступно переводить, надо учить язык, чтобы их понять). Там речь идет непосредственно о «другом Начале». И, напротив, краткий и относительно «легкий» конспект этих идей мы находим в «Geschichte des Seyns»[237].
Другое начало
Хайдеггер предлагает мыслить радикально иначе, чем принято в существующей философской или философско-религиозной мысли. Но как можно философствовать иначе, как может быть «другое Начало» философии? Если мы внимательно присмотримся к моменту рождения греческой философии, то увидим одну принципиальную вещь: философия рождается вместе с эксклюзией, причем, в первую очередь, эксклюзии подвергается Хаос. Хаос не является философским концептом и никогда таковым не являлся, но вступает в философию исключительно через своего посредника, через своего субститута в лице хоры (χώρα), платоновского «пространства» в «Тимее», или в лице позднейшей «материи» (ὓλή) Аристотеля. Однако взгляд на хору в «Тимее» и взгляд на материю Аристотеля — это взгляд уже Логоса[238], а все сказанное Логосом о том, что он уже исключил в ходе своего воцарения, подобно «политической пропаганде» или «выпуску новостей». То, что Логос скажет нам о материи, будет исключительно конструктивистской «Wille zur Macht», «волей к власти», развертыванием пристрастной и наступательной стратегии мужской доминации, установлением иерархической гегемонии, проекцией wishfull thinking и self– fulfilling prophecy. С самого начала философии «хвост вилял собакой». Философия пытается навязать нам то, что выгодно ей самой. Здесь кроется исток мужской хитрости, стремления мужчины к абсолютизации себя и, соответственно, к эксклюзии женского начала, «другого» начала. А за этим мы можем, вглядевшись, распознать полное, тотальное непонимание женщины. Отсюда приписывание женщине тех свойств, которыми она в действительности не обладает. Так мужское форматирует под себя то, оказывается исключенным им самим из интеллективного процесса. Логос отказывает хоре в качестве интеллигибельности. Но он не понимает ее только потому, что не хочет ее понимать, что вместо нее он предпочитает иметь дело с представлением. Мужчина считает, что единственный способ познать женщину — это спрятать ее во внутренних покоях, лишить публичного, социального измерения. А затем и вовсе изгнать, вытравливая ее следы мукой мужской одинокой аскезы. Поэтому мнение Логоса о хаосе — это заведомая ложь, насилие, подчинение, гегемония, исключение хаоса как другого. Поскольку Логос — все, то хаос становится ничто[239].
Если мы хотим понять саму возможность «другого Начала» философии, мы должны прийти, с одной стороны, к моменту рождения Логоса и зафиксировать этот переход через границу, разглядеть детали и семантику этого rite du passage. Как получилось, что Логос выпростался и отъединился; кто ему позволил выдавать свои эксклюзивные декреты относительно хаоса? И, теперь уже самое интересное, если мы чувствуем неудовлетворительность диссипативных логических и постлогических структур, то мы должны осознать, что следует вновь обратиться к Логосу, поскольку сам Логос своей эксклюзивностью и создал все предпосылки этой диссипации. Мы не можем просто взять и вернуться к платонизму — обратного пути нет. Логос двигается только в одном направлении: он дробит и дробит (и дробит, и дробит … и так в периоде[240]). Эту логику Жильбер Дюран[241] называет режимом «диурна»: пока логос не измельчит все в крошку, он не остановится. Данный шизоморфоз[242] приводит напрямую к концепту «шизомасс» Ж. Делеза и Ф. Гваттари[243].Это прекрасно проиллюстрировано в фильмах Такеши Миике, например, в «Киллере Ичи» или «Изо». В «Изо» безумный самурай, начавший битву с миром, не останавливается, пока не разрезает на куски вообще всех, попавшихся ему под руку. Изо есть Логос.
Логос нам не поможет. Если нам не нравится, как организован современный постлогический мир, хотим мы того или нет, мы вынуждены обращаться к хаосу. У нас нет другой альтернативы: мы должны отступить фундаментально назад, к первому Началу греческой культуры, чтобы сделать хотя бы малейший шаг вперед — по-настоящему вперед, а не по бесконечной дуге вечно кончающегося, но никогда не способного закончиться мира («все еще нет»). Если мы не совершим этого, то попадем в вечный тупик бесконечного возвращения диссипативных структур-конфузий. Выбор: либо современный постлогический хаос конфузий, либо выход за его пределы; но выход за его пределы может быть найден только в хаосе (предшествующем Логосу и находящемся радикально за его чертой, за линией его периферийной агонии).
Чреватый хаос
Хаос может и должен быть рассмотрен как инклюзивный порядок, как порядок, основанный на противоположном Логосу принципе, т. е. принципе включения, включенности. Поэтому очень важно понять, что значит включенность? Постигнув это, мы узнаем, возможно ли вообще строить философию хаоса, т. е. философию «другого Начала».
Если мы рассматриваем хаос так, как его рассматривают логоцентриче-ские модели, то нам это ничего не даст. В хаосе нет ничего логического (эксклюзивного, маскулинного, нет Wille zur Macht), а значит, для Логоса и Онто-Логоса он становится ουκ ον (греч. чистое небытие), французское «rien», испанское «nada». Именно — οὐκ ὂν, не µὴ ὂν, — как греки называли небытие, способное производить из себя нечто, «чреватое небытие»). Так как Логос не увидит ничего, кроме самого себя, то по принципу аристотелевской логики мы не можем ему ничего противопоставить: либо A равно A, и тогда мы находимся внутри логических границ, либо A не равно A, и тогда мы находимся вне этих границ, в ничто. В философии Аристотеля последнее означает, что A просто не существует; A, которое было бы не равно A, не существует, в отличие, например, от философии японца Китаро Нишиды, разработавшего, вопреки Аристотелю, особую логику мест, «басе», основанную на дзэн-буддистских моделях мышления.
Но вне Логоса и его гипнотической суггестии хаос вполне может быть концептуализирован как принцип абсолютной инклюзии или инклюзивной философии. Почему это возможно? А потому, что, если мы отвлечемся от политической пропаганды Логоса, в условиях, в которых мы живем две с половиной тысячи лет, мы сможем увидеть хаос таким, как он сам себя презентирует, а не таким, как его презентирует Логос. Хаос открывает себя как то, что инклюзивно, несет в себе все возможности, в том числе возможность эксклюзии — вплоть до эксклюзии самого себя. Действительно, в хаосе есть Логос и есть именно такой, как он сам себя мыслит, так же, как есть зародыш в чреве женщины: он есть и он родится, непременно родится, оторвется, по-взрослеет и уйдет; однако, останется за кадром нечто более важное — та, что дает ему жить, та, что его производит, взращивает, кормит.
Логос можно представить как рыбу, плавающую в водах хаоса. Без этой воды, будучи выброшенной на поверхность, рыба дохнет, и так, фактически, «сдохли» структуры Логоса. Мы имеем дело только с диссипативными его остатками — это кости рыбы, выбросившейся на берег. И не случайно многие говорят о символизме Водолея как о новой воде, без которой старая рыба не смогла жить.
Философия хаоса возможна потому, что хаос, будучи всевключающим, всеобъемлющим, предшествующим любой эксклюзии, саму эту эксклюзию содержит внутри себя, но только относится к ней и к самому себе иначе, нежели сама эксклюзия, т. е. Логос, относится к хаосу и к самому себе. Мы знаем только один взгляд на хаос — философский взгляд с позиции Логоса, а если мы хотим взглянуть на Логос с точки зрения хаоса, нам говорят, что это невозможно, т. к. мы привыкли смотреть только с точки зрения Логоса. Считается, что только Логос зряч, а хаос слеп. Нет, это не правда, у хаоса тысяча очей, он «паноптичен». Хаос видит себя как то, что содержит в себе Логос, значит, Логос находится внутри хаоса и может быть в нем всегда. Но, содержа в себе Логос, хаос содержит его совершенно иначе, чем сам Логос содержит себя, отрицая то, что он содержится в чем бы то ни было, кроме себя, и соответственно, выставляя хаос за пределы, приравнивая к ничто, отрицая его. Так, рыба, осознающая себя, как нечто отличное от окружающей ее воды, может сделать вывод, что вода ей больше не нужна — и выброситься на берег. Сколько ни бросай эту глупую рыбу обратно, она будет повторять свой бросок снова и снова. Эту безумную рыбу звали Аристотель.
Но вода есть начало всего. В ней содержится корень иных стихий и иных существ. Она несет в себе то, что она есть, и то, чем она не является. Она включает в себя то, что признает это, но и то, что этого не признает.
Из этого можно сделать следующий вывод: во-первых, философия Хаоса возможна, во-вторых, спасение Логоса через Логос невозможно, спасение Логоса возможно только через корректное обращение к хаосу.
Хаос не просто не является «старым», он всегда «нов», потому что вечность всегда новая, та вечность (l’éternité), которую заново обрел (a retrouvé) Рембо — c’est la mer allée avec le soleil. Обратите внимание — la mer. Хаос — это самое новое, самое свежее, самое модное, самое последнее из коллекции нынешнего сезона (Il faut être absolument moderne. Point de cantiques: tenir le pas gagné). Именно потому, что это абсолютно вечное: время устаревает очень быстро, вчерашнее выглядит архаичным (нет ничего древнее «новостей» газеты месячной давности), лишь вечность всегда абсолютно новая. Поэтому вскрытие хаоса не значит углубления в историю, в структуры, которые нам представляются преодоленными историческим временем; нет, это столкновение с вечно юным. Хаос не был когда-то прежде, до. Хаос есть здесь и сейчас. Хаос — это не то, что было, как пропагандирует Логос. Хаос — это то, что есть, и хаос — это то, что будет.
В заключение вернемся вновь к Хайдеггеру. Прорваться к истине бытия (Wahrheit des Seyns) можно только в двух моментах истории: в Начале, когда философия только зарождается, и в Конце, когда происходит исчезновение, ликвидация философии. Конечно, отдельные личности могли осуществлять этот прорыв и на других этапах, но они могли это делать, а могли и удовлетвориться чем-то еще: они жили в магии Логоса, греясь в лучах солярного семени.
Сегодня же это единственное, что нам остается, все остальное исчерпано, а удовлетвориться растворением в вечно кончающемся и никак не могущем закончиться мире, во «все еще нет», удел ничтожеств. И, кроме того, сегодня сделать это более легко, чем когда бы то ни было. Мы живем с вами в удивительное время, когда перед нами открывается совершенно неожиданная ранее возможность познакомиться с хаосом напрямую. Опыт не для слабых духом. Ведь наша задача — построение философии хаоса.
Гава 18
Галлюцинация и ее структуры
(к деконструкции Конца Света)
Галлюцинация как семантический концепт. Психиатрический контекст
Начнем с определения «галлюцинации» в психиатрии. Оно звучит приблизительно так: «Галлюцинация — в широком смысле слова есть перцепция при отсутствии стимула».
Для философа такая дефиниция, наверняка, покажется наивной. В ней слишком прозрачна неотрефлектированная, игнорирующая Канта и все три его «Критики» палеокартезианская дуальность: перцепция есть чистая субъективность, а стимул — нечто, относящееся к области объекта, по умолчанию принятого за безусловно достоверную реальность. Феноменология, начиная с Брентано с его толкованием интенционального акта, ставит всю эту формулу в область иронического утверждения: внешнее по отношению к субъекту бытие стимула настолько сложная и трудно доказуемая вещь, что требует колоссальной работы по сверке процесса ноэзиса и разрывно надстроенной над ним дианойи. А это и составляет основную проблематику феноменологии от Брентано, Райнаха, Мейнонга до Гуссерля и Хайдеггера. Что-то, однако, мы из этого определения вынесли, схватив само его намерение, взглянув в том направлении, в котором указывает этот наивный психиатрический жест. Продолжим.
«В более узком смысле галлюцинации (ненароком появилось множественное число) определяются как перцепции в сознательном и пробужденном состоянии при отсутствии внешних стимулов, воспринимаемые как реальные перцепции в том, что они живые, субстанциальные и помещены во внешнем объективном пространстве». В философском смысле мы видим, что доктора наговорили еще больше невразумительной чепухи, повторив уже сказанное выше, но с упором и гипнотической суггестивностью, чтобы яснее внедрить в нас свою дуалистическую топику, не оставляющую никаких сомнений в плотной остенсивно эвиденциальной реальности внешнего мира и хрупкой обманчивой конституции мира внутреннего, способного так брутально ошибаться, легко (живо и субстанциально) принимая то, чего нет, за то, что есть. Чувствуя, что и этого недостаточно, учебник психиатрии продолжает вколачивать:
«Последнее определение отличает галлюцинации от сходных явлений, таких как сны, где нет бодрствования; иллюзий, где речь идет об искаженных или неверное интерпретированных реальных перцепциях; воображения, не воспроизводящего корректно реальные перцепции, но находящегося под контролем воли или псевдогаллюцинаций, не воспроизводящих корректно реальные перцепции, но не находящихся под контролем воли. Галлюцинации также отличаются от «обманчивых перцепций», когда верно воспринятому и корректно проинтерпретированному стимулу (то есть реальной перцепции) приписывается дополнительное (и часто странное) значение». Эта детальная таксономия служит аппаратом еще более углубленного внедрения субъект-объектной картины, детализируя теоретически возможные типы отношений между воспринимающим и воспринимаемым, описанными в терминологии науки, считавшейся безупречной лет сто пятьдесят назад.
И, наконец, мы знакомимся с тем, на каких уровнях может развертываться эта интересующая нас «перцепция без стимула». «Галлюцинации могут происходить в зоне любых чувственных форм — визуальных, звуковых, обонятельных, тактильных, проприоцептивных, эквилиброперцептивных, ноцицептивных, термоцептивных и хроноцептивных». С визуальными, звуковыми, обонятельными и тактильными галлюцинациями все понятно: мы видим то, чего нам не показывают; слышим то, что не звучит; нюхаем то, что не пахнет и щупаем то, к чему не прикасаемся. Проприоцептивность связана с чувственным восприятием своего тела и его органов: галлюцинируя, мы можем его потерять. Эквилиброперцепция и ее нарушение в процессе галлюцинации означает, что у нас кружится голова, и мы падаем, когда она не кружится, и для падения нет никакой веской причины. Эффект расстроенной ноцицептивности — это ложное восприятие боли (реальной или мнимой), которая, как нам кажется, превысила допустимый болевой порог («у меня сейчас голова лопнет», можно часто услышать от кого угодно). Термоцептивность входит в режим галлюцинации, когда нам становится холодно, при том, что довольно тепло, или жарко, при том, что достаточно прохладно. Галлюцинативная хроноцепция предполагает, что мы начинаем совершенно неверно воспринимать время: минуты растягиваются на часы, годы пролетают незаметно.
Что мы можем из всего этого извлечь? Галлюцинация в таком определении есть самобытное и самостоятельное конкретное чувствование субъекта, не вызванное ничем внешним по отношению к нему, но воспринимающееся как вызванное этим внешним как в любом привычном опыте. В галлюцинации галлюцинирующий субъект ненароком и незаметно для самого себя теряет внешний мир. И не замечает потери. Тем самым он достигает свободы от субстанции и материальности, обретая (правда, неосознанную и неотрефлектированную, но гигантскую по объему и степени) свободу.
Этимология термина «галлюцинация»: метафизика блуда
Теперь посмотрим, что нам говорит о галлюцинации этимология. Термин низкой латыни, встречается с 1600 года. Hallicinare (вариант allucinare) означает «обманывать», «обманываться». Формы alucinatus, позже hallucinatus, причастие от alucinari, дословно «блуждать (в своем уме»), грезить; а также метафорически «говорить бессмысленные вещи», «сбиваться с мысли». Изначально, возможно, образовано от греческого глагола alyein, аттическое halyein, «быть отвлеченным», вероятно, связано с alaomai «бродить вокруг». Латинское окончание, скорее всего, калькирует глагол vaticinari, «пророчествовать», но одновременно и «бредить» (то есть «быть одержимым»). С 1650 года слово приобретает значение «иметь иллюзии». По смыслу allucinare можно сблизить с errare, тоже «блуждать», откуда erratum — «заблуждение», «ошибка».
В основе галлюцинации лежит, таким образом, значение отклонения, блуждания, движения вокруг какого-то маршрута, схождение с пути, отклонение от предопределенной траектории. Русское слово «блуждать» довольно точно передает смысл термина. От этого древнерусского корня образованы такие важные понятия, как «блуд» и «заблуждение» (церковнославянское «блядь», т. е. «блудная», «заблудившаяся женщина», или составное «блядословие», т. е. «изречение заблуждений, путаницы и лжи»).
В последней фразе главной суры «Корана» «Фатиха» говорится:
«проведи нас прямым путем;
путем тех, на ком Твоя милость;
но не тех, кто заслужили Твой гнев
и не сбившихся с пути».
(dhallina), «сбившиеся с пути», можно перевести и как «заблудшие», «блуждающие», т. е. «галлюцинирующие». Рене Генон толкует эту фразу как описание спиритуальной структуры мира. Прямой путь есть ось мира, вертикаль, уводящая взгляд за горизонт творения, к Творцу. Путь тех, на ком милость, есть подъем по этой вертикали. Путь тех, на ком гнев, спуск по вертикали в ад, геенну. Dhallina — это те, кто блуждают по спирали на периферии мира, на границе «тьмы кромешной». Если путь вдоль оси мира, по Генону, осуществляется духом, то движение по спирали — это траектория душ, предоставленных (пусть относительно) самим себе, а значит, сбившихся с пути, блуждающих душ, оторвавшихся с духовного света, освещающего путь. Поэтому «Фатиха» просит Бога «избавить от галлюцинации». Прямой путь духа противопоставляется блужданиям души. Так дело обстоит в строгой традиционной метафизике.
Интересно, что Мартин Хайдеггер предлагает кардинально пересмотреть отношение к прямым и «кривым» путям. Так, в частности, одну из своих программных работ он называет «Holzwege», что по смыслу можно переве-сти как «лесные тропинки, не ведущие никуда» (на французский «Holzwege» перевели как «Дороги, не ведущие никуда» — «Les chemins qui ne ménent nullepart»). Сам Хайдеггер описывает «Holzwege» как свободную игру лесных дорожек, которые начинаются и исчезают по своей прихоти, не имеют строгого направления, пересекаются, сливаются и расходятся в не упорядоченном узоре. В каком-то смысле это «тупики», но не как столкновение с преградой, а как отсутствие ориентации, ориентира, цели и логической последовательности движения. По таким «лесным тропам» не идут, но блуждают или гуляют. (В русском языке «гулящая» (женщина) означает то же самое, что «блудящая» женщина, «блядь»). Гулять — это бродить без цели, блудить.
Для Хайдеггера такое движение само по себе, прогулка и есть принципиальный маршрут философа и поэта (в отличие от торговца, инженера или производителя, которые всегда знают, чего хотят, к чему стремятся и куда идут).
Это значит, что теоретически мы можем оценивать «галлюцинацию» в ее изначальном значении как «кривой путь», «блуждение», разнообразно. В любом случае этимология, добавленная к дефинициям учебника по психиатрии, расширила для нас значения термина.
Субъект галлюцинации в монотеизме (этимология «творения»)
В психиатрии нет сомнений по поводу субъекта галлюцинации. Топика (палео) Модерна понятна: есть объект (реальность), есть субъект — тот, кто объект воспринимает. Если субъект воспринимает реальность правильно, это не галлюцинация. Если неправильно, то галлюцинация. Но слово «галлюцинация» появилось до установления Модерна. И смысл у него, как мы видели, более тонкий и более общий.
Поэтому стоит обратиться к области Премодерна, где существовал не сам этот концепт, но его семантические аналоги (рассмотренные нами чуть ранее).
В Премодерне определение того, что является «галлюцинацией», а что нет, зависело не столько от человека, сколько от Бога. То, что относится (возносится) к Богу, то, что им конституируется, то и получает от Бога, через деяние творения, реальность. То есть, то, что не относится к Богу, не соотносится с Ним, заведомо находится в поле галлюцинации. Отсюда и моление суры «Фатиха»: «проведи нас прямым путем», а не «путем галлюцинации». Галлюцинация есть, следовательно, особенность тех людей (душ, существ), которые увлекаются самотождеством себя и окружающих вещей и воспринимают мир в отрыве от Бога.
В этом смысле сам Модерн, современность есть поле галлюцинации. Жертвой галлюцинации человек становится всякий раз, когда остается с самим собой и с реальностью, отрезанной от своей вечной деятельной божест-венной причины, от своего ἀρχή. Человек без Бога есть человек галлюционирующий. То, с чем он имеет дело, является не реальностью, а именно галлюцинацией, т. к. реальность есть то, что создается Богом и ровно в той мере, в какой это именно Им творится. Мы приходим к выводу, что в Премодерне (религиозном, традиционном обществе) различие между тем, что есть, и тем, что только кажется, решается через рассмотрение процесса творения, а значит, галлюцинация есть то, что отклоняется от оси творения, сбивается с прямого пути, проложенного между Творцом и тварью. Является ли нечто галлюцинацией или не является, зависит от того, как это нечто относится к творению (Богом мира и человека). Сам человек есть как нечто сотворенное Богом, но в отличие от других существ и вещей его миссия — свидетельствовать о Творце и его несовпадении с творением, т. е. снова и снова утверждать творение как онтологическую вертикаль. Отступая от этой свидетельской миссии или сбиваясь с нее, отвлекаясь от нее, он принимается галлюцинировать.
Проследим этимологию слова «творение» в русском языке. Более древним словом, выражавшим это же понятие в старославянском языке было «съплескание» (съплєсканиѥ). Другое слово «создание» восходит к корню «зьда», глина, строительный материал. То есть здесь изначально преобладает строительная метафорика (Бог как архитектор, строитель Вселенной). «Творение» же — архаический охотнически-скотоводческий термин — означало действие «запирания», «загона внутрь», в охоте — настижения и умерщвления зверя. Значение слово «за-творить» оказывается, тем самым, первичнее, чем «со-творить» или «творить». Отсюда «творение» как «заключение в», «запор». Творя мир, Творец за-творяет его в форме, в упорядоченном строе, подчиняет безграничное (ἄπειρον) пределу (πέρας). Этот строй, эта форма, этот «загон» и есть реальный, т. е. сотворенный мир (так в монотеистиче-ском Премодерне).
«Галлюцинация» же в таком случае означает «бегство из загона», «переливание через край», «трансгрессия творения» и «обрушение в хаос». Зверь становится диким, он больше не скот. Он ускользает от охотника. Скот становится зверем. Собака снова превращается в волка. Это и есть поле галлюцинации — трансгрессия границ стойла.
В греческом языке идея творения передается термином δεμιουργία, демиургия, и ясно относится к ремесленническим практикам. Это напоминает русское «создание», «лепка из глины» и заставляет мыслить Бога как первогоршечника, великого артизана.
В латинском языке у слова «creation» древней основой является индоевропейский корень *ker — (изначально «расти», «прорастать», «давать всхо-ды»[244]), что дает латинскую Цереру («богиню урожая»), латинское cresco («расту»), греческое κόρος, κόρη («юноша», «девушка»). В этом случае базовая метафорика относится к аграрной сфере.
В целом же акт творения, таким образом, может представляться тремя архаическими метафорами (по степени древности): 1) охотничьей/скотоводческой (русское «творение»), 2) аграрной (латинское creatio), 3) ремесленной/промышленной (греческое δεμιουργία). В стороне стоит строительная метафора «создание», которую можно отнести типологически к третьей категории — ремеслу.
Итак, Бог творит мир, что можно представить как разные типы архаиче-ского труда. В любом случае это так или иначе осмысленная и расшифрованная созидательная активность. Принадлежность к этой активности, включенность в нее есть залог нахождения в зоне того, что есть (реальности). Галлюцинация же — отвлечение от этой активности, выхождение из этой вселенской трудовой оси.
Майя, homo illudens
Различные религиозные философии задумывались над природой Творения. На высшем горизонте здесь стояла проблема бытия единого и его отношения к познанию и к множественности мира.
В диалоге «Парменид» Платон формулирует проблему в высшем и исчерпывающем напряжении: единое не может быть единым, если у него есть части или атрибуты, но т. к. «есть» — это атрибут, то надо выбирать: либо единое, либо бытие. Единое без атрибутов, поэтому оно не есть и непознаваемо. Это первая гипотеза «Парменида». Истинно только единое. Все остальное уже не совсем истинно, а точнее, истинно по причастию к единому, т. е. генадически. ἕν (hen) единое, ἔνας, (генада) — «причастное к единому». Следовательно, творение как постулирование многого, и даже как появление первобытия, предшествующего многому, уже есть вступление единого в неистинное, а значит, своего рода отступление, сокрытие.
В индуизме аналогичная логика составляет сущность философии адвайта-ведантизма, (например, у Ади Шанкары (788–820). Высший принцип (Брахман) непознаваем. Он открывает себя через самосокрытие (как единое неоплатоников). Творя мир, Брахман прячет себя. Поэтому бытие и тем более мир — это не он сам. Но только он истинен (реален), соответственно, не-он, мир, основанный на двойственности, нереален. Но что же тогда такое мир? Это майя — слово, обозначающее «мощь», «силу» и «иллюзию» одновременно. В другом случае о бытии мира говорится как о «lila», «космиче-ской игре».
Остановимся на слове «иллюзия». Оно латинского происхождения: «in-lusio», где «lusio» (от «ludere», «играть») «игра» с префиксом in — в значении «в», «на». Иллюзия — пребывание в состоянии игры, в игре, внутри игры. Мир, таким образом, есть поле игры/иллюзии. Здесь можно вспомнить великолепный философский труд «Игра как символ мира»[245] ученика Гуссерля и друга Мартина Хайдеггера Ойгена Финка (совместно с ним Хайдеггер вел знаменитый гераклитовский семинар).
Сюда же относится высказывание Гераклита о вечности: «время/вечность/эон — ребенок играющий в кости: вот царство» (αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων παιδὸς ἡ βασιληίη). Слова «ребенок», «игра» и «кости» по-гречески звучат похоже. Время-эон есть, таким образом, поле свободной галлюцинации.
Смысл игры, иллюзии состоит в том, что любая данность не есть прин-цип, Брахма, единое. Все, что есть, есть не что иное, как галлюцинация. Мир — это поле блуждания. Holzwege. И не может быть ничем иным, и ни при каких обстоятельствах. Если бы мир и первоначало совпадали бы, то все было бы «серьезно» и «строго». Истина была бы дана вместе с реальностью, и для игры не оставалось бы места.
Важно, что в адвайта-веданте, как и в неоплатонизме, качественно и радикально трансформируется субъект иллюзии. Это более не человек/субъект, галлюцинирующий (случайно, как в Модерне и в психиатрии, или систематически, как в строгом креационистском монотеизме) относительно объекта, но сам мир теперь и есть галлюцинация, причем без автора. Сам принцип, конечно, не заблуждается относительно мира. Но он силовым образом выпрастывает галлюцинацию как единственно возможное наличие, отсутствуя в ней сам, поскольку, будучи реальным (истинным, единым) не может присутствовать в иллюзорном (ложном, множественном). Галлюцинация становится безавторской. Галлюцинацией просто. Галлюцинацией без субъекта.
Человек в этом случае становится существом, принадлежащим сфере галлюцинации. Он не просто сам галлюцинация (хотя до некоторой степени это и так), он выступает как наблюдатель галлюцинации, ее зритель по преимуществу, созерцательно, и как ее ось. Его природа есть галлюцинация, но он не просто созерцает ее, он есть она в ее наиболее концентрированной форме. Человек есть обманутое и обманываемое существо. Человек блуждает, т. е. бродит и бредит. Он есть, поэтому, странник, путник по преимуществу. Он — сновидец и грезовидец. И в грезах он созерцает игру.
Селин в эпиграфе к «Путешествию на край ночи» пишет: «Tout est imaginé. Littre le dit qui ne se trompe jamais». «Все воображаемо. Это сказал Литтре, который никогда не обманывается».
Человек есть существо спящее.
В шиваизме и Тантре есть разные взгляды на природу майи (т. е. иллюзии/игры/галлюцинации): полярный двойственный взгляд и недвойственный (абхеда-майя или даже адвайта-майя и бхеда-майя). Школа недвойст-венной майи утверждает: майя не есть Брахма (на чем останавливается школа бхеда-майи или двайта-майи), но и не есть не-Брахма. То есть, все, что дано, это только и исключительно майя, а то, что вне ее, не есть как нечто иное (но сопоставимое), но как не нечто иное (то есть она сама, только не она сама). Тут, признают сами адвайтисты, действие ума завершается. Начинается действие безумия, т. е. вступает в дело «догматическая иррациональность» (Ж. Парвулеско).
У неоплатоников, в целом воспроизводящих сходную с адвайтистской диалектическую модель, основные разделы трудов часто называются апориями, т. е. «тупиками», «парадоксами», неразрешимыми для логического рассудка преградами. Сами платоники не стремятся разрешить их логически, но работают с апориями как привычными концептами, инструментализируя тем самым безумие, превращая его в метод. Примером такой инструментализации может выступать понятие επιβολή, введенное Проклом и обычно переводимое как интуиция или интеллектуальная интуиция. В этой операции επιβολή совпадают обе фундаментальные линии структуры неоплатонического познания: επιστροϕή и πρόοδος сливаются в нерасторжимом синтезе. То есть исхождение (из единого), πρόοδος и возвращение (к нему) επιστροϕή мыслятся недуально, одновременно и синхронно. Это снова Гераклит: «путь вверх вниз — один и тот же». При этом исходящее и возвращающееся в процессе επιβολή, меняясь, сохраняются неизменными, и также строго неизменным остается то, откуда они исходят и куда возвращаются (μονή). При этом возврат к неизменности (μονή) не отменяет момента выхода, а возвращающееся никогда не сливается с тем, откуда оно изошло, т. е. все три момента сосуществуют, и постоянство (μονή относится не только к Первоначалу, но и к тому, что от него произошло (на этом основывается неоплатоническая убежденнсть в вечности мира).
Все это дано в одном емком термине επιβολή, составляющем недуальную сущность космической галлюцинации в целом.
Недуальная галлюцинация Тантр
Недуальный подход к природе галлюцинации характерен для некоторых направлений шиваизма и особенно для Тантр. Тантрики игнорируют запреты, институционализируют практики трансгрессии как раз потому, что недуальность отождествляет разрешенное и запрещенное, правильное и неправильное, темное и светлое. Все космические оппозиции суть только игра, и тот, кто распознает сущность этой игры, способен играть в нее не по относительным, но по абсолютным правилам, т. е. вообще без правил. Тантрическая теория панчамакара, доктрина пяти «м», разрешающая и предписывающая то, что запрещено в классическом индуизме, яркий пример такой недуальности. Правилом становится здесь нарушение правил. Так структурируется «недуальная галлюцинация», выражаемая санскритской формулой neti neti, ни то, ни это.
Крайние формы эта традиция перевертывания норм приобрела в шиваитских сектах капаликов и агхори, которые спроецировали принцип недуальной галлюцинации на крайние формы поведения.
Тантра в ее строго шиваитско-адвайтистской версии — это параллельный срез индуистского общества. Более того, не только индуистского, но и буддистского, и даже, в Китае, конфуцианского (чань-буддизм в альянсе с даосизмом). Эксклюзивистским и поэтому дуальным иерархиям добавляется инклюзивистская адвайта-галлюциногенность Тантр.
Показательно, что индусы о себе говорят: «на публике мы вайшнавы, в семье шайвы, в тайне шакты». Нечто сходное говорят о самих себе и китайцы: «Днем мы конфуцианцы, ночью — даосы».
Если адвайта-ведантизм видит майю недуально, то какова позиция двайта-ведантизма? Теоретически мы ожидали бы увидеть дуалистическую картину в духе иранской религии или гностицизма. Внимательное рассмотрение этой темы, однако, приводит нас к иному выводу. Двайта-веданта полнее всего представлена в учении Мадхвачарьи (1238–1317). Согласно ему, между природой Бога и природой мира наличествует непроходимая и не снимаемая ни при каких обстоятельствах преграда. Высшее Божество, Вишну, представляет собой Верховную Личность, а окружающие его боги выступают как его помощники. Человеческие и нечеловеческие души, проявленные в космосе, никогда и ни при каких обстоятельствах не могут стать тождественными Вишну. Творению (созданному из ничто) остается только славить и почитать Творца на расстоянии. Вселенная и все, что в ней, смертна. Бессмертен только Бог. При этом все души имеют свое предназначение (предестинацию) и не могут исправить свою участь, на которую они обречены изначально, замыслом Вишну. Людям остается только девоциональный путь (бхакти-йога), любить и почитать верховное Божество, соблюдать установленный им закон и смиренно надеяться на то, что судьба окажется к ним благосклонной.
По всем основным онтологическим и теологическим моментам двайта-ведантизм (являющийся одним из главных направлений вишнуизма) прямо противоположен адвайта-ведантизму (шиваизму, шактизму и тантризму).
Все эти особенности двайта-ведантизма показывают, что мы имеем дело отнюдь не с дуализмом иранского или гностического типа, но с прямым аналогом строго креационистского монотеизма. То, что индусы трактуют это как «двайту», т. е. дуализм, в высшей степени показательно.
Политический тантризм и онтология мандалы
Иерархия тантрической цепи (каула) представляет собой параллельную иерархию, трансверсальную по отношению в обычному кастовому устрой-ству индуистского общества (брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры). Эта иерар-хия состоит из трех степеней — дивья, вирья и пашу, которым соответ-ствуют уровни освоения тантрической доктрины: пашу (буквально, скот) знают внешнюю сторону, вирья (герои) реализуют ее в себе частично, дивья (боги) — воплощают полностью, доходя подчас до высшего уровня дживанмукти (освобожденных при жизни).
Обычные касты предопределяют социально-политическую структуру индуизма в целом. Параллельная иерархия тантриков, чаще всего, напрямую в политику не вмешивается, оставаясь на уровне духовных йогических практик. Политическое измерение Тантр проявлено слабо или вообще отсутствует. Оно явно дает о себе знать лишь в случае особого тантрического посвящения в Императоры[246], как своего рода исключение, но чрезвычайно показательное исключение.
Царем в индуистском обществе является раджа, представитель касты кшатриев (воинов). Он проходит особое королевское посвящение, где участ-вуют брахманы. Посвящение в статус тантрического Императора (чакравартин) не отменяет и не заменяет собой посвящения в раджу, но накладывается на него. Тантрическим императором может стать только раджа, но далеко не всякий раджа такое посвящение получает. Для того чтобы осуществить такое посвящение, раджа должен стать членом каулы, и дать его могут только те брахманы, которые также являются членами каулы и достигают в ней высших степеней.
Тантрический император отличается от раджей кшатриев качественно. Его власть недуальна. Он и есть, и не есть сам Брахман. Его джива — Ишвара. Для него мантра «таттвама си» (ты есть То) буквальна. Он замыкает в себе и собой трансцендентное Начало и Майю и становится прямым воплощением царя Шамбалы, правителя Калачакры. Шамбала в тантризме представляет собой индуистский аналог Платонополиса, идеального государства, а чакравартин — прямой Политический тантризм, строящийся вокруг тантрического императора, оперирует с концептом мандалы[247].
Мандала (колам) есть фигура недуальности, где в центре находится божественная чета — Шива с его Шакти, а вокруг них концентрическими кругами расходятся мировые области. Мир, таким образом, есть продолжение Шакти (женской ипостаси) Бога. Не сам он, но и не не-сам он. В этом диалектический парадокс метафизики женщины, особенно развитый в шаваизме и шактизме, хотя он присутствует и в индуизме в целом (включая вишнуизм). Мужчина считается полюсом идентичности, он есть тот, кто есть. Поэтому его фигура замещает собой Бога. Мужчина в отношении земного мира подобен Богу в отношении мира вообще. Но что в таком случае женщина? Она не мужчина, но и не просто мир. Она нечто промежуточное, двусмысленное, относящееся одновременно к двум природам. Перед лицом мужчины она ближе к нечеловеческим существам и вещам (по крайней мере, так в патриархальных обществах). Но перед лицом этих нечеловеческих существ и вещей она выступает как носитель человеческого (разумного, активного) начала.
Так и на трансцендентном уровне: Бог есть бытие и начало. А его Шакти есть и он и не-он, и не совсем он и не совсем не-он. Она есть Вселенная, но не такая, какой она выглядит при признании полной трансцендентности Бога, другой, нежели Бог. Однако при этом она не тождественна Богу, отлична от него, но не т. к. отличен мир или лишь подобно тому, как отличен мир. Поэтому Шакти (у Шивы это Дурга, Парвати, Кали) и есть майя, божественная галлюцинация, ткань великой игры. Ее мощь абсолютна, она пронизывает все. Она и есть все, но не совпадает со всем. Это имманентный аспект Божества.
Тантрики призывают мыслить Шакти недуально. Это и иллюзия (часто кровавая и страшная), но она же и пробуждение, истина, в конце концов, сам Бог. Она несет одновременно и смерть и жизнь, и рабство и освобождение, и Бога и иного, чем Бог.
Поэтому все пространство мандалы есть поле игры Шакти, исходящей из центра, где она соединена в объятиях с Шивой, и достигающей внешних границ, где она рассеивается в множественности материальных враждующих друг с другом вещей, приобретая зловещий, кровавый и демонический характер. Такова для тантриков истинная картина мира, который и есть вселенская мандала.
Посвящение в тантрического императора (чакраварти) представляет собой создание мандалы. Это утверждение реальной карты иллюзорного мира, или, что одно и то же, учреждение онтологической силовой иллюзии как растворителя тяжелого реального мира. Именно поэтому Гераклит говорил в отрывке об игре и времени «παιδὸς ἡ βασιληίη». «Играющему ребенку — цар-ство». Политика становится в таком случае полем духовного силового космоса, организованного по принципу тантрической игры, областью освободительной онтологии. Государство как и сам феноменальный мир есть ограничение, постановка пределов — правил, иерархий, обязанностей, законов, подчинений, своего рода онтологическая тюрьма, расширенный концентрационный лагерь. Но таким оно является только с одной стороны; с другой стороны, это рабство внутри порядка есть изнанка абсолютной свободы духа, эфемерный продукт его игры, т. е. собственно галлюцинация, иллюзия. Когда шиваиты, йогины, тантрики следуют исключительно путем духовной реализации, они отдают Кесарю — кесарево, а Богу — божие, т. е. исправно исполняют нормативы индуистского общества, а в рамках каулы осуществляют обряды и практики освобождения. Когда тантризм приобретает политическое измерение и государство превращается в тантрическую мандалу, а раджа — в царя Шамбалы, то номинально закрепощающая политика становится недуальным инструментом освобождения, политика — священным обрядом, а общество — интенсивной гальванизированной экстатической тканью, волнующейся насыщенной неистовой энергией Шакти.
В буддизме Тибета с этим связан ритуал Калачакры — тантрический и имперский одновременно (Далай-лама является господином мандалы и воплощением чакравартина). Кукай, основатель дзэн-буддистской школы Шингон, принес политический тантризм и в императорский ритуал Японии. Тантрическое королевское посвящение было известно в Непале и Корее. Учение о сакральном императоре и его сотериологической и космологической функции составляет важнейшую часть китайской традиции. Здесь показателен обряд перемещения китайского императора от сезона к сезону по четырем отсекам императорского дворца Мин Тань, что функционально повторяет ритуальный объезд тантрическим императором Индии провинций своего государства-мандалы с эвентуальными стычками с «варварскими» народами (претами, духами), живущими на границе. Тантрический смысл можно обнаружить и в ритуальной смене им многочисленных наложниц, символически воплощающих различные моменты годового цикла — по числу дней в году или лунных фаз. Царские иерогамии древнего Вавилона, вероятно, имели тот же сакральный смысл.
Показательно, что тантризм (в том числе и политический) не ограничен зоной распространения «хиндутвы» (то есть Индией, Непалом и т. д.). Он захватывает весь ареал распространения буддизма и Китай. Более того, он проникает в исмаилизм (по крайней мере, в Индии). Следует выяснить, нет ли здесь пересечений с некоторыми суфийскими тарикатами (например, маламатья).
Тантрики представляют собой «тайное общество священной галлюцинации». Если они посвящают властителей в политическую Тантру, они лояльны такой политической системе. Если нет, то в некоторых случаях они могут стать основой радикальной политической альтернативы, т. е. носителями «имманентной революции»[248], хотя эта тема еще слишком мало исследована, чтобы делать какие-то обобщающие выводы о реальности подобных революционных обществ тантрического типа.
Конец Света и конец иллюзии
Рене Генон заканчивает свою программную книгу «Царство количества и знаки времени»[249] словами: «конец света есть не что иное, как конец иллюзии». Это значит, что свет (мир) есть иллюзия. В каком смысле мы можем говорить об иллюзорности мира, мы в общих чертах разобрали. Но это значит, что иллюзия может кончиться?
Для того, чтобы иллюзия могла уступить место не-иллюзии, не иллюзия должна иметь возможность существовать; т. е. должно быть нечто, что было бы истиной, а не притворством; серьезностью, а не игрой; Шивой, а не Шакти; единым, а не единым многим. Для этого необходима пара иллюзия/не-иллюзия, где оба термина взяты как самостоятельные и рядоположенные, т. е. истолкованные дуально. Необходимо допустить, что может существовать мир, который был бы не-иллюзорным. Только тогда, мы можем утверждать, что иллюзия рано или поздно закончится и начнется не-иллюзия. С точки зрения адвайта-галлюцинации с этим-то как раз и возникает проблема.
Все, что будет существовать, чтобы существовать, и быть зафиксированным кем-то как существующее (чтобы тайное сокровище стало явным) должно быть двойственным, с множественностью, свернуто наличествующей в этой двойственности, а значит, это будет не чем иным, как иллюзией. Человек и мир могут быть только фигурами игры. Время само по себе либо заблуждение, блуждание, если угодно, блуд, Holzwege, обман, уклонение, либо его нет вообще. Конец света должен стать концом времени (как у нас, христиан), либо ничего никогда не кончится, и иллюзия будет вечной. Мир, сон, обман и галлюцинация — это строго одно и то же. Все юги суть кали-юга, все юги — игры Кали, Времени. Кали-юга не имеет начала онтологически, она имеет начало гносеологически.
Кали-юга начинается тогда, когда мы замечаем, что что-то не так. То есть когда мы гносеологически взрослеем и начинаем догадываться, что вокруг что-то не то… Кали-юга — это все та же юга, что и раньше, только вспоротая подозрением, потревоженная страшной догадкой… Мир становится адом, близится к концу, когда мы начинаем догадываться о его галлюцинативной природе, когда галлюцинация становится отрефлектированной, обнаруженной. Евгений Головин говорил об этом так: «Там, где мы, там центр ада». Мир близится к концу и обретает черты ада, когда мы пробуждаемся ото сна, т. е. когда мы начинаем воспринимать галлюцинацию как галлюцинацию. Поэтому мы интуитивно и называем конец времен — Апокалипсисом, т. е. «откровением», «обнаружением». Мир закончится тогда, когда мы прекратим бредить, блуждать, бродить не осознанно, и начнем делать то же самое с глубоким трагическим и ужасающим, потрясающим сами основы мира осознанием.
Переставая быть обманутыми, мы перестаем быть людьми. Мы понимаем, что наша человечность — игра, равно как игра — мир.
Конец света, понятый недуально, таким образом, есть момент пробуждения и реализации Высшего Тождества.
Как только мы постигаем, что галлюцинация — это галлюцинация, она рассеивается. Поля для игры больше нет. Осознавая, что мы бредим, мы не станем бредить дальше.
Это и есть момент появления Царя Мира, обнаружение тантрической мандалы, развертывание эсхатологической империи конца, которая есть внутри нас. Царь Мира — гость изнутри.
Но… Если не будет иллюзии, то не будет ничего. И само Первоначало, не желая не-истины и будучи истиной, допускает галлюцинацию. Без галлюцинации, в конце концов, не будет и неприкосновенного, незапятнанного, девственного бытия истины — и Богом некому будет восхититься и некому восславить Его из глубины.
Поэтому конец иллюзии и соответственно, конец мира, может быть только мгновенной вспышкой осознания, внутренний переворот отношения к происходящему вокруг и… еще один шаг вперед.
Когда ты идешь в ночной тишине
сквозь бездорожье ада, —
в черных ветвях, в красной луне, —
оглядываться не надо.
(Е. Головин)
Недуальная галлюцинация и Новая Метафизика
Новая Метафизика, осторожно нащупываемая философами Москов-ской школы (Ю. Мамлеев, Е. Головин, ранний Г. Джемаль[250]), изначально имела заостренно эсхатологический смысл. Она была целиком сосредоточена вокруг ключевого момента Конца Света. Она развертывается вокруг точки Конца как наиболее семантически нагруженного момента сакральной истории и кульминации космического цикла. То, что происходит в Конец Света и то, чем является Конец Света, столь же важно (если не важнее!), чем его Творение и вся мировая история, зависшая между этими двумя полюсами качественного времени. Только сейчас драма бытия получает свое разрешение. Мы стоим вплотную к точке Конца, но Конца чего? Какого Конца? Почему Конца? А что было в Начале?
Новая Метафизика трактует Конец Света, его символизм, его феноменологию и его семантику в особом ключе, несколько отличающемся как от классических религий, так и от традиционалистов школы Рене Генона, хотя оперирует с терминологиями и концептами и тех и других.
В центре Новой Метафизики стоит фигура Радикального Субъекта[251]. Эта фигура отличается от классических фигур метафизики и теологии. Это не Бог, не человек, не дух, не концепт, не конструкт, не Dasein Хайдеггера. Он ближе всего к парадоксальному определению Ф. Ницше: «Сверхчеловек есть победитель Бога и ничто», но если Радикальный Субъект и соотносится как-то с образом Сверхчеловека, то в совершенно ином понимании, чем большинство его общепринятых трактовок, начиная с трактовки Хайдеггера и конкретно, именно в том определении, какое мы только что привели. Радикальный Субъект не принадлежит ни к одной из обобщающих парадигм — Премодерн, Модерн, Постмодерн. Он занимает в них всякий раз особое место, но не определяется ими и не зависит от них[252]. В отличие от Бога он всегда имманентен миру (даже тогда, когда этого мира нет). Но, в отличие от человека, он не подвержен изменениям космической среды, т. е. не меняется вместе со временем, постоянно оставаясь одним и тем же. Он вечен, но не Бог. Он имманентен, но не человек. Он во времени, но не тронут им. Он дистанцирован от золотого века и от железного, его не касаются взлеты и падения феноменального космоса, то приближающегося к своему небесному архетипу, то удаляющегося от него и сходящего с колеи, пускаясь в разнос. Ему одинаково в аду и в раю. Но в точке Конца он оживляется. Ему становится по-настоящему интересно…
Относительно нашей темы можно сформулировать следующее:
• Радикальный Субъект знает об иллюзорности иллюзии и галлюцинативности галлюцинации изначально, всегда;
• Радикальный Субъект не обманывается и не заблуждается, он не блуждает (даже странствуя и гуляя по тропинкам, которые не ведут никуда);
• Радикальный Субъект всегда находится в центре политической мандалы даже тогда, когда кажется, что он находится на периферии или вообще скрывается из виду;
• Радикальный Субъект не ждет Конца Света как конца иллюзии, т. к. понимает, что без иллюзии ничего не будет (кроме новой иллюзии), а он не уверен, что это цель — устроить оперативно маха-пралайю и окунуться (поскорее) в ночь Брахмы;
• ведь Радикальный Субъект внутренне понимает, что как бы то ни было, «Тайное Сокровище» может снова захотеть стать познанным и всегда хочет этого, т. к. в Боге нет времени, а результат будет неизменно таким же (все дороги ведут в ад);
• поэтому Радикальный Субъект всегда здесь, чтобы познать это «Тайное Сокровище», но и для того чтобы быть Другим по отношению к Нему;
• в Конце Времен Радикальный Субъект чувствует себя «веселее», чем когда-то и где-то еще;
• Радикальный Субъект знает не только об иллюзорности иллюзии, но и о ее недуальной природе, т. е. о ее специфической абсолютности;
• осознавая галлюцинативность галлюцинации, Радикальный Субъект не бежит от нее и не стремится ее развеять, Он признает ее, оставаясь там же, где Он есть;
• более того, Радикальный Субъект делает еще один шаг в сторону имманентного, вниз по лестнице, приведшей вниз (Ему интересно — что там?);
• для Радикального Субъекта мир конечен, но галлюцинация бесконечна;
• это создает некоторую проблему: Радикальный Субъект оказывается играющим в игре, в которой отсутствует игрок.
Где-то в этой трехмерной (фрактальной) плоскости лежит развитие нашего предложения «помыслить Постмодерн недуально»[253]…
Глава 19 Преодоление Модерна с опорой на философию дзэн (о Киотской школе Китаро Нисиды)
Возможность иной философии
Возможна ли иная философия, нежели та, что сложилась на Западе? Задать этот вопрос все равно, что спросить, возможен ли иной Логос, чем тот, который мы знаем из западной философии?
А на этот вопрос можно дать два принципиальных ответа. Первый: нет. Западный Логос универсален, и в том, что он был обнаружен на Западе и стал основой западной культуры, следует видеть историко-географическое обстоятельство провиденциального толка: раз Логос открылся на Западе и раз он универсален для всего человечества, то это надо принять как факт, и, по-стигая Логос, постигать Запад. Только такое постижение и будет движением к универсальности, путем к философии любого общества (как западного, так и незападного). Такой позиции по умолчанию традиционно придерживались практически все представители западной культуры — и в ХХ веке именно это эксплицитно утверждали Гуссерль и Хайдеггер.
Второй ответ: да, иная, незападная философия возможна, и Логос, открытый Западом, есть только один из возможных Логосов; наряду с западным Логосом может существовать и иной, не-западный, а точнее, иные, не-западные Логосы. Второй ответ постепенно складывался по мере знакомства с западной культурой представителей незападных обществ с древними и самобытными культурами, преимущественно в ХХ веке, по мере того, как они, зачастую вынужденно, через опыт колонизации/деколонизации) приходили в тесное соприкосновение с Европой и ее культурными, социальными, политическими, идеологическими, научными, религиозными и экономическими практиками. Кроме того, на самом Западе ряд антропологов, этнологов и социологов пришли к такому же выводу (Ф. Боас, Л. Фробениус, К. Леви-Стросс, Л. Дюмон и т. д.).
В разных странах эту проблему решали разные круги по-разному. Сейчас мы обратимся к опыту Японии и тому течению японской философии ХХ века, которое занимает однозначную позицию по вопросу о том, что незападный Логос возможен, и пытается обосновать это своей философской практикой. Мы имеем в виду Киотскую школу (京‘学덖Ô, Kyōto-gakuha), основанную крупнейшим японским философом Китаро Нисидой и представленную внушительной плеядой его последователей: Хадзимэ Танабэ, Кэйдзи Ниситани, Сидзутеру Уэда и т. д. Близок к этому кругу был и знаменитый популяризатор дзэн-буддизма на Западе Дайсэцу Тэйтаро Судзуки.
Нисида: философ-западник или философский патриот?
Китаро Нисида (1870–1945) считается крупнейшим философом Японии ХХ века и в определенном смысле олицетворяет собой современную япон-скую философию в ее основных узловых и силовых моментах. Нисида в юности принадлежал к группе учеников, изучающих практики дзэн-буддизма у традиционных мастеров и достиг на этом пути, по признанию учителей, высоких результатов. Традиционная японская философия дзэн-буддизма сформировала культурную основу его мышления. Его развитие в этой области шло параллельно с его другом Тэйтаро Судзуки (1870–1966), который, в отличие от Нисиды, так и остался верен до самого конца классическому пути дзэн-буддистской философии в ее ортодоксальной форме. Единственно, Судзуки поставил своей целью познакомить с японской духовной и религиозной традицией Запад. Для этого он искал способы передать концепции дзэна наиболее адекватными терминами, образами и философскими приемами, чтобы они стали (пусть относительно) понятны западному человеку. Но Судзуки не ставил перед собой цель понять Запад. Он излагал не-западную, японскую философию и был озабочен только тем, чтобы сделать это наиболее эффективно и убедительно. Запад не был для него вызовом, он лишь пользовался его лексикой для изложения своей, отечественной традиционной школы мысли (точнее, одной из нескольких японских школ философии).
Путь Китаро Нисиды был иным. После углубленного знакомства с философией и практикой дзэн-буддизма Нисида испытал чувство неудовлетворенности; целый ряд стоявших перед ним вопросов остался без ответа. И он обратился в поисках этих ответов к западному Логосу, рассчитывая найти их в нем. Результатом этого поворота стало фундаментальное знакомство Нисиды с западной философией, в первую очередь, с гносеологией Канта и феноменологией Гуссерля, но т. к. это было вершиной западноевропейской традиции, то для ее корректного усвоения требовалось углубление в корни западной философской мысли — вплоть до досократиков, Платона и Аристотеля, и путь оттуда в Новое время — к Гегелю и Ницше. Встав на этот путь, Нисида проделал колоссальную работу по японскому осмыслению западной философии, осуществил впервые перевод основных ее терминов и понятий, изложил на японском языке и для японского общества ее базовые теории, столь радикально отличающиеся практически во всех вопросах от японского образа мысли. В этом смысле Нисиду можно рассматривать как японского «западника»: ведь его задачей было понять Запад и познакомить с Западом в его сущностном философском зерне японское общество первой половины ХХ века, которое на других (более прагматических) уровнях входило с Западом во все более и более тесное соприкосновение. Однако по мере осуществления своей философской миссии Нисида пришел в конце концов к выводу, существенно отличающемуся от того, который мы могли бы ожидать от последовательного западника. Пройдя основные моменты западной философии вместе с великими мыслителями Европы, отмечающими принципиальные вехи ее истории, и выстроив коммуникативную матрицу между системами западных смыслов и японскими структурами мышления, Нисида обнаружил, что открывшийся ему Логос, несмотря на его претензии на универсальность, универсальным не является, и у него могут быть и есть альтернативы, и что на современном этапе западной философии сам этот Логос переживает катастрофу, от которой либо надо дистанцироваться, либо попытаться ее преодолеть через обращение к не-западным источникам. Одним из таких источников Нисида назвал японскую дзэн-буддистскую философию, которую он осваивал в юности и в которой немало преуспел. Таким образом, Нисида проделал круг — от японской философии через знакомство с философией Запада вновь к японскому дзэн. Этот путь никак нельзя понимать как уход и возвращение. На первом этапе Нисида знал только японскую философию. Он не был убежден, что она универсальна, и это заставило его обратиться к философии Запада. Теперь он мог сравнивать: с одной стороны — философия дзэн, теоретически согласная с тем, что является локальной (ведь в самой Японии существовали и иные философские течения — конфуцианское, синтоистское и т. д., а также целый набор философских течений внутри самого буддизма[254]), а с другой — западная философия, настаивающая на своей универсальности и единственности своего Логоса. Пойдя навстречу западоцентричной претензии (именно пойдя навстречу, а не сопротивляясь ей) на универсализм, Нисида после длительного и фундаментального взвешивания всех аргументов (результатом чего, помимо всего прочего, явилось масштабное ознакомление японцев с философской традицией Запада) убедился, что эта претензия несостоятельна, и что существуют различные альтернативные и рядоположенные формы Логоса. В качестве иллюстрации он снова обратился к дзэн-буддизму, но изложил его философские принципы в соотнесении с глубинным и прожитым пониманием философии Запада, используя язык обеих традиций и при необходимости создавая новый язык — представляющий собой своеобразный компаративистский синтез.
Здесь можно вспомнить о том, что А.-Ж. Фестюжьер писал о значении путешествий при подготовке к занятиям философией и необходимости знакомства с религиями, культами и воззрениями разных народов, чтобы научиться сопоставлять их между собой и прийти к обобщающей теории[255]. Само такое философское путешествие и называлось «теорией», т. е. «обозрением» (культур для выведения знания того, что является для них общим), и лишь позже учение Платона об идеях позволило совершать это путешествие в уме, восходя напрямую от обобщающего созерцания культур и вещей к интуитивному интеллективному созерцанию парадигмы. Аналогично этому можно сказать, что Нисида попытался построить модель, обобщающую как минимум две философские традиции: западноевропейскую и японскую, дзэн-буддистскую, в результате чего он стремился выйти на уровень мета-Логоса, т. е. такой теории, которая могла бы включать в себя различные издания Логоса, не отдавая права на эксклюзивность ни одной из его версий (в первую очередь, европейской, поскольку она на этом настаивала более других). Так, из западника Нисида превратился в последовательного противника западного универсализма, философского патриота.
Эта диалектика философского пути Китаро Нисиды и всей созданной им Киотской школы стала основой страстных дебатов о том, была ли она «западнической» или «националистической». Такая постановка вопроса вполне объяснима, если судить по поверхностной стороне вещей и рассматривать «западничество» и «японский патриотизм» как рядоположенные антитезы. Но вместе с тем это значит вообще ничего не понимать в главном моменте философии Нисиды и его школы; он ставил перед собой задачу не просто перейти на сторону Запада или отстоять японскую самобытность, но выйти на тот уровень, где можно увидеть Логос в его первоначальном и подлинно универсальном виде, по ту сторону как региональной локальности, так и неоправданных претензий на эксклюзивность. Нисида пытался осуществить нечто аналогичное тому, чему положила начало Академия Платона, обобщающая верования, мифы и философские теории средиземноморских культур, но только в ином историческом, религиозном и философско-географическом контексте. Для нас не столь важно, удалось ли это Нисиде и Киотской школе или не удалось. По-настоящему значимым было то, что эта цель была поставлена, и на пути к ней великими японскими мыслителями современности была проделана колоссальная и ценнейшая сама по себе философская работа.
Дзэн-буддистский бэкграунд Киотской школы
В основе философской базы Нисиды лежит традиция японского дзэн-буддизма. Термин «дзэн» передает китайское «чань», в свою очередь представляющее собой искаженное санскритское слово «дхьяна», т. е. «медитация», «размышление». В своей этимологии, таким образом, это направление предполагает реализацию религиозной цели (достижение состояния просвещения, буддхи, японское сатори) через размышление, причем исключительно через размышление. Вполне можно сказать, что это направление в буддизме является наиболее философским, сопряженным со стихией систематизированной мысли. Однако то, как предлагает мыслить традиция дзэн, требует некоторых пояснений.
В основе траектории пути дзэн лежат базовые принципы буддизма Махаяны (Большая колесница) вкупе с элементами Ваджраяны (буддистского тантризма). Буддизм утверждает, что мир представляет собой поток дхарм (элементов), составляющий колесо сансары (космической иллюзии), в котором вращаются боги, люди, существа и иные предметы. Колесо сансары пронизано страданием (в разной степени), порожденным невежеством. Охваченные сансарой существа (включая богов) не знают о том, что основой сансары является всемирная пустота (санскр. шуньята, яп. му). Это невежество относительно пустоты заставляет их быть пленниками череды воплощений — испытывать иллюзию реальности, наличия, «я», непрерывности, времени, рождения и смерти и т. д. Есть путь избежать колеса сансары и связанных с ней страданий. Это путь просветления или пробуждения (буддхи). Он указан историческим царевичем Гаутамой, который сподобился пробуждения сам и стал Буддой, открыв затем путь спасения всем остальным. Спасение от сансары можно стяжать через пробуждение. Пробуждение есть осознание пустоты (шуньята) как сущности сансары, т. е. опознание сансары как иллюзии, скрывающей под собой пустоту. Осознание пустотности сансары позволяет выйти за ее пределы и достичь нирваны. Это и есть состояние Будды. Будда покидает сансару. Но иногда он возвращается в нее (бодхисаттва), чтобы помочь всем идущим по пути спастись. Задача любого буддиста — достичь пробуждения и просветления, познания пустотности бытия и выход за пределы сансары в нирвану.
Дзэн-буддизм ставит в центре своей доктрины просветление (сатори) и предлагает для его достижения серию практик, призванных продемонстрировать пустотность мира наглядно. Это делается с помощью специальных медитаций и, особенно, с помощью коанов, особых формул, призванных разрушить структуры логического мышления и вызвать эффект «короткого замыкания» сознания, ведущего к сатори. Логическое мышление и рациональное восприятие мира и есть инструменты иллюзии, способствующие заточению существ в сансаре. Это иллюзия отдельности «я» и внешнего мира (природы), жизни и смерти, ума и безумия, добра и зла. Коаны призваны разрушить все типы дуальных структур. Примеры знаменитых коанов:
Встретишь Будду — убей Будду;
Две ладони, хлопая, издают звук; что издает одна ладонь?;
Что такое Будда? — Три фунта льна;
Смотри: горы идут!;
Ворота без дверей;
У собаки есть природа Будды? — Ничто;
Не думая о добре и зле, покажи мне твое настоящее лицо, которое у тебя было, когда твои отец и мать еще не родились;
Пока не появилось ни одной мысли: это грех или нет? — Гора Сумеру и т. д.
Одним из основателей эзотерического дзэн-буддизма в Японии считается Кукай (774–835), который получил наставления от китайских и индусских учителей и привез эту традицию в Японию (в том числе он провел по-священие Императора в обряд тантрической политики). Кукай основал старейшую школу Сингон. Основными принципами этой школы были пункты:
1. Достижение просветления (сатори) уже при этой жизни (короткий путь).
2. Смысл звука, слова, действительности.
3. Значение слова hum (ом).
Кукай написал основные труды по дзэн-буддистским практикам, оставил ритуалы и коаны, которые до сих пор являются важнейшими ориентирами в обучении дзэн-буддистских монахов и светскими практикантами дзэна в Японии.
Другой фундаментальной фигурой этой традиции был буддистский монах Доген (1200–1253). Он также посетил Китай, получил наставления у чань-учителей и основал в Киото дзэн-буддистскую школу Сото, основные принципы которой он изложил в труде «Шобогендзо». Доген развил практику «дзадзэн», представляющую собой сидячую медитацию без концентрации на чем бы то ни было внутреннем или внешнем, без цели и без желаний. Такая «простая» практика, согласно Догену, дает немедленное сатори.
Другим важнейшим элементом учения Догена является принцип: нет различия между действием и просветлением, между дзэном и повседневной жизнью. Этот мотив оказал огромное влияние на японскую философию и в целом на японскую культуру. Его смысл состоит в том, чтобы преодолеть любой дуализм между тривиальным и возвышенным, профанным и священным, бессмысленным и осмысленным. Практикуя такое отношение к по-вседневности, монах или любой человек, идущий по пути дзэн, перестает видеть сатори (просветление) как постоянно откладываемую цель, но начинает переживать ее «здесь и сейчас», не как другое по отношению к рутине, а как то же самое. Таким образом, реализуется философское постижение важнейшей буддистской истины: «сущность сансары — шуньята, сущность нирваны — шуньята», т. е. иллюзия мира есть ничто, но ничто есть и основа нирваны, спасения и освобождения; цепи есть инструменты свободы, обыденное есть сущность чудесного; жизнь есть обратная сторона смерти, а смерть — счастья. Согласно Догену, нельзя различать путь и цель пути. Кто так поступает, тот никогда не достигнет цели. Таким образом, с помощью дзадзэна и недуального постижения повседневности пробуждение достигается легко и стремительно.
Философия и практики дзэн получили широкое распространение в Японии. Обзор и пояснения относительно различных школ и течений исчерпывающе даны в работах Тэйтаро Судзуки[256].
Киотская школы Нисиды исходит из той дзэн-буддистской традиции, к которой на новом витке и возвращается.
Ноэзис и культура
Западная философия, которая привлекает Нисиду прежде всего, — это феноменология. И это не случайно. Гуссерль вслед за своим учителем Францем Брентано ставит в центре внимания процесс интенциональности, т. е. того уровня человеческого мышления, который предшествует строго логическому, предваряет его. Интенциональность — это такое движение мысли, которое, будучи направлено на предмет, содержит этот предмет в самом себе как свой внешний предел, но не выходящий за пределы субъективности. В рамках интенционального мышления отсутствует рефлексия относительно того, есть ли предмет, на который направлена мысль, в действительно-сти вне субъекта или его нет, и он только представляется. Гуссерль называет это ноэзисом, а предмет, который воспринимается (до критической проверки и саморефлексии) как существующий вне сознания, но, на самом деле, пока еще принадлежащий сфере сознания, — ноэмой. Ноэма — это то, что человек наивно принимает за вещь, с которой он взаимодействует, хотя на самом деле, это лишь его представление, на которое направлено его внимание (интенциональность). И представление и интенциональность относятся к мыслящему субъекту в его дологической стадии. И лишь перейдя на иной уровень («дианойя» по Гуссерлю), когда сознание эмпирически поверяет наличие предмета за пределами субъекта и фиксирует сам субъект через по-следовательные операции саморефлексии, мы переходим к области логического мышления в полном смысле слова, где действуют все законы логики (Аристотеля и Лейбница).
Это принципиально важный момент: феноменологи выделяют в процессе мышления два этажа: предлогический и логический. Логический уровень, описанный в аристотелевских терминах, но предвосхищенный Платоном и отчасти досократиками, и есть принципиальное достижение западной культуры, построенной на исключительности именно такого Логоса, принятого за универсальный. А вот дологическое мышление, ноэзис, механизмы интенциональности, присущи не только логоцентичной (западной) культуре и философии, но и людям вообще, к какой бы культуре они ни принадлежали.
Нисида явно увидел в описании интенциональности параллели с дзэн-буддизмом и свойственной ему психологией. На этом уровне западная философия (феноменология) и восточная (в частности, буддистская) имеют много общего. Но там, где от ноэзиса осуществляется переход к дианойе, т. е. к логическому мышлению и аристотелевской логике идентичности, возникают проблемы: дзэн-буддистская философия движется по совершенно иному пути, нежели западная. Запад переходит к логике и утверждает, что таков и есть универсальный (всеобщий) Логос, открытый и прекрасно изученный, освоенный на Западе, но только подлежащий полноценному открытию и изучению на «отставшем» от него предлогическом Востоке. А вот с этим-то как раз Нисида и не согласился. Чтобы его несогласие не было голословным или чисто эмоциональным, ему оставалось только одно: построить на общей феноменологической базе особую незападную логику. Он так и поступил, предложив теорию «басе» (場所) или логику мест[257].
Логика басё
Нисида называл логику Запада «логикой вещей», а альтернативную восточную логику (дзэн-буддистскую) — «логикой сердечного ума» («кокоро»). Принципиальным ядром этой альтернативной логики является концепция «басё», что передается понятием «место», τόπος. Однако Нисида понимает «басё», «место», не просто как нечто пространственное, но как структуру отношения А к В. А относится к В не просто, но всегда где-то. Это «где-то» он определяет как С. Логика вещей, основанная на принципе идентичности (аристотелевское правило тождества А=А), игнорирует то, что лежит между А и В, соотнося их между собой напрямую. Нисида настаивает на том, чтобы в любую пару вещей было включено нечто третье — «место», «басё». «Басё» — это то поле, на котором находятся соотносящиеся друг с другом предметы в пространстве, а, следовательно, оно выступает здесь фактором медиации, т. к. это соотношение наличествует не нигде, а где-то. Это где-то «опосредует» (от слова «среда, середина») их отношение друг к другу — хотя бы потому, что оба они находятся «здесь». Далее этот принцип переносится на цвет: красное и синее соотносятся между сбой в «месте» цвета, которое и является их средой, а следовательно, медиацией. Предметы, таким образом, связаны друг с другом при посредстве особых пространственных сечений, каждое из которых добавляет свою среду, свое басё, выступая как С. Поэтому сложное А соотносится со сложным В (два предмета имеющие ряд свойств) через столь же сложное С (басё).
Следующий шаг — спроецировать это на уровень сознания. Сознание есть не что иное как С, в котором осуществляется медиация субъекта и объекта. То есть сознание есть сложный топос, место, пространство, басё. Такой подход, впрочем, несмотря на экстравагантную терминологию, вполне может быть соотнесен с Кантом и неокантианцами, а также с ноэзисом (ноэтика и ноэматика) феноменологов.
Очень важно, что Нисида вводит «басё» с эксплицитным указанием на платоновскую хору (χώρα), «пространство», «место», третье начало в космологии «Тимея», только приобретающее у Нисиды совершенно иное значение, нежели в структуре платоновского Логоса. Платон лишает хору, пространство, качественного содержания, что позволяет отождествить этот концепт с ὔλή Аристотеля и материей. С точки зрения Логоса, хора и есть нечто, лишенное качества. Но так дело обстоит только в модели дуальной логики и привативных оппозиций: материя не есть ни оригинал (парадигма), ни копия (икона); значит, она лишена свойств, не есть. Но в недуальном подходе Нисиды, основанном на дисциплине дзэн-буддистских коанов, место как раз есть, и более того, оно первично по отношению к тому, что в нем находится. Место как отношение конституирует то, что выступает предметом отношений. Так, стол конституирует нахождение на нем чайника и тарелки; цвет — наличие красного и синего; звук — гармонию или контраст ноты и молчания. Когда хора становится басё, осуществляется переворот в глубинной структуре Логоса. Платоновский аполлонический Логос дублируется иным, выплывающим из ночи темным Логосом, который у Нисиды описывается как «Логос места».
Вся острота проводимой Нисидой философской операции обнаруживается тогда, когда он подходит к границам кантианского или феноменологического описания, где пространственную парадигму басё еще можно было бы соотнести с «полем сознания». Но Нисида задается вопросом: как выстроить на основании логики басё иную пару отношений — на сей раз между субъектом (или точнее полем сознания) и объектом, расположенными вне этого поля. Между ними нет той медиации места, того С, которое наличествовало ранее между любыми соотносимыми вещами и явлениями, а также свойствами и признаками. Эта дуальность настолько фундаментальна, что не может быть снята и преодолена никакими известными методами медиации. В этом-то и состоит кантовская проблема ноумена и гуссерлевская тематизация дианойи, приведшая его на последнем этапе к постулированию «трансцендентального эго» (что категорически отказывался принять Хайдеггер, до определенного момента в аналитике Dasein'а, следовавший за Гуссерлем). Здесь необходимо особое место.
Это особое место Нисида называет местом «абсолютного ничто», «zettai mu». Оба термина требуют толкования. Во-первых, японское «zettai», «абсолютное», в духе дзэн-буддистской философии трактуется как то, что не противостоит относительному (sotai), но включает его в себя, не исключая. Такое включение предполагает, что относительное не отрывается от абсолютного, но проявляет его частично, но так, что, уловив в относительном блик абсолютного и схватившись за него, мы можем обнаружить все абсолютное целиком, при этом так, чтобы не разрушить относительность относительного. Это и есть сатори, постигаемое в практике дзадзэн. Поэтому то, что названо абсолютным, не исключает конкретности, но включает ее.
Теперь ничто, «mu», китайское «wu». Этот термин тоже имеет мало общего с привативным западным концептом «ничто» или «небытия», получаемым через операцию устранения умозрительного всего или нечто. Японское mu — это буддистская шуньята, пустота, которая есть тайная подоплека сансары, которая снова должна мыслиться недуально: как источник порабощения и иллюзорности и как путь к постижению истины, просветлению, блаженству и нирване. Таким образом, «абсолютное ничто» есть понятие особой недуальной сотериологической онтологии, данной как вспышка, как момент короткого замыкания. Локализация этого момента пробуждения в особом басе, самом исчерпывающем среди всех остальных басе, включающем в себя их все, и установится у Нисиды решением дуализма субъект-объект в недуальной операции, привлекающей для своего осуществления особый Логос, качественно отличный от западного. Сознание и мир опосредуются только «абсолютным ничто» (zettai mu), что на практике означает, что это возможно лишь при обоюдной негации и субъекта и объекта — через их взаимоопустошение и через перенос основного внимания с их идентично-сти на то, что их опосредует, лежит между ними, не являясь ни тем, ни другим, а значит, являясь ничем, абсолютным ничто.
Нисида приближался к этому экстатическому решению и в ранних работах, когда предлагал теорию видения без видящего и видимого, понимания, без понимающего и понимаемого. С становится важнее, чем А и В; хора выступает в новом качестве. В случае последней дуальности между субъектом и объектом хора выступает как фактичность абсолютного небытия.
Нисида описывает эту инстанцию места «абсолютного небытия» как момент, когда существа и вещи приходят к бытию (сущностно и экзистенциально — в дзэн-буддистской онтологии различия между эссенцией и экзистенцией нет, т. к. экзистенция пустотна — шуньята) и исчезают из него. Нисида называет это «самотождеством абсолютного противоречия». Это момент рождения и смерти, понятый недуально. Этому моменту, в котором открывается «абсолютное небытие», противостоит и бытие вещи (жизнь) и ее отсутствие (смерть). Ни жизнь, ни смерть не истинны, истинен только зазор между одним и другим. Это и есть место всех мест, basho zettai mu. Это бездонное дно всего. Ничто, mu как шуньята всегда выражается как двойное движение — как уничтожение и как порождение. Но это двойное движение никогда не тождественно ни сотворенному, ни умерщвленному. Ни живой человек, ни труп не ценны ни в коем случае. И то и другое — заблуждение, сон, сансара, страдание. Важен только сам момент рождения/смерти, вспышка негации, когда ничто отрицает само себя (выпрастывая нечто), и тут же снимает его (уничтожая его как не-ничто). При этом мы имеем дело не с двумя действиями, но с одним — рождение/смерть; это один и тот же момент, зазор, где обнаруживается настоящее место, басё, где можно встретиться с хорой напрямую, а не опосредованно.
Важно, что здесь мы имеем дело не просто с психологическим описанием акта ноэтического познания, но с самой настоящей философией, где из имманентной стихии мышления рождается трансцендентный Логос (идея о несовпадении сознания и реальности), и сам Нисида прекрасно это рефлектирует, говоря о трансцендентности Бога или Будды. Но эта трансцендентность оформляется радикально иначе, нежели в западной философии — эта трансцендентность не порывает с хорой, не удаляется от имманентности на критическую дистанцию, не порождает безысходного дуализма, присущего как холодному монотеизму, так и индуистской двайта-веданте. Эта трансцендентность конститутивна и оперативна, она действует в парадоксальном жесте, воплощаясь в философию сатори — мгновенного озарения «абсолютным ничто», где сердце замыкается на сознание и субъект на объект так, что происходит короткое замыкание.
Согласно Нисиде, абсолют следует искать не по ту сторону вещей, но среди них. Только благодаря «абсолютному ничто», которое находится в центре вещей, «горы суть горы, реки суть реки, все существа суть то, кто они суть»[258]. При этом Нисида явно имеет в виду традиционный коан: «Посмотри на эти горы, — сказал учитель, — это не горы, т. к. это горы».
Для пояснения парадоксальной логики обретения сатори через вскрытие абсолютного ничто в самом центре вещей, приведем еще несколько коанов:
«Император Гойодзей изучал дзэн под руководством мастера Гудо. Однажды он спросил: „В дзэне вот это наше сознание и есть Будда. Правильно?“
Гудо ответил: „Если я скажу да, ты будешь считать, что понимаешь, не понимая. Если я скажу нет, я буду опровергать тот факт, который многие прекрасно осознают“.
В другой день император спросил: „Куда идет просветленный сатори человек, когда он умирает?“
Гудо ответил: „Я не знаю“.
„Почему ты не знаешь?“ — спросил император.
„Потому что я еще не умер“, — ответил Гудо.
Император не решился больше спрашивать про вещи, смысла которых он не мог постичь. В этот момент колебания Императора Гудо резко ударил ладонью о пол, как если бы хотел его разбудить, и Император получил сатори».
Или еще:
«Одна буддистская монахиня, Чийино, изучающая дзэн у мастера Букко из Энгкаку, никак не могла постичь плодов долгих медитаций. Пока, наконец однажды лунной ночью, когда она несла на бамбуковом коромысле старое ведро с водой, бамбук не обломился, а дно не вылетело из ведра. Тогда Чийино получила сатори. В память об этом она сложила стихотворение:
На этой дорожке я пыталась спасти старое ведро;
Когда бамбуковое коромысло согнулось и надломилось;
И все же дно вылетело.
Нет больше воды в ведре!
Нет больше Луны в воде!»
Диалектический Бог Китаро Нисиды
Нисида одну из своих программных работ посвятил решению религиозных проблем на основе «логики басё» и принципа «самоидентичности абсолютной противоположности». С позиции своего специфического философского подхода, укорененного в философии дзэн, он предлагает свои ответы на фундаментальные проблемы западной теологии, антропологии и моральной философии. Отталкиваясь от буддизма, он конструирует оригинальную интеллектуальную топику, в основе которой находится структура особого японского Логоса, но применяемого в гораздо более широком (нежели японский) контексте. Нисида утверждает:
«Действительный абсолют есть «самоидентичность абсолютной противоположности». Это единственный способ описать Бога в логических терминах. Бог лицезреет самого себя только в форме «обратной корреляции» как абсолютного самоотрицания, именно потому, что он есть абсолютное ничто, он есть абсолютное бытие»[259]. Это очень важный пассаж, в котором содержится не только ядро мысли Нисиды и традиции дзэн-буддизма, но и ключ к соотношению апофатического и катафатического начала во всех версиях открытой (сверху) теологии. Бог единственен, значит, вне него ничего не может быть, кроме него самого; но будучи вне себя, он не был собой, а т. к. он единственный, кто есть, значит вне себя его не было бы, т. е. не было бы ничего вообще. Если что-то есть, то это и есть сам Бог. Но когда мы видим что-то относительное и смертное, страдающее и жалкое, уродливое и злое, мы не можем приписать это Богу. Этого быть не должно, но есть, и здесь начинается проблема. Ответ Нисиды таков: «Бог может познать себя только через самоотрицание, постулирующее не себя. То, что постулируемое не есть Бог, позволяет ему видеть Бога как Бога, но одновременно делает его самого не-Богом (то есть чем-то относительным). Но не-Бога нет, не может быть, поэтому даже самоотрицание Бога все равно есть Бог, ведь это Он и никто другой (никого больше нет и не может быть) отрицает только потому, что отрицает именно Он, отрицаемое им есть». Здесь мы узнаем классические темы самых разных мистико-религиозных и философских теорий — от апофатического ἔν неоплатоников, до «черного полдня» суфиев, «Божественной Ночи» Майстера Экхардта, негативной диалектики Гегеля и Seyn-бытия, тождественного ничто (Nichts), Хайдеггера.
Для Нисиды этот принцип дан в буддизме, в «Бриллиантовой сутре» («Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra» на санскрите или «Kongō hannya haramitsu kyō» по-японски), где он формулируется как логика «soku-hi». «Все явления не явления, поэтому они явления». Нисидо развивает эту идею: «Будда — это не Будда, и поэтому Будда. Чувственные вещи — не чувственные вещи, и поэтому чувственные вещи (…) Чисто трансцендентный и самоудовлетворенный Бог не есть реальный Бог. Бог должен характеризоваться через само-умаление, κενώσεις, через самоопустошение. Подлинный диалектический Бог полностью трансцендентно-имманентный и имманентно-трансцендентный. Только как таковой он действительно абсолютен»[260]. Под этими словами могли бы легко подписаться как представители классического неоплатонизма, так и адвайта-ведантисты и тантристы, как христианские мистики, так и исламские суфии, шииты и представители школы Ишрак.
Мир, зло, вечность, свобода
Отталкиваясь от такого парадоксального тезиса, Нисида строит свое учение о мире, который, согласно ему, надо понимать диалектически. Мира как не-Бога нет. Он есть ничто. Постижение его ничтожности — первый шаг. В нем философ снимает принцип идентичности вещи самой себе. Ни одна вещь не идентична самой себе; т. к. она пуста, то идентична лишь собственной смерти, ничто, которым она и является. Весь мир — ничто, у него нет эссенции. Его сущность — смерть. Это верно и в частностях и в целом, при этом смерть части и смерть целого совпадают. Поэтому достаточно знать о своей смерти, чтобы знать весь мир, чья смерть, т. е. чье внутреннее содержание, совпадает с личной смертью мыслящего целиком и полностью.
Но на следующем уровне мир открывается как не просто ничто, а самоотрицание Бога, а значит, в этом акте проявляется Его воля, которая не может быть пустой и ничтожной. Поэтому она производит именно мир и именно все его отдельные составляющие. И снова эта воля качественно едина во всем мире в целом и во всех его частях — больших малых, оживленных и безжизненных, прекрасных и уродливых. То есть, если мир в целом и все вещи в нем равны ничто, то ничто мира и каждой вещи в отдельности не равны самим себе, т. е. ничто не есть ничто, а есть именно эта вещь, или другая, или часть, или все вместе в виде мира. Ничто есть место (басе) мира и всех вещей мира. Но само это место охвачено Богом, как местом для места ничто. При этом охватывающее и охватываемое места суть одно и то же место. В логике Нисиды принцип идентичности А=А отвергается и преодолевается самым решительным и последовательным образом.
Таким же образом Нисида решает и проблему творения (creatio), мало касающуюся буддистского учения, но являющуюся центральной для западной теологии. Нисида не может признать двух эссенциальных и строго различных начал — ens creator и ens creatum, творца и творение как неизменных самотождественных и никогда не совпадающих моментов. Это процесс креации, на обоих полюсах которой мы встречаемся не с двумя сущностями, но с диалектической игрой одного и того же. Поэтому мир, творение не есть сотворенное, но творящееся и творящее само себя. «В этом противоречиво самотождественном мире само выражение абсолютного бытия есть не что иное, как длящееся откровение Бога, и самоформация мира есть воля Бога. Абсолютно противоречиво самотождественный мир абсолютно настоящего отражает себя в себе, имеет фокус в самом себе, формируя самого себя во вращении вокруг этого фокуса. (…) Двигаясь от сотворенности к самотворению, этот мир есть мир абсолютной воли. Поэтому-то он и есть мир абсолютного зла…»[261], — строит недуальную динамическую и парадоксальную модель творения Нисида. Далее он развивает эту трудную тему, столь важную для мистиков, гностиков, дуальных и недуальных платоников:
«Это может показаться чрезвычайно парадоксальным, но Бог, который является истинно абсолютным, должен быть в определенном смысле демоническим. (…) Если бы Бог стоял просто против зла и сражался с ним, он был бы относительным Богом. Бог, являющийся высшим трансцендентным благом, это лишь абстрактный концепт. Абсолютный Бог должен содержать в самом себе абсолютную негацию; он должен иметь дело с абсолютным злом. Только Бог, спасающий последнего злодея, является подлинно абсолютным Богом. Высшая форма должна давать форму низшей материи. Абсолютная ἀγάπη, любовь, должна простираться и на самых грешных. В этой обратной корреляции Бог тайно живет в сердце носителя зла»[262]. Это объяснение зла через принцип «обратной корреляции» удивительно тем, что существенно отличается и от платонического принципа зла как «умаленного добра» и от гностического противопоставления «мира зла» «миру добра».
Столь же парадоксально определяется в недуальной теологии Нисиды и вечная жизнь. «Истинное «я» (self) расположено в области знания о своей собственной вечной смерти. Но в момент этого знания «я» мгновенно оказывается в вечной жизни. (…) В глубине нашего «я» есть нечто, что радикально превосходит нас и устанавливает наше «я». По этой причине «рождение — это не-рождение», а «рождение-и-смерть» — это вечность»[263].
Осознание этой вечной жизни ведет к абсолютной свободе. «В глубине нашего «я» лежит ничто; мы — ничто и соотносимся с абсолютом только через обратную корреляцию»[264]. Отсюда лежит путь к свободе. «Преодолевать себя всегда и везде, от основ нашего существования до пика нашей индивидуальности, отвечая абсолютному — означает, что мы этим актом преодолеваем вообще все. Мы преодолеваем исторический мир, который есть самоопределение абсолютного настоящего; мы преодолеваем прошлое и будущее. Поступая так, мы становимся абсолютно свободными. (…) „Там, где ты стоишь, это место правильное“»[265].
Таким образом, в логике противоречивой самоидентичности и обратной корреляции Бог, мир, ничто и человек связываются в один парадоксальный узел, где никто и ничто никогда не бывает самотождественным, но всегда выражает в себе нечто иное. Человек есть человек в силу его отношения с Богом и ничто. Свою самоидентичность он отвоевывает через свое нетождественность самому себе, и только в этом случае он становится самим собой. Так он приходит к формуле: «Я не другой по отношению к себе (Makabe no Heishiro)». Поэтому для Нисиды «быть религиозно призванным значит никогда не терять из виду то, как человеческие существа приходят к тому, чтобы быть людьми»[266].
Хадзимэ Танабэ: логика вида
Китаро Нисида начал фундаментальный процесс выхода на мета-Логос. Сопоставление «логики вещей» и «логики мест» является выразительной иллюстрацией того, как он решал эту задачу.
То же направление продолжил его друг и последователь, второй по значимости философ Киотской школы, Хадзимэ Танабэ (1885–1962). Танабэ учился у Хайдеггера в начале 1920-х годов и был первым, кто привлек внимание к его философии в Японии. Танабэ поставил ничто в центре своего философского внимания (в этом он полностью созвучен Нисидой), и в философии Хайдеггера его интересовала именно эта проблематика. Показательно, как Танабэ определял философию: « Все науки нуждаются в каких-то вполне определенных предметах. Точка соприкосновения в них всегда относится к сущему, а не к ничто. Единственная дисциплина, которая занимается ничто, это философия»[267]. Этот тезис, впрочем, точно соответствует фундаментальному выражению дзэн-буддистской философии: honrai mu-ichi-motsu, которое можно перевести так: «в конечном счете, ничего не существует (существует лишь ничто)».
Танабэ в целом следует по тому же самому пути, который наметил Нисида: его задача построить такую философскую систему, которая могла бы служить своего рода общим знаменателем для философских традиций Запада и Востока. Сам Танабэ назвал это «метаноэтикой»[268], т. е. по сути мета-Логосом. Однако терминологически Танабэ и Нисида несколько разошлись. Так, Танабэ особенно подчеркивал в теории басё не то, что место охватывает систему отношений между А и В (это он считал слишком статичной метафорой), но что оно служит инстанцией диалектической медиации (что, впрочем, утверждает и сам Нисида). Но тогда, спрашивает себя Танабэ, зачем вообще использовать термин «место» и называть альтернативную западной логику логикой места? Такая критика, с одной стороны, заставила Нисиду уточнить целый ряд своих позиций в диалектическом недуальном ключе, а самого Танабэ разработать свою собственную «логику вида», где медиация и ее недуальная диалектика смогли оторваться от понятия место.
«Логика вида» Танабэ строилась на следующих моментах. Индивидуум, по Танабэ, это то, что нам дано эмпирически. Имея дело с чем-то, мы всегда имеем дело с этим. То есть экзистирующее всегда дается обособленно. В этом трагизм людей и вещей. Они окружены смертью во времени и в простран-стве. На другой стороне мы имеем универсальное, что постулируется нами на основании обобщений, возводящих в бесконечную степень индивидуальный опыт. Высшим обобщением будет бытие. Но эта пара, на которой основывается западный Логос, порождает неснимаемый дуализм именно тем, что соотносит между собой экзистенцию (индивидуума) и эссенцию (бытие) как два типа сущего. Здесь снова мы имеем дело с Аристотелевской логикой с ее отношением между А и В. Самое главное, считает Танабэ, что здесь пропущено то, что находится между ними и что является живой реальностью их медиации. Между бытием (универсальным) и индивидуумом (особью) стоит вид. Этот вид в западных философских таксономиях никогда не имеет самостоятельного значения — он либо мыслится как распыление рода в неоплатонических теориях эманации, либо вообще рассматривается как домысленная для удобства классификации абстракция (у номиналистов). Сам Танабэ утверждает, что вид и есть самое главное: это он является подлинным абсолютом и узлом медиации, крайние термины которой диалектически кон-струируются им самим. То есть реален только вид, а особь и род суть его конструкты. Этот вид он и называет ничто или абсолютным ничто, которое постулирует одновременно и бытие и смерть. Но, в таком случае, индивидуальный человек сам становится медиацией абсолютного ничто как вида, и бытие, в свою очередь, утрачивает качество фиксированной эссенции, и также выступает как нечто относительное по отношению к виду. Так пропорции переворачиваются, и то, что мыслилось изначально как опосредующая инстанция, как узел медиации, становится, напротив, основным моментом, а его полюса — лишь относительными продуктами этой абсолютной медиации.
Логика вида приводит Танабэ к построению исторической концепции, основанной на диалектической негации и динамическом переворачивании пропорций. Очень важно, что Танабэ говорит о том, что ничто, mu, не является полностью универсальным явлением (каким было бытие, этим ничто релятивизированное). Будучи мыслимо как вид, ничто приобретает множественность, собирающую воедино индивидуальных особей, но оставляющую место для межвидовых диалогов. Это приводит Танабэ к проекту многополярной философии, где у разных народов и обществ (как раз виды) наличе-ствует своя модель негативной диалектики, и соответственно, существует не один абсолют, а несколько, не одно ничто, а серия разных ничто. Диалог видов и порождает содержание истории, а народы становятся узорами сложнейшей диалектики, где снятие особи и опосредование универсалий, составляющие суть действия абсолютного ничто в конкретном выражении, сопрягаются с аналогичными диалектическими движениями в других конкретных выражениях. Таким образом, медиация приобретает двухосевой характер: между особями и универсальностью в структуре одного вида и между разными видами. Логика видов и критика западного универсализма приводит Танабэ к обоснованию полицентрического понимания цивилизации, близкого русскому историку Николаю Данилевскому, немцу Освальду Шпенглеру или англичанину Арнольду Тойнби. В этнологии аналогичную концепцию обосновывал в своих поздних работах Лео Фробениус.
Кэйдзи Ниситани: ничто против ничто
Еще один представитель Киотской школы, Кэйдзи Ниситани (1900–1990), был учеником Хайдеггера в период 1937–1939 годов, когда Хайдеггер занимался вопросами нигилизма. Эта тематика как нельзя лучше резонировала с дзэн-буддистским интересом японских философов этого направления к проблеме ничто. Показательно, что Ниситани не только учился у Хайдеггера, следуя за ним в осмыслении логики процесса западноевропейской философии, но и неоднократно посещал Хайдеггера у него дома, систематически рассказывая ему основные принципы философии дзэн, которые, в свою очередь, чрезвычайно интересовали Хайдеггера.
Двойное влияние Нисиды и Хайдеггера сказалось на всем творчестве Кэйдзи Ниситани.
Ниситани ставит перед собой крайне интересную проблему: учитывая западноевропейский нигилизм, который приводит, с одной стороны — к объективации субъекта в технике, а с другой — к нигилистскому анархизму внутри него, ведущему к утрате этических, духовных и религиозных центров, — каким образом можно выйти к месту «абсолютного ничто», где преодолевается дуализм субъекта/объекта, если эти субъект и объект, в отличие от условий традиционного общества, размываются, рассыпаются и превращаются в смутные пятна? Ничто дзэн-буддизма является выходом в том случае, когда общество и человек, а также природа, внешний мир находятся на месте: тогда с этого нормативного места недуальный Логос дзэна способен совершить прыжок озарения. Для того, чтобы отрицать нечто, надо чтобы это нечто было и было фиксировано; только тогда можно обнаружить, что горы движутся, а, следовательно, стоят на месте. Но если топика сбита изначально и европейский нигилизм разъедает область объекта и субъекта, смешивая их в противоестественном гибриде, то, как достичь сатори? Это вопрос после 1945 года встал со всей остротой и в Японии, оказавшейся включенной в западный мир, со всеми вытекающими онтологическими последствиями.
Так Кэйдзи Ниситани приходит к чрезвычайно важному выводу: сегодня, в первую очередь, важно точно сформулировать главную дилемму философии, от которой надо будет отталкиваться в поисках недуальной реализации. Для западного или вестернизированного общества дилемма состоит в том, чтобы вернуться от нигилизма, расчеловечивания и гибридизации к нормативной субъект/объектиной топике и к структуре Логоса с его вертикальными таксономиями и логическими принципами. Но Хайдеггер показал, что причина безумства раскрепощенной техники и сам европейский нигилизм, отмеченный Ницше, пришли на Западе не извне, а изнутри, через последовательное развитие референциальной теории истины, одержимость сущим (Seiende) и двухэтажной модели платоновского учения об идеях. Следовательно, Запад и те общества, которые за ним следуют, обречены на то, чтобы идти дальше и дальше в направлении бездны, а шаг назад сделать невозможно, т. к. это ничего не решит. Следовательно, эта дилемма отпадает, о субъект/объектной паре придется забыть. Отныне всем придется иметь дело с нигилизмом.
Вторая дилемма состоит в преодолении субъект/объектной пары в тех случаях традиционного общества, где она фиксируется строгой упорядоченностью философского экзотеризма, и только это и дает стартовую позицию для реализации парадоксального эзотерического преодоления (собственно дзэн и является буддистским эзотеризмом). Эта проблема ставилась Китаро Нисидой, который и предложил ее решение в логике басё и теории самотождества абсолютного противоречия. Но Япония Нисиды прекратила свое существование, а, следовательно, дзэн-буддистская философия, возведенная в статус альтернативного Логоса, утратила свое основание. На традиционное общество хлынул нигилизм снизу, со стороны Запада. Уже не старый Логос Аристотеля, а извращенная логистика общества потребления, финансовая и политическая оккупация, американизм и глобализм (называемый Хайдеггером «планетэр-идиотизмом»). Значит, и эта дилемма, стоявшая в центре раннего этапа Киотской школы, не может быть разрешена.
Кэйдзи Ниситани приходит тогда к следующему заключению. Необходимо столкнуть между собой два ничто: низшее ничто современного западного вырождения и высшее ничто дзэн-буддизма. Восстановить пару субъект/объект, как она была в классике, невозможно. Но она в негационной диалектике дзэнского Логоса сама была ничем иным, как следствием движения абсолютного ничто, существующей только для того, чтобы быть преодоленной в озарении (сатори). Если сосредоточиться на этом высшем ничто, т. е. позволить себе двинуться отважно к бездонному дну абсолютного места, результатом этой высшей нигилистической практики станет не усугубление хаоса и разложения, но восстановление нормы[269].
Нечто аналогичное имел в виду и сам Хайдеггер, говоривший о новом Начале философии и призывавший последних европейцев, способных мыслить, сделать отважный и решительный шаг вперед — поскольку, по словам Гельдерлина, «там где опасность, там коренится и спасение».
Кэйдзи Ниситани, развивая это направление мысли, где ничто вступает в диалектический конфликт с ничто, придает обостренный характер всей философии, изначально развивавшейся Киотской школой. Так, он исследует проблему «я», «субъективности», трактуемой в этой школе в духе традиционного недуального дзэн-буддизма: «я — это не я». Картезианское cogito есть момент, подлежащий отрицанию в силу второго момента — не-я (отсутствие я, «анатман» как главный постулат буддизма). Но… я, оказавшись не-я, осознав пустотность себя, снова есть я, однако такое, которое больше не есть я. Ученик и последователь Кэйдзи Ниситани, последний представитель Киотской школы Сидзутэру Уэда призывает рассматривать это как коан. Даже не обязательно говорить «я это не я», а потом «снова я». Можно сказать формулу Фихте «я есть я», но в духе мастеров дзэна: «я есть я», сконцентрировавшись на легком дыхании при слове «есть», т. е. на связке, медиации. В этой связке и содержится абсолют, абсолютное ничто, которое при произнесении связки мгновенно уничтожает субъект и конституирует его заново, а вместе с ним и весь мир вокруг него. Уэда говорит о двухуровневом бытии, которое «я» может вести даже в современном мире: один уровень пребывает в повседневности, но его отрицание сверху как неаутентичного я и снятие его рациональных и тривиальных стратегий, ведет к обнаружению за пеленой ничто иного этажа, где параллельно движется иное «я», на сей раз аутентичное.
Ниситани говорит по этому поводу о радикальной субъективности[270]. Ниситани ищет Радикальный Субъект в западной философии — и находит его следы у М. Экхарта или у Ф. Ницше[271]. Радикальный Субъект Ниситани определяет как «нон-эго» (mugu), воплощающее в себе «субъективное Ничто» (shutai-teki mu). Прорваться к «субъективному Ничто», по Ниситани, можно через «осознание того, что дно уходит из-под ног»[272] и как «радикальный спуск — trans-descendence — к изначальным глубинам нашего я», к внутренней бездне, Ungrund, где нам не принадлежит абсолютно ничего (mu-ichi-motsu)[273].
Идеи Кэйдзи Ниситани о Радикальном Субъекте, развитые на пересечении дзэн-буддизма, хайдеггерианства и ницшеанства, было бы важно сопоставить с аналогичными концепциями Московской школы Новой Метафизики (Ю. Мамлеев, Е. Головин, Г. Джемаль[274]).
Преодоление Модерна
Если оценивать в целом Киотскую школу по тому критерию, реализовала ли она поставленные перед собой задачи, следует признать, что на этот вопрос можно обоснованно дать положительный ответ. Китаро Нисида продемонстрировал уникальный пример полноценного и равноправного диалога не-западной философской мысли с философской традицией Запада, и в ходе этого диалога разработал уникальную по своему историческому значению метаноэтическую систему, установившую в первом приближении гомологии и семантические дифференциалы между философскими теориями Запада и буддистской Японии, а с другой стороны — продемонстрировал, что традиция дзэн-буддизма оперирует с таким подходом к Логосу, который радикально отличается от преобладающей на Западе интеллектуальной традиции, но вместе с тем может быть описан в западных терминах с примерами, взятыми из западной истории.
Все главные мыслители Киотской школы и множество их учеников внесли колоссальный вклад в построение философской географии и обоснование возможности многополярного подхода к философии, где различные культуры и общества, цивилизации могут претендовать на свой собственный исторический и географический определенный «локальный универсализм» (на чем особенно останавливался Хадзимэ Танабэ).
Задачей Киотской школы было «преодоление Модерна», как назывался сборник их программных философских статей и соответствующая интеллектуальная конференция. Это преодоление заключалось одновременно в нескольких направлениях.
1. Отказ Западу в праве на философскую и культурную монополию.
2. Утверждение самоценной и самодостаточной японской философской традиции, распространяющейся и на политические институты (мыслители Киотской школы, начиная с Нисиды, были сторонниками Императорской власти, традиционного религиозного и этического уклада, самурайской этики; Нисида говорил, что «правильно было бы подданным не просто хорошо служить только хорошему государству, но то государство хорошо, которому хорошо служат хорошие подданные»).
3. Признание многообразия культур и цивилизаций (в том числе азиат-ских).
4. Постижение Запада и корректное осознание природы и глубины его кризиса, т. е. корректная философская дешифровка Модерна как такового.
5. Построение компаративной системы мета-Логоса, открывающей горизонты философствования в альтернативном Западу режиме.
6. Возрождение самых глубинных эзотерических основ своей собственной традиции — с опорой на высоты буддистского эзотеризма.
7. Реализация Радикального Субъекта как фигуры, реализовавшей в себе «субъективное Ничто», сатори, и бросающей вызов «объективному ничто» западного нигилизма и разложения.
По всем этим направлениям были предприняты уникальные философ-ские усилия, в целом, увенчавшиеся успехом. Новое постижение наследия Киотской школы и ее адекватная оценка только еще ждет своего часа, равно как перевод программных работ всей плеяды этих выдающихся философов, представляющих собой венец современной японской культуры.
Глава 20 Радикальный Субъект и метафизика боли
Введение в проблематику: эмпирико-экзистенциальный аспект
Введение в зону мышления о Радикальном Субъекте может проходить через обращение к конкретному историческому и эмпирическому опыту: это опыт существования (обособленного/дифференцированного, по Ю. Эволе) человека в условиях Конца Времен, в эсхатологическом эоне[275].
Практически все сакральные традиции описывают определенный эсхатологический период, когда духовная реализация, инициация и контакт с Первопринципом (в религиях часто речь идет о «спасении») становятся проблематичными или вообще невозможными. В Евангелии от Марка есть утверждение, что если бы Бог не сократил время царствования антихриста, сатаны в мире, время последнего вырождения, то никто бы не спасся[276]. Так мы узнаем, что из милости Бог сокращает период существования в исключительно негативных космических условиях. Для нас важно сейчас, что такие условия, при которых сама по себе «не спаслась бы никакая плоть», возможны, и Традиция о них знает.
Идея Радикального Субъекта рождается из внимательного рассмотрения онтологии этого периода. Касательно его идентификации важно следующее: в ходе этого отрезка времени невозможно спастись вообще никак — ни с опорой только на себя (в христианстве это вообще невозможно, хотя в других традициях такая возможность есть), ни с опорой на благодать Господню. Локализация этого особого эсхатологического эона во времени и в пространстве, а также его идентификация с той или иной социально-политиче-ской системой в ту или иную эпоху — это вопрос открытый и дискуссионный. Разные традиции видят это по-своему. Отрицательные условия в христианстве соответствуют приходу антихриста. Для староверов процесс апостасии был активно запущен, начиная с Никоновской справы, а для крайних староверов-беспоповцев «духовный антихрист» тогда и пришел в мир[277]. В свою очередь, среди беспоповцев метафизику отчаяния и богооставленности до крайности доводят экстремальные течения — такие как бегуны (странники) и нетовцы (Спасово согласие). Для многих новообрядцев из РПЦ последние времена явственно настали в 1917 году и в примыкающие к нему советские эпохи. Для иудеев аномальное время — вся эпоха галута. Для мусульман-шиитов — время гайбы, сокрытия последнего имама и его тайного света. Индусы говорят в этом случае о Кали-юге. Так или иначе, все традиции знают об этих временах, призывают готовиться к ним и думать о них.
У меня лично опыт наиболее острого переживания такого времени был в конце 70-х — начале-середине 80-х годов. Я вполне допускаю, что это было весьма субъективно, но от этого ценность опыта не умаляется. Опыт сущест-вования в позднесоветский период, приблизительно до 1982–1983 годов, представлял собой пробуждение в чистом аду посреди ничто. В этих условиях и родилась идея Радикального Субъекта. Позднее восприятие окружающего мира, космической и социальной среды, сущего как такового несколько поменялось, острота опыта стерлась, но идея пустила глубокие корни и сохраняет свое фундаментальное значение до сих пор — видимо, потому, что имеет глубокую эйдетическую обоснованность и резонирует с острыми гранями глобальных метафизических структур.
Мир без Традиции
Что означает полностью закрытый для духа, наглухо запертый сверху мир? Мир без возможности спасения? Это среда, где вообще больше нет Традиции или даже ее останков. Нет совсем, ни в каком качестве. То, как Рене Генон описывает современный мир, предполагает, что все-таки отдельные элементы Традиции сохраняются. Они становятся чрезвычайно редкими, исключительными, но они есть. Но представим себе мир, в котором Традиции нет вообще. Что бы мы ни делали, прорваться к ней нельзя. Более того, никак и ниоткуда не узнать ничего о самой Традиции, и поэтому мы даже не знаем, что мы чего-то лишены — настолько мы этого лишены. Хайдеггер писал, что иногда ночь становится настолько густой, что люди вообще забывают, что это ночь — так отвыкли они от света.
Такое бытие конституирует совершенно специфические условия, специфическую онтологию, со всех точек зрения и со всех сторон оторванную от мира Традиции. Это мир, в котором вообще нет сакрального. Никак, нигде, ни на каком уровне, ни в каком качестве. Можно предположить, что Ницше находился под глубоким впечатлением от аналогичного опыта, когда он провозгласил «смерть Бога».
В таком мире, где нет выхода, т. к. не было входа, — а в моей личной судьбе это был позднесоветский период, — внезапно, вдруг (здесь самое время вспомнить о термине ἐξαίφνης» и его метафизическом значении в неоплатонизме, начиная с «Парменида») вспыхивает точка радикального несогласия с самим фактом существования в безальтернативно данном онтическом и онтологическом контексте. Поднимается тотальный отказ от пребывания в этом мире в целом — со всеми его непосредственными и опосредованными структурами. Очень важно подчеркнуть, что этот отказ, мучительный удар, внутреннее взрывное восстание не базировались на чем-то, что располагалось бы вне данной мне среды — за ее пространственными или временными пределами. Глубинное, почти химическое, отторжение среды не имело никакого основания. Можно было бы представить, что, например, по линии семьи кто-то принадлежал либо к аристократии, либо к духовному сословию, либо к какому-то этническому, религиозному или идеологическому меньшин-ству, к среде, в которой, пусть тайно и скрыто для внешних глаз, но передавались коды иной социальной группы, транслировались алгоритмы иной идентичности. Тогда у протеста были бы основания, и «вдруг» и «внезапно» логично являлись бы верхним слоем более глубоких, но вполне понятных психологических и социальных механизмов.
Но я был частью среды на всех уровнях и во всех смыслах и не знал ничего, кроме нее. В свое время Артюр Рембо, испытывавший в ранней юности очень похожий опыт (правда, в иных условиях и исторических декорациях), сокрушался, что не имеет в своем роду ни одной капли благородной крови, которая могла бы объяснить ему пронзительное ощущение собственной инаковости в отношении окружающего. Все, что меня окружало — небо, земля, мир, люди, социальные отношения, здания, механизмы, речи, дисциплины, потоки информации, картины, пейзажи, — все это абсолютно, тотально отвергалось. Воспринималось как ядовитое наступающее со всех сторон ничто, как полностью лишенная всякого смысла и всякой логики слепая агрессия мрака. Это, наверное, можно сравнить с картинами из «Путешествия на край ночи» Луи-Фердинанда Селина[278]. Я обнаружил себя внезапно в сердце ночи, у которой не было края. Проявившись в сердце ночи, я не получил никой вести, никакого завета, никакого путеводителя относительно того, как оттуда выбираться, а также кто я, зачем я, где я, как все это случилось и что происходит….
Чистый опыт тотального нигилизма. Окружающий меня мир отбрасывался не почему-то, не по какой-то причине, а просто так. Без всякой причины, без всякой внутренней или внешней опоры. И отсутствие опоры (вот теперь самое главное!), отсутствие самой возможности не то что спасения, а какого бы то ни было далекого отблеска Традиции, было концептуально по-ставлено в центре моего бытия и положено в основу систематического мышления.
Из этого постепенно и кристаллизовалась концепция Радикального Субъекта, т. е. постулирование существования носителя Традиции без самой Традиции, вне традиций, в неведении о самом факте существования Традиции, за ее пределами.
Два способа получения философского огня
В герметической литературе есть описание двух способов получения «философского огня». Первый способ — когда субстанция ввергается в огонь и загорается в нем, какой бы она ни была, т. к. сам огонь чрезвычайно силен. Если мы оказываемся в мире Традиции спонтанно, то какими бы непригодными ни были наши души, Традиция их просветит, высушит и зажжет. Если она жива, и огонь горит весело и яростно, то трансформации, сакрализации подвергается почти любая душа — как бы ни были сыры «дрова». Если она еле тлеет, то огнем займутся только сухие и приспособленные к этому бруски дерева. Традиционное общество иерархично. В нем с необходимостью присутствуют религиозные институты и ритуалы, преобладают сакральные законы и духовно обоснованная этика. Традиция интегрирует нас в себя с появления на свет помимо нашей воли, помимо воли окружающих, и мы, в конечном итоге, преодолеваем самих себя и становимся чем-то ценным.
Но есть второй способ зажигания философского огня — с помощью абсолютного льда. Здесь, наоборот, нечто кладется в зону радикального холода, хоронится во льдах, опускается в пустоту, но в этих экстремальных условиях внезапно осознает отличие от этой пустоты и внутри нее спонтанно вспыхивает самодвижущийся огонь. Гераклит писал, возможно, об этом: «Человек в ночи себе зажигает свет». Он делает это, потому что мир больше не дает ему света. Потому что он осознает себя в сердце ночи. Это не свет природы, это свет против природы, le feu contre nature.
Концепция Радикального Субъекта может быть описана как рождение философского огня под воздействием стихии абсолютного льда. Ситуация, когда философский огонь рождается не благодаря Традиции, а, напротив, в условиях ее полного отсутствия, в условиях предельной десакрализации, в сердце ночи. Вкус сакрального в данном случае пробуждается не от того, что сакральное есть и оно пылает своей нуминозной мощью, а от того, что его нет вообще.
Радикальное «Я»
Когда мы переводим тексты о Радикальном Субъекте на английский язык, возникает вопрос, как точно это осуществить. «Radical Subject»? Совсем не то, поскольку немедленно отсылает нас в субъект-объектную топику Декарта и Нового времени, и даже в лучшем случае — в Средневековую схоластику. Поэтому одной из версий перевода может быть «Radical Self».
Высшее «Я», по контрасту с низшим, эмпирическим «я», может пробуждаться двумя описанными способами. Радикальное «Я» как синоним философского огня, противоприродного огня, Радикальный Субъект — это то, что пробуждается только льдом, не благодаря Традиции, но вопреки ее отсут-ствию.
И вот дальше возникает очень непростой вопрос: если нечто отбрасывает абсолютным образом несакральный мир, но само по себе не является сакральным, то что это такое?
Если бы нам были переданы какие-то элементы Традиции, ее коды, и мы оказались бы в ситуации, где Традиция чрезвычайно слаба или даже вообще отсутствует, можно было бы помыслить себе разные сценарии поведения — вплоть до восстания против этого отсутствия или слабости Традиции. Это объяснялось бы тем, что мы мыслим себя ее представителями и опираемся на нее даже в безнадежных и отчаянных ситуациях.
Но как понять положение, когда мы восстаем против отсутствия Традиции, не будучи ее представителями? От лица чего мы это делаем? Кто или что в нас это провоцирует? Что за инстанция за этим стоит?
Задаваясь этим вопросом, мы принимаемся за философскую интроспекцию; но и внутри, там внутри — в душе, в сознании, в сердце, в мышлении — не видим, не встречаем ничего, что объясняло бы нам внятно это отторжение. Ничего, потому что наше содержание полностью (социологически, онтологически, психологически) сформировано тем миром, в котором мы живем и которым сконструированы.
Значит, исток отторжения наличного обоснован не тем, что внутри нас находится нечто отличное и особое от всего: ведь все, что находится внутри, в личности отражает то, что находится вовне ее, а в нашем случае — это полностью десакрализированная среда, мир, начисто лишенный духовной сути. И конституирует он таких же существ, вполне удовлетворенных круговращениями его бессмысленных циклов и ангажированных в его бессодержательные (с духовной точки зрения) процессы. Мы ищем вовне и внутри объяснения, но не находим ни здесь, ни там ничего…
Анатомия ностальгии
Это порождает специфическое чрезмерное напряжение, выражающееся в абсолютной боли.
Если мы рассмотрим греческое слово «ностальгия», мы заметим, что оно состоит из двух частей: νόστος — «родная земля» и άλγος — боль. Ностальгия — это, дословно, «боль по родной земле». Опыт, который лежит в основе обнаружения присутствия Радикального Субъекта, это, безусловно, άλγος, боль, причем дикая, невыносимая боль, чудовищная, удушающая тоска. Внутри этой боли ты понимаешь только одно — что здесь ты абсолютно чужой. Но вот вопрос: а где и кому ты не чужой? Ответа нет. Есть άλγος, но нет νόστος. Такая ностальгия, где νόστος отсутствует. Охватывая горизонт всего того и тех, где и для кого ты являешься чужим, ты видишь, что ты таким являешься везде и для всех, всегда и везде… Боль начинает расти, захватывать все больше и больше пространства, пока она не поглощает все — и субъект, и объект, и внутреннее, и внешнее… Это даже не хайдеггеровский Angst, ужас. Это что-то другое.
В центре этой боли кристаллизуется определенная зона, фигура, которая и была довольно условно названа «Радикальным Субъектом». Она определяется как то, что, не принадлежа Традиции, без Традиции существовать не может.
Здесь встает вопрос: что делать в такой ситуации? Каким образом решить эту проблему? Как спастись, когда двери спасения закрыты? Тут лежат корни очень плотной, густой философии.
Встреча
Экзистенциальная предыстория для понимания появления концепции Радикального Субъекта очень важна. Продолжу ее изложение. В необъяснимом состоянии беспричинной, но нестерпимой боли ситуация привела меня к контакту с людьми, которых, с точки зрения здравого смысла и социологических закономерностей, в позднесоветском обществе быть просто не должно было. Это Московская школа Новой Метафизики (Ю. Мамлеев, Е. Головин, Г. Джемаль). Это люди, которые изучали Рене Генона, Юлиуса Эволу, герметическую традицию, суфизм, традиционализм, и которые, по своему существу, были носителями строго того же самого травматического экзистенциального опыта. Именно опыта, он-то и лежал в основе всего — их познаний, их позиции, их жизни. Не знания, не культура, не эстафета поколений, не какие-то особенности биографии, происхождения или внешние влияния двигали ими и заставили их обратиться к Традиции: это была боль, невыносимая, гигантская, невместимая боль. И это было главным.
После этой встречи, которой не могло произойти (проще было отыскать иголку в стогу сена), но не могло и не произойти (уже по логике Радикального Субъекта), появилось ясное и развернутое объяснение того, что это за боль и почему я ее испытывал. Здесь проявился образ νόστος — того самого места, отсутствие и удаленность которого и порождало чувство безумной боли. От этого круга я получил подробное описание Абсолютной Родины, νόστος. Это была структура Традиции, данная в форме ее тщательной рекон-струкции. Это был традиционализм. Стало ясно, чего не хватало: мира, который был описан у Р. Генона, Ю. Эволы, у других традиционалистов как нормативный. Сакральность, иерархия, касты, суверенная доминация духа над материей, вечность и бессмертие. Прямой контакт с Божественным. Свобода души от телесных уз. По словам Платона, «Уран — это взгляд вверх»[279]. In Excelsis. Опыт Урана. «Душа, стоящая и не падающая» («anima stante et non cadente»[280]). Вертикальность мужского начала. Близость бездн. Инициация. Сияющий лик смерти. Эйдетические ряды символов, тянущихся в живую зону потустороннего. Опыт открытых миров и мириадов невидимых существ. Невидимое стало видимым, чтобы видимое стало невидимым.
Но что важнее всего: ностальгия предшествовала в этом процессе знакомству (пусть теоретическому и умозрительному, это как раз не так важно — ум, согласно неоплатоникам, и есть священный центр души; обратив свой «взгляд к Небу», он встает на правильный путь) со структурой νόστος.
Два пути – две метафизики
Здесь можно было пойти двумя путями. С одной стороны, обрадовавшись, что нам дали Традицию в качестве образца, снабдили картой, ориентирами, целью, мы могли бы отправиться ее искать. Это правильный путь. В направлении центра.
Но было нечто, что еще сохранилось, не исчезло, не забылось и продолжает напоминать о себе, притягивать к себе внимание. Второй путь — поиск источника боли, которая изначально привела к традиционализму, исследование ее природы, ее структуры, ее истоков. Что же это было?
Метафизика условно разделяется на две части. Это метафизика Традиции как карта описания νόστος — родного «правильного» места, безусловного идеала. И вторая часть: фиксация на инстанции, которая служила (и служит) причиной боли; можно назвать это «метафизикой боли».
Можно было развивать эту линию в сторону приближения к Традиции, а можно было — в сторону боли. На основе осмысления той инстанции, той силы, которая причиняла боль, вокруг концепта Радикального Субъекта была построена Новая Метафизика.
Традиционализм и боль
Радикальный Субъект — это философский огонь, рожденный льдом, но это другой философский огонь, чем тот, который рожден огнем. Философ-ский огонь, рожденный огнем — это Традиция, а философский огонь, рожденный льдом — это традиционализм. Традиционализм отражает как раз тот порядок следования, который уходит корнями в концепцию Радикального Субъекта. Традиционализм проявляется не в мире Традиции, а в мире без Традиции. И традиционализм взыскует к Традиции безо всяких призывов и знаков с ее стороны, исходя из ее отсутствия. Традиционализм реконструирует Традицию именно потому, что ее нет или она исчезает на глазах. Но традиционализм не просто ищет Традицию, он хочет найти ее в ее полноте и поэтому огненно воссоздает эту полноту. Он знает, что хочет найти еще до того, как он найдет хоть что-то. Откуда знает? Почему ищет? Кем он уполномочен делать это?
Традиционализм — это именно реконструкция νόστος, а не сам νόστος. Традиционализм рождается не из-за знакомства с «родным местом», а из чего-то другого. Он рождается из опыта чистой нехватки. В традиционализме ничего не передается, по меньшей мере, начинается все не с передачи. Обратите внимание, «traditio» — от глагола «tradire», «передавать», т. е. «предание», «передача». Но боль не была передана никем никому из нас. Боль никто не дал, не передал. Боль была. Это нечто другое, нежели Традиция.
Получается: традиционализм — это очень особая «традиция», парадоксальная «традиция», основанная не на непрерывности и передаче, но на разрыве, на том, что Ю. Эвола называет «разрывом уровня» («la rotturra del livello») [281]. Не трансмиссия чего-то, что лежит в основе боли, а наоборот, отсутствие всякой трансмиссии порождает боль. Отсюда помимо классической конвенциональной метафизики Традиции, изложенной в религиозных и философских учениях, возникла идея другой метафизики, Новой Метафизики. Эта Новая Метафизика сосредоточена целиком и полностью на исследовании природы и структуры источника боли. Это второе направление, оно идет параллельно первому (более конвенциональному).
Аналогии Радикального Субъекта
Повторим: Радикальный Субъект есть тот философский огонь, который родился вопреки огню и без всякой опоры на внешнее и внутреннее. Это не дар, потому что боль не может быть даром. Это не преемственность. Довольно легко представить аристократа или представителя какого-либо этноса, оказавшегося в чужеродной среде, чья ненависть к окружающему подвигнет их к дифференциации, обособлению, сделают «обособленными людьми»[282] и тем самым заставит искать или конструировать альтернативы. Кровь, память, культура, религия даже в малом объеме, как тонкий след, способны при определенных обстоятельствах привести к сходной экзистенциальной феноменологии. И в этом случае было бы все понятно, ностальгия была бы прозрачной; было бы обосновано и место, νόστος, и форма передачи маршрута, и педагогика «ненависти» и «нигилизма» в отношении окружающего.
Но как себе представить ситуацию, когда нет «до»? Никаких предварительных инстанций. Есть только факт невыносимой онтологической боли — без причины и основания; боли, основанной на самой себе… Именно это ложится в основу Новой Метафизики.
Далее, при сопоставлении этого интеллектуального настроя с материалами Традиции приходим к выводу, что Радикальный Субъект, если и имеет некоторый аналог среди фигур и персонажей Традиции, то в довольно закрытой и тревожной сфере, относящейся к наиболее сложным, запутанным и неясным уголкам самой метафизической карты. Если искать в сфере Традиции какие-то отдаленные аналоги, то можно вспомнить некоторые образы, которые представляют собой аномалию, разрыв в логике метафизиче-ского и сакрально-исторического нарратива. Например, те фигуры, которые открылись раньше своего времени: такие, как Мельхиседек, царь Салима; которые ушли из жизни странным образом (Енох или Илия); или такие, как исламский Хизр, осуществляющий странные и аномистские действия, понятные только на каком-то ином, нарушающем логику функционирования сакрального космоса, уровне бытия. Определенные параллели можно найти в области дзэн-буддизма, тантрических сект (особенно крайних — капалики и агхори), суфийского течения маламатья или православного юродства.
Можно попытаться сопоставить Радикального Субъекта с образами из иного контекста, например, философии. Здесь ближе всего будут концепты Ницше, особенно когда он произносит наиболее энигматические пассажи о Сверхчеловеке. В одном месте он называет Сверхчеловека «победителем Бога и ничто»[283]. Юлиус Эвола, со своей стороны, писал об этой формуле в «Оседлать тигра»[284]. Кстати, сам Эвола, традиционалист без Традиции, фигура в этом смысле очень показательная и чрезвычайно созвучная проблематике Радикального Субъекта во всех отношениях и на всех этапах своей жизни (особенно на этапе раннего нигилизма и позднего анархизма справа)[285].
«Победитель Бога и ничто» — эта формула дает нам философское представление о Радикальном Субъекте в особом ракурсе. Смысл этой фразы довольно понятен. «Победитель Бога» — тот, кто оказывается в ситуации без Бога, где Бога нет. Нет сакрального. Мир утратил смысл, распался на фрагменты, т. к. без Бога, придающего миру порядок, он перестает быть космосом (это прекрасно понимают постмодернисты — М. Конш пишет, что «мир больше не мир, а экстравагантный ансамбль»). Что обнаружилось без Бога? Только ничто. «Победив» Бога, мы выпустили наружу ничто. И, столкнувшись с ничто, мы обнаружили, что мы не ничто. Но тогда кто или что мы? Этим вопросом задавался еще Кириллов в «Бесах» Достоевского. Ю. Эвола и его коллеги посвятили в коллективной монографии группы «UR» любопытный анализ данной темы в статье «Кириллов и инициация»[286].
Умный космос неоплатонизма
Теперь к платонизму. Неоплатоническая модель, которую можно в определенном приближении соотнести с традиционалистской картой онтологии и метафизики, начинается с ἕν, единого, стоящего радикально выше сущего (ὄν), а поэтому апофатического. Дамаский прибегает даже к формуле «сверх-единое» и предпочитает говорить о «невыразимом» (αρρήτως): настолько он стремится очистить ἕν от каких бы то ни было атрибутов. В том числе и от него самого.
Вслед за «Парменидом» Платона, неоплатоники дружно утверждают, что ἕν не есть, оно сверх-есть. Это его принципиальное свойство. Потому что оно радикально выше и первичнее, чем бытие. Оно абсолютно трансцендент-но (επέκεινα) и апофатично; ἕν не смешано и не причастно ничему. Все, что находится ниже его, смешано и причастно, хотя и относительно и на каждом уровне проявления в разных пропорциях.
Неоплатонизм оперирует с тремя базовыми моментами, объясняющими устройство метафизики и онтологии: μονή («неизменное сохранение тем же самым»), πρόοδος («выход за свои пределы», на латыни — «emanatio»), ἐπιστροφή («возврат в изначальное состояние»). На таком циркулярном порядке устроено бытие. При этом ἕν, не участвуя и не пребывая ни в чем и нигде, озаряет собой все бытие. Интенсивный контакт с трансцендентным и неприкосновенным ἔν конституирует божественные «генады», т. е. лучи сопричастности с тем, к чему ничто не может быть сопричастно. Генады различаются между собой по степени насыщенности апофатическими лучами и образуют множественные иерархические уровни бытия, нисходящие постепенно от ἔν в сторону космоса — и так вплоть до его пределов. Пределом всего процесса развертывания ἕν служит материя (чаще всего неоплатоники понимают ее в духе Аристотеля как ὓλή, а не как платоновскую χώρα).
Единое исходит (πρόοδος) из себя и конституирует единое-многое, оно же сущее. Здесь начинается область ума (νοῦς), ноэтический космос или сфера высших божественных генад. Зона божественного ума бескрайняя и обширная и, начиная с неоплатоника Ямвлиха через Сириана до Прокла и Дамаския, ей уделяется центральное внимание в рассуждениях философов этой школы.
Выделим самое общее: в Уме есть три основных уровня: высший — умопостигаемый (νοητός), средний — умопостигаемый/умопостигающий (νοητός / νοερός) и нижний умопостигающий (νοερός) или демиургический. Иерархия здесь подчеркивает платоновскую версию происхождения космоса: демиург созерцает идеи и творит по их подобию мировую душу и космос. Поэтому то, что постигается умом (интеллигибельное), стоит выше того, что его постигает (умопостигающее, интеллективное). В структуре ума (νοῦς) высший уровень умопостигаемого остается всегда тождественным самому себе, на среднем уровне он выходит за свои пределы, а дойдя до умопостигающего, возвращается назад к истоку.
Ум — это второе начало. Оно же есть сущее, единое-многое, единое-двойственное, единое-тройственное. Из всего сущего это самое единое и самое высшее.
На нижнем уровне ума располагается демиургическая зона, которая по-вторяет весь процесс — сохранение, выход за пределы, возврат. Демиург испускает богов (новые боги), которые делятся на три главные категории: сверхкосмические, азональные (или свободные) и внутрикосмические. На всех уровнях повторяется сохранение в себе высших начал, выход за пределы средних и возвращение низших, замыкая цикл, снова к высшим. Такой умной жизнью живет божественный космос.
Далее, демиург творит мировую душу, ψυχή, в которой единое и многое уже расходятся; единое на стороне души, многое на стороне феноменального космоса.
Три начала — единое, ум, душа — составляют главную триаду. И в ней снова три момента — постоянство, исхождение, возвращение.
На уровне души и, в каком-то смысле, под ней, на ее периферии — располагается мир эйдетических серий, нисходящих к материи. Тела — это эйдетически оформленная материя, со всех сторон окружаемая и опекаемая интенсивной божественной жизнью. Боги, ангелы, демоны, герои, души пронизывают мир стрелами посвящения (телетархия) низших в высшее и передают умную жизнь от высших к низшим. Чувственный космос есть не просто копия, икона умного космоса, но и его живое выражение. Поток становления, череда смертей и рождений и снова смертей есть замкнутое на себе отражение иного, вертикального времени, которое развертывается перпендикулярно времени космическому и состоит из постоянства вечности, выхода за пределы и возврата. Неоплатоник Прокл говорит, что время — это то, что падает, нисходит сверху вниз, от образца к копии и ниже к чистой материи.
Человек закрывает глаза
Человек в такой картине мира также есть звено в общей цепи постоян-ства, исхождения за пределы и возврата. Будучи телесным, он стоит на довольно низкой ступени, но при этом имеет живую душу и ум, а, следовательно, снабжен всем необходимым для возврата, επιστροφή, который составляет судьбу и задачу людей. Мы ушли, чтобы вернуться. Погрузились в материю и обрели тело, чтобы с ними расстаться, оттолкнувшись от крайней границы космоса и начать восхождение, полет. Полет — сущность человека как существа крылатого. Отсутствие крыльев есть унижение и аномалия. Небесная Родина неумолимо тянет к себе. Философ слышит ее зов ясно и отчетливо, отвечает на него размышлением и молитвой. Он отращивает крылья души и собирается домой.
Познание в таком мире достигается через «закрывание глаз» (Плотин). Единое невидимо, т. к. апофатично. Генады невидимы. Все самое важное невидимо, но стремиться надо именно туда, двигаясь внутрь и вверх. Вовне есть только путаница. Знающий себя знает все, т. к. он знает душу и ум, а они получают посвящение от вышестоящих еще более лучших родов. Вовне же только заблуждение, мутные отсветы и уводящая от сути суета.
Все круги космоса принципиально одинаковы, различается только плотность материи и, соответственно, интенсивность жизни и ясность мышления. В лучшем мире все кристально понятно всем. В менее лучшем (платоники вообще не произносят слов «плохой», «дурной», «злой») — не всем. В еще менее лучшем — все понятно малому числу. Отсюда политическая задача платонизма — правильное мышление есть возврат, вокруг оси возврата должна выстраиваться социально-политическая конструкция лучшего общества. Править должны философы-созерцатели, закрыв глаза. А остальные должны смотреть на них и вдохновляться. Все внутри. Все во имя возврата.
Локализация нашего положения в неоплатоническом космосе
Если мы поместим себя в картину платонического космоса, то окажемся в пространстве крайней материальной периферии, ниже которой двигаться нель-зя. Это наименее лучшее из возможных устроений. Наименее лучшее из общественных устройств. Вокруг нас наименее лучшие из демонов, населяющих материю. Наименее лучшие из душ. И наименее ясные из умов. Они толпятся на самой дальней орбите выхождения за пределы и совсем не торопятся возвращаться. Медлят, путаются, толкаются и тем самым делают возвращение проблематичным для себя и для других. Возня наименее лучших заслоняет солнце, помрачает сознание, делает невозможной науку, т. к. все понуждают друг друга влезать все глубже и глубже в материю, которую понять невозможно, потому что в ней нечего понимать (материя неинтеллигибельна).
С неоплатонической точки зрения мир, в котором впервые открылась фигура Радикального Субъекта, расположен на последнем, «наименее лучшем» из всех этапов выхождения за пределы, на грани с самой материей, на самой дальней периферии космоса, где кончается порядок, красота, истина и благо, и взамен ничего не начинается. Мы имеем нырнувшее в материю сборище наименее лучших душ, умов-самоубийц.
Переключение режима и точка возврата
Классический неоплатонизм говорит: επιστροφή начинается там, где заканчивается πρόοδος. В этом месте происходит переключение режима. Изменение траектории. Эта проблема заботила Плотина и его последователей. Почему бы исхождению за пределы не остановиться на уровне сияющего ума? Зачем нисходить в проблематичную демиургию и опускаться до все менее и менее лучших серий, вплоть до современного общества (ниже которого спускаться некуда)? Неоплатоники объясняли это так: единое является, прежде всего, благим, добрым (по Платону), а это значит не жадным, не завистливым. Оно хранит себя не только для себя, но и для другого, хотя никакого другого нет и быть не может. Поэтому оно выступает за свои пределы и гипостазирует сущность, т. е. ум. А тот гипостазирует душу. А душа — космос. И так вплоть до последних пределов космоса и населяющих его несчастных душ. От щедрости апофатического единства обретают бытие все — включая менее лучших и даже самых нелучших из наименее лучших, ведь и сам ум намного менее лучшее, чем единое.
Так возникает апология демиурга, жестко отличающая неоплатоников от гностиков, манихеев и дуалистов. Демиург благ, т. к. он созерцает умопостигаемую единую сущность, высшие генады. Тем самым он возвращается в своем умопостижении к истоку. Но он продолжает практику щедрости выс-ших инстанций, выступает за свои пределы, чтобы привести к жизни менее лучших. В каждом возврате предполагается доля продолжения выхода за свои пределы. И щедрое время, перетекая через край кипящего кубка единого и далее все ниже и ниже, достигает нижнего предела и этим достижением его конституирует.
Граница
В какой-то момент развертывание космоса (во времени) достигает границы. На этой границе менее лучшее касается такого еще менее лучшего, что еще менее лучшего представить себе уже нельзя. Это внутрикосмическая грань всеобщего возвращения. Дно платоновской пещеры. Мы вышли, достигли предела, уперлись в небытие апофатически внеинтеллигибельной материи, спускаться больше некуда. Мы на дне. Значит, остается только одно — возвращаться.
Но что возвращается? Возвращается то, что вышло за свои пределы. Традиция отсылает саму себя к границе, сталкивается с ней (это и есть «современный мир», как понимали его Р. Генон и Ю. Эвола) и возвращается. Традиция пульсирует. Открывается и скрывается. Это цикл. В исмаилитском гнозисе это называется «мобда ва ма’ад», «исхождение и возвращение». В этом состоит динамика сакрального.
Радикальный Субъект на границе материи
Теперь зададим трудный вопрос: а может ли возникнуть на периферии космоса, на грани с материей нечто, что не является лучом выхода единого за свои пределы, что не включено в πρόοδος? Если бы материя умела рождать сама, наверное, могло бы. Но она — ничто, а ничто стерильно. Не ничто порождает человека. Смерть Бога порождает человека — как то, что остается после нее. Когда Бог умирает (удаляется/возвращается в себя), все что было к Нему причастно, умирает (удаляется/возвращается в себя) вместе с Ним. Остается лишь ничто. И если человек не возвращается все дольше и дольше, если все длится и длится хайдеггеровское «noch nicht», «все еще не», «задержка», то и он аннигилируется, испаряется, превращается в мелкого демона, утопающего в материи, время от времени повизгивающего оттуда в ночь.
Этот мир, откуда все сакральное ушло, вернувшись к себе, и составляет зону пробуждения Радикального Субъекта. Вдруг внезапно (ἐξαίφνης) обнаруживается инстанция, которая не умирает/удаляется/возвращается вместе с Богом к Богу, но и не тождественна ничто? Вот принципиальный вопрос Новой Метафизики. Как на периферии, на границе космоса, на грани материи, в моменте Конца возникает нечто, что не является ни материей, ни частью пульсирующего ритма в круговращении вертикального времени — исхождение/возврат?
Все должно было бы вернуться, и мы должны были бы взбираться по лучу спасения, раз опыт материи исчерпан и исхождение достигло дна.
Здесь-то и брезжит подозрение о Радикальном Субъекте как о некой уникальной сущности, для которой, видимо, эта нижняя граница материи не является непреодолимой преградой. Для космоса и всего ноэтического его устроения, — да, преграду материи обойти нельзя. Как только она достигнута, надо возвращаться. Так говорит Традиция. Так того хочет сакральное. Мы достигли предела, теперь назад. Но есть какая-то инстанция, для которой это не предел, которая предлагает сделать еще один шаг дальше. Онтологического места для такого шага нет. Материя — это непроницаемая стена ничто. Ее неинтеллигибельность гарантирует, что дальше нее, ниже нее шагнуть нельзя. Это все абсолютно правильно и принадлежит внутренней логике умного порядка, наилучшего порядка.
Вспомним о ἕν
Однако если мы вспомним о ἕν, едином, которое апофатически предшествовало всей этой эманационной модели, и если мы обратим внимание на то, что главным и высшим (наилучшим) в трех моментах неоплатонической диалектики является именно сохранение в себе (μονή), которое делает любой выход за пределы, и соответственно, любой возврат чем-то относительным, то возникает вопрос: могут ли для единого существовать вообще какие бы то ни было преграды? Остановилось ли бы единое, столкнувшись с материей? Оно ведь не является сущим, оно лишь гипостазирует сущее. Значит, оно свободно от законов, которыми управляется все устроение внутри сущего. Но материя как граница и есть один из элементов устроения сущего в согласии с умом.
Возникает странное подозрение, что вся драма космоса, вся напряженность вертикального времени, вся острота сакральной диалектики и драма сакральной истории сводятся к этому уникальному моменту.
Сможет ли Радикальный Субъект сделать шаг сквозь материю, за нижний предел манифестации? В ограниченном логическом космосе за этим пределом ничего нет, но для апофатического единого не может быть пределов, не может быть дуальностей. И хотя πέρας, предел — это наилучшее, а беспредельность, ἄπειρον — намного менее лучшее, все же и πέρας не совпадает с Единым.
Трансгрессия через материальный предел вниз, парадоксальный возврат по иному непредвиденному маршруту — возможно ли это? В классическом платонизме — нет. В Новой метафизике Радикального Субъекта — да. Более того, именно это и составляет ее смысл.
Одним дыханием больше
Нечто подобное встречаем у Хайдеггера в эссе «К чему поэты?» Разбирая стихи Рильке[287], он объясняет, что поэт имел в виду, говоря, что «люди — это те, кто рискует одним дыханием больше»[288]. Все существующие рискуют. Летит птица — она может попасть под выстрел охотника. Бежит заяц — он может оказаться в зубах волка. Идет старик — он может погибнуть от упавшей с крыши сосульки. Все рискуют. Люди также рискуют, но есть люди, несколько лучшие, чем остальные — философы и поэты, которые рискуют «одним дыханием больше». В этом платоническом космосе их риск невелик, там сакральное всегда обеспечит переключение режима на возврат в нужный момент. Но в концепции Радикального Субъекта риск, действительно, становится серьезным. Хайдеггер цитирует фразу Гельдерлина: «Там, где есть опасность, там коренится спасение»[289].
В этом смысле Новая Метафизика и предлагает превратить яд в лекар-ство. Это «оседлать тигра», по Эволе. Но все здесь приобретает новое значение.
Посвящение без визита
Есть еще одно направление в Традиции, которое отчасти резонирует с тематикой Радикального Субъекта[290]. Это философия Ишрак, основанная Шихабоддином Яхья Сохраварди. Сценарий инициатических рассказов Сохраварди начинается именно с ностальгии[291]. Экзистенциальное описание этой ностальгии подчас довольно близко к приводимым выше примерам. Однако везде, во всех инициатических рассказах Сохраварди, первый опыт сакральной ностальгии сопрягается с визитом, с посещением, т. е. снова именно с Традицией. Кто-то напоминает посвящаемому о том, что пришло время возврата и открывает глаза души, возрождая в памяти образ оставленной небесной Родины. Это может быть Пурпурный Архангел или Хизр. Каббалисты говорят о посещении пророком Ильей, с чего начинается каббалистическая практика[292]. Обязательно должен быть кто-то, кто бросает в нас зерно ностальгии, кто посвящает в маршрут по возвращению на Родину, кто вселяет в нас боль.
Единственное отличие Радикального Субъекта в том, что в него никто никакого зерна не всеивает. К нему никто не приходит. Нет факта посвящения. Нет фигуры Ангела-Посвятителя. Есть только жуткое самопосвящение с помощью ничто. Самопосвящение в чистую боль, которая позволяет понять структуру инициатического акта, но только со стороны еще более глубокой тайной и невыразимой структуры, не связанной вообще ни с какой феноменологией, в том числе даже с феноменологией инициации.
Глава 21
Философия воды Евгения Головина
Евгений Головин и философская карта
Наследие Евгения Головина относительно невелико. Оно состоит из пяти книг эссе и лекций («Приближение к Снежной Королеве»[293], «Веселая наука (протоколы совещаний)»[294], «Серебряная рапсодия»[295], «Мифомания»[296], «Там»[297]), поэтического сборника «Туманы черных лилий»[298], книги с текстами песен «Сумрачный каприз»[299], нескольких интервью, рецензий и предисловий к разным авторам, цикла переводов (Жан Рэ, Гуго Фридрих, Томас Оуэн, Ганс Эверс, Луи Шарпантье, Титус Буркхардт и т. д.) и песен, написанных и исполненных самим Головиным[300]. На первый взгляд, тексты представляют собой несколько обрывочные и разрозненные фрагменты, где блистательная эрудиция и тончайшая ирония соседствуют подчас с экстравагантными выводами, сбоем логических построений и необоснованными синкопами. Стиль Головина сознательно энигматичен и провокативен: каждое утверждение или цитата находятся в строгой оппозиции к тому, что представляет собой банальность. Высказывания Головина заведомо не согласуются с тем, что читатель (слушатель) готов услышать, с тем, что могло бы опознаваться как нечто, пусть отдаленно, понятное и известное, резонирующее с чем-то априорно данным. Так говорят пророки и поэты, выстраивая неожиданный дискурс, сбивающийся на глоссолалию или абсурд, но постулируя его как новую и неожиданную меру, которая в дальнейшем будет освоена и сама выступит референцией для интерпретации и дешифровки других текстов. Влияние, которое Евгений Головин оказал на «Московскую школу Новой Метафизики» (куда кроме него входили писатель Юрий Мамлеев и философ Гейдар Джемаль), настолько велико, что требует обратить на его наследие особое внимание и попытаться структурировать оставленные нам фрагменты в форме философской карты, им намеченной, но не доведенной (скорее всего, сознательно) до стадии законченного учения.
В каком-то смысле Головина можно сравнить с мастерами школ дзэн-буддизма, которые подчас оставляли после себя серию коанов, разрозненных рекомендаций, стихотворных обрывков, сакральных жестов и чудесных явлений, приводимых позднее в систему плеядами благоговейных и благодарных учеников. Так, собственно, систематизировал лекции и уроки Плотина неоплатоник Порфирий, составивший «Эннеады», тогда как сам Плотин предпочитал при жизни передавать свое учение только изустно. Евгений Головин также ценил прежде всего живой язык: беседы или лекции, в ходе которых создавалась уникальная экзистенциальная и психологическая ситуация, где все высказывания, намеки, ссылки и имена приобретали совершенно специфический смысл. Это был своего рода сигнификационный пакт, заключаемый им на глазах собеседников или аудитории с какими-то неочевидными могуществами, дававшими о себе знать как раз через эти ощущаемые всеми, но трудноуловимые смыслы. И вновь ситуации, в которых Головин развертывал свой дискурс или искусно строил модерируемые диалоги, имели много общих черт с практиками дзэна, т. к. подчас незаметно переходили границы рациональных конструкций и провоцировали мгновенный «разрыв сознания», «короткое замыкание», во многом аналогичное сатори. Этот экзистенциальный и инициатический драматизм и специфическую (подчас, зловещую) экстатику в текстах Головина выявить не так просто, и ключ следует искать в живом опыте людей, которые Головина знали лично и непосредственно, принимали участие в его мистериях и были внутренне задеты его ни с чем не сравнимым метафизическим обаянием, граничащим с ужасом и восторгом одновременно. Ужас и восторг в нерасчленимом виде суть признаки сакрального, по Р. Отто[301]. Поэтому говорить о сакральном измерении личности Головина вполне уместно.
И вместе с тем все это в целом — и его тексты, лекции, статьи, комментарии, и свидетельства о его радикальных коммуникативных практиках — на определенной дистанции и при должном внимании вполне складываются в определенную философскую картину. Эту картину сам Головин предпочитал не раскрывать и не обозначать эксплицитно, и скорее всего, сознательно скрывал, но ее контуры постепенно проступают все отчетливее, и мы можем предложить первую гипотетическую интерпретацию этой философии, что, впрочем, совершенно не исключает того, что другие исследователи и философы предложат альтернативные варианты. Фундаментальность фигуры Евгения Головина и его значение для наступления русского Бронзового века (который, впрочем, может и не сбыться) столь велики, что никто не может претендовать на то, что исчерпал эту тему и поставил в ней точку.
Платоник железного века
В основе философского мировоззрения Головина лежал неоплатонизм. Именно к нему в первую очередь имплицитно апеллировал Головин в любых текстах и любых ситуациях. Это было его внутренней системой координат, которую он блестяще и досконально усвоил, изучая как самих неоплатоников (от Плотина, Ямвлиха, Прокла и Дамаския до Марсилио Фичино и Агриппы Неттесгеймского), так и несметное количество работ, им посвященных. Но самое принципиальное состояло в том, что Головин не просто знал платонизм, но что он полностью и глубинно принимал его как совершенно верную, единственно верную и в то же время практическую, оперативную карту реальности. Неоплатонизм в его разных измерениях был не просто фактом прошлого или историко-философским периодом, он был истиной, верной для всех изданий времени — для прошлого, настоящего и будущего. Евгений Головин был полноценным и ортодоксальным неоплатоником в эллинской версии поздней Академии, оперировавшей с политеистической теологией и легко включавшей в свой контекст мифологические и религиозные мотивы иных традиций. Важно при этом, что он не концентрировал приоритетно свое внимание на неоплатонических текстах и темах, т. е. неоплатонизм не был для него объектом, предметом специфического изучения. Он ассимилировал нео-платонизм как руководящую истину своего бытия и в таком качестве был субъектом неоплатонизма, излучал неоплатонизм из собственного центра, неоплатонически осознавал самого себя и окружающий мир. Этот мир для Головина состоял из эйдетических рядов, соединяющих любой предмет нижнего мира с его парадигматической сущностью, скрытой на той стороне.
«Истинное бытие возникает при вхождении небесного эйдоса в соответ-ственную материю, при насыщении материи «семенными логосами» (logos spermaticos). Однако материальному субстрату от природы присущ эйдолон или скрытая субстанциональная форма, которая определяет “качество” или “энергийную душу” каждой вещи. Жизнь, в отличие от “истинного бытия”, стихийный природный процесс, бесконечное и бесцельное “становление” без каких-либо закономерностей и дефиниций, ситуация змей кадуцеи до прикосновения небесного эйдоса (жезла Аполлона)»[302], — писал Головин.
Но пребывая в мире, построенном на альтернативных, антиплатониче-ских претензиях, с нормативами, радикально от платонизма отличающимися, Головин ощущал себя «в центре ада». «Там где мы, там центр ада». Эти слова принадлежат ему. Трагизм такого мира состоял в том, что находящиеся в нем вещи и управляемые вещами могущества подняли восстание против небесных архетипов, оборвали эйдетические ряды, завязав их в узел, выставили себя как автономные и самодостаточные, рационально-материальные объекты и законы. Подлинный мир, мир как он есть, был завален лже-миром, пропорции в котором были диаметрально перевернуты, выходы замурованы, а души схвачены жесткими лапами взбунтовавшейся материи. Лишь отдельные безумцы, пророки, романтики, визионеры и философы ценой своей жизни, души, разума изредка пробивали в этой толще спасительные отверстия, приоткрывающие горизонты неоплатонической действительности, где вещи и люди, пейзажи и мысли были связаны со спасительной стихией световой эйдетической жизни. Каждое такое отверстие для неоплатоника, заточенного в подземелье современного мира, было источником восторга и изумления.
Яснее всего сам Головин повествует об этом в программном и, быть может, самом эксплицитном тексте «Артюр Рембо и неоплатоническая традиция»[303].
«Итак, чем дальше уходит «действительность» от небесного принципа или «единого», тем менее заметен на ней след истинного бытия. После гибели героических цивилизаций человеческие «события» — только все более тускнеющие блики героического огня на развалинах древних храмов. Только страдание и боль удостоверяют нашу “реальность”. “Истинное бытие отсут-ствует. Мы живем не в мире,” — сказал Рембо. Где же тогда? В разнузданных стихиях, в толпе, в группе. Мнимую устойчивость нашему существованию придают чисто условные иерархические порядки, произвольно выбранные системы измерений. Если смягчить безусловно отвергаемый христианством максимализм языческих неоплатоников и если учесть растворение христианства в иудео-христианстве, то катастрофу с “действительностью” можно отнести ко времени позднего средневековья. Началась, говоря языком гипотез “Парменида”, жизнь “иного” при отсутствии “единого”. Жрец, потеряв свою магическую силу, превратился в клерикала, герой-рыцарь, всем обязанный своей доблести и мужеству, — в дворянина, зависящего от своих предков и своего класса. Индивид стал распадаться на “сумму дискретных качеств”; лишенные внутренней связи компоненты индивидуального микрокосма принялись объединяться в групповой и социальный макрокосм. Началась эпоха “новой философии”, иронически воспетая Джоном Донном в конце шестнадцатого столетия:
“New Philosophy calls all in doubt…”
“Для новой философии сомнительно все. Элемент огня исчез. Солнце потеряно и земля, и никто теперь …Не может сказать, где их искать.
… Кругом только обломки, связи разорваны …”»[304]
Эта картина реальности, пребывание в контексте восьмой [305] гипотезы платоновского «Парменида», где единое потеряно и повсюду лишь беснуется предоставленное самому себе многое, были единственной данностью, с которой имел дело Головин. Он, как и неоплатоники, знал, что только первые четыре гипотезы, основанные на утверждении единого, соответствуют космосу как возможному и действительному. Но при этом он оказался в пространстве, где реализовались на практике вторые четыре гипотезы, которые, согласно Проклу, являются чистыми абстракциями и существовать не могут. То есть «современность» для Головина была невозможным и недействительным миром, которого быть не могло и не должно, но который вопреки всему был. Быть настоящим миром он (по словам Рембо) не мог, а значит, был чем-то иным. Головин перечисляет то, что является его экзистенциальным врагом: «разнузданные стихии», «группа», «толпа».
Все эти отрицательные термины подсказывают ориентиры сопротивления. Стихии необходимо упорядочить. Это составляет герметическую программу философии Головина. Реорганизация стихий, работа с ними, их осмысление составляет важнейшую ее ось. В определенном смысле, его философия есть философия стихий, реализуемая на практике через борьбу с их «разнузданностью». Первая оппозиция: «разнузданные стихии/упорядоченные стихии».
Вторая оппозиция: «группа/индивидуальность». Индивидуума Головин понимал особым образом. Для него это понятие означало не особь, не данность конкретного человека, но героическое задание построения особой иерархической сущности, организуемой вокруг вертикали духа через сложную последовательность операций, направленных на закалку души, превращение ее в золото. Человек возникает как деталь группы. И как таковой он пребывает в социальном гипнозе с рождения до смерти. Считая себя единст-венным и неповторимым, человек не более чем серийная модель, механизм с нулевой степенью свободы. Индивидуум — это прорыв к пробуждению, к обретению или построению Selbst, независимого от онтических ограничений «я». В одном эссе Головин противопоставляет два понятия: «человек» и «люди».
«Человек и люди — нечто совершенно различное. Это элементарная истина.
Между прирожденными «индивидами» и прирожденными «людьми» существует много персон, которые до конца дней своих не могут разрешить данной дилеммы. Кто они? Независимые и самостоятельные индивиды или частицы хаотической людской массы, время от времени объединяющейся вокруг очередного пророка, лидера, демагога? Ответить на этот вопрос действительно нелегко, поскольку мы вот уже четыре века живем в режиме нарастающего, всепоглощающего социума»[306].
В своей лекции об алхимии Головин развил идею «свободного двойника». Человек как социальное явление не может быть свободен. Он целиком и полностью заточен в цепи причинно-следственных связей. Он есть тот, кто не свободен и не может быть свободен по определению. У него есть только один способ освободиться: магически сконструировать, вырастить в своей душе «свободного двойника», по отношению к которому обычная личность будет лишь тенью и недоразумением.
Толпа есть группа или группы, организованные по принципу разнузданных стихий. «Разнузданные стихии» соответствуют извращенному объекту. Группы — закабаляющей псевдо-субъективности. Их наложение друг на друга дает концепт «толпы». В толпе падшая, оторванная от небесных могуществ природа сливается с выродившимся саморепрессирующим человечеством. Так, мы имеем особую среду, своего рода онто-антропологический гибрид, представляющий собой матрицу «современного мира». Она находится на одном полюсе. На другом полюсе — «истинное бытие», построенное по прямо противоположным лекалам: в нем прозрачная одухотворенная природа сопряжена с царственным маго-героическим субъектом, медиацией теургической воли и диалектикой созерцания. Толпа vs истинное бытие — таковы крайние пределы философской топики Евгения Головина. В понятие «толпы» вкладывается все современное: наука, общество, промышленность, техника, время, пространство, города, культура, быт, история. Головин пишет:
«Человек превратился в механизм, и ничто механическое ему не чуждо. Но подобная центральность и всезащищенность имеет все же существенный недостаток: всякий механизм всецело зависит от источников энергии. Автомобили работают на бензине, человеческий фактор — на деньгах. Этот фактор функционирует по двоичной системе: работа–деньги. Люди, разумеется, пишут книги и картины, влюбляются, путешествуют, вернее, думают, что они это делают. Человек новой эпохи — имитатор Творца, имитатор природы, создатель вторичной или, как сейчас говорят, «виртуальной» реальности, которую он воспринимает «виртуальной эмоциональностью». Он старается отгородиться от изменчивой, непредсказуемой, импульсивной жизни, моделируя эрзацы религии, метафизики, истории, любовного переживания, даже еды и алкоголя»[307].
Такой диагноз, быть может, не нов и не оригинален, но что является новым и оригинальным в философии Головина, так это радикализм, с которым он настаивает на вполне конкретной, определенной и четко оформленной программе: программе волевой и героической реставрации «истинного бытия», понимаемого как мир открытых эйдетических сетей.
Термин «открытый» (в таких сочетаниях, например, как «открытая герметика»[308]) для Головина является программным. «Толпа» своим бытием, своим движением, своей вездесущестью целенаправленно и действенно закрывает мир. Человек сводится к механическим функциям и раз и навсегда зафиксированному самотождеству: он больше не может быть ни богом, ни демоном, ни зверем, ни сгустком звездного света, ни игрой великой жизни (ζωή); он просто человек, человек и ничего больше. Головин восстает против такого человека, отвергает его. То ничего, которое есть «ничего больше», насыщается им зловещими энергиями, обретает рискованный онтологический и энергетический объем, зреет кровью ужаса и пеной восторга, чтобы однажды взорваться поэзией или безумием и открыть человека — в любую сторону, прорвать его дно или проломить стропила крова. Открытый человек — это всегда нечто дополнительное к человеку.
«Человек не обязательно должен быть братом, товарищем или волком другому человеку, и вовсе не обязательно должен иметь с ним что-либо общее. И физически, и психологически человек способен чувствовать родство с тем или иным зверем, деревом, камнем, звездой, ассоциировать себя с объектами совершенно внечеловеческими и испытывать их магико-метафорическое влияние. Точно так же через человека могут проникать и в человеке пребывать сущности иной природы»[309].
Выражение «через человека могут проникать и в человеке пребывать сущности иной природы» Головин понимал не метафорически, а экспериментально. Современность готова допустить подчас Бога (пусть как экспликативную гипотезу или каузальную фигуру), но категорически не рассматривает самой возможности бытия ангелов или демонов. В некоторых случаях о Боге можно услышать нечто с профессорской кафедры, но всерьез заговоривший о разумных и волевых сущностях нечеловеческого порядка, страшно рискует репутацией «нормального человека» и имеет все шансы быть принудительно госпитализированным. Для Головина открытие человека «сущностям иной природы» не было метафорой; и если для этого был необходим психоделический опыт или крайняя интоксикация на грани или даже за гранью потери рассудка, а последствиями — «признание невменяемым», это его не останавливало. «Толпа» могла расценивать этот жест как угодно. Для Головина человек был тем, что надлежало открыть.
Точно так же, как философия Головина и ее практические операции были направлены на открытие человека, так же он относился и к природе. «Толпы» современности заточили природу в объект, сделали ее предметом для извлечения прибыли. Головин открывает иную природу: живую, действующую, говорящую. Он деликатно исследует «проблему восхода солнца»[310], духовные свойства чеснока[311], зверобоя[312], калины[313] или мака[314], свойства камней[315] и металлов[316]. Не останавливаясь перед эпатажем, он всерьез и со знанием дела рассуждает о магии вообще и о «женской магии», в частности, о «ведьмах и растениях», о «шутовской медицине». Все вместе это описывает, точнее, намечает поле «открытой природы», выпущенной из темницы утилитарного, возвращенной к золотым нитям, связывающим земное и небесное, металлическое и звездное, телесное и духовное.
«Истинное бытие» неоплатоника созидается через два взрыва одновременно: синхронно взрываются оба полюса, субъект и объект, с тем, чтобы из них проявился новый мифогерметический порядок — «магический мир героев» (Чезаре делла Ривьера[317]).
Срезы космоса
Неоплатоническая философия Головина никогда им самим не излагалась системно и отчетливо. Он всячески избегал концептуальных форм выражения своих взглядов, хотя классическую философию — от Платона и Аристотеля до Ницше, Кассирера, Ортеги-и-Гассета и Хайдеггера — знал превосходно. Это имело свои глубокие причины. Они заключались в специфике понимания им философии. Однажды Рене Генон заметил, что единственной по-настоящему ценной формой философии в Европе с эпохи Средневековья была «философия огнем» (la philosophie par le feu), т. е. герметизм и алхимия. Только то, что является «философским» в том смысле, в каком «философ-ским» является «философский камень», заслуживает этого названия. Евгений Головин мыслил приблизительно так же. Поэтому философия для Головина была в первую очередь и почти исключительно практикой. Отсюда вытекает и его безразличие к текстовому оформлению своих идей: они были для него осью жизни, силовыми линиями живого экзистирования в мире, а не набором отвлеченных схем. И тем не менее его философская практика имела довольно строгую структуру, которую можно выявить из оставленных им фрагментов и эскизов, а также из личного опыта общения и обширной (нео) мифологии, которая сложилась вокруг него с 60-х годов ХХ века в узких кругах, так или иначе примыкающих к Московской школе Новой метафизики.
В чем заключалась сущность философской практики Евгения Головина? Ее можно описать как решение проблемы первых двух космических элементов: земли и воды. Головин однажды сказал: «Я работаю только с двумя стихиями — с землей и водой». В этой фразе ключ к его творчеству и его фигуре.
В духе неоплатонического видения эйдетических рядов и учения об эманациях можно представить себе мир состоящим из совокупности горизонтальных сечений, уровней, слоев. Подробная номенклатура этих слоев — от умозрительного (ноэтического) космоса к космосу чувственному (эстетическому), включая множество промежуточных уровней и пересечений — у разных неоплатоников описана по-разному, в соответствии с их персональными системами, а часто и их конфессиональной принадлежностью (у христианских, исламских и иудейских неоплатоников эти уровни, естественно, оформлены в соответствии с теологическими догматами этих религий). Но в целом эта структура типологически едина.
Сверху расположено апофатическое единое, ἕν. Оно недоступно, непо-знаваемо и невыразимо, превосходит и бытие и знание. Ниже расположено чистое бытие, содержащее в себе прообразы всех вещей мира. Это чистое бытие представляет собой верхнее сечение вселенского ума (νοῦς). Нижнее сечение ума относится к демиургу и называется поэтому «демиургическим» (τομή δεμιουργική). Здесь кончается умный космос и начинается мир феноменов, телесный космос. Этот телесный космос также структурирован иерархически: небесная материя, светила, звездный свет, вращающиеся циклы планет представляют собой верхнее сечение космоса. Планетарные сферы нисходят все ниже и ниже, вплоть до сферы Луны, выше которой располагается небо, ниже — подлунная зона рождений/смертей (генезическая область непрерывных трансформаций). И, наконец, в этой подлунной сфере есть четыре сечения, выстроенные по нисходящей — слой огня, слой воздуха, слой воды и слой земли.
Об элементах-стихиях Головин пишет:
«Каждый содержит три остальных в латентном состоянии, нельзя химически выделить «чистый» элемент. Имя указывает на доминацию того или иного элемента над тремя другими. Когда говорят «земное тело», имеют в виду следующее: в данной композиции огонь, воздух и вода обусловлены землей и действуют в режиме земли. Земное или физическое тело отличается тяжестью, инерцией, косностью, его развитие зависит от степени возможного контакта с телом субтильным, ибо душа или аутодзоон (ничем не спровоцированная жизнь, жизнь сама по себе) активизирует кровь и сердце»[318].
Все слои пронизаны вертикальными нитями, которые являются каналами циркуляции умной жизни: они могут рассматриваться философски как траектории соединения вещей с их ноэтическими истоками, идеями, а могут и теологически (теургически, магически) как вертикальные иерархии богов, ангелов, демонов, героев и душ, посвящающих друг друга в мистерии возвышения (в этом случае неоплатоники говорят о «телетархии» — вертикальной организации, где каждый высший элемент посвящает в мистерии низшие, открывая им путь к возвышению и высшим сечениям). На верхних уровнях Вселенной эти вертикальные нити (эйдетические ряды) прозрачны и очевидны. На низших — скрыты, проблематичны и кое-где оборваны. Дальше всего от мира идей — слой земли, ниже которого располагается только чистая материя, не интеллигибельная и ничего в себе не содержащая, не соединенная ни с какими высшими регионами, кроме обратного указания собой на апофатическую природу невыразимого Единого.
Такая структура является вечной и неизменной. Движение же она приобретает от времени, которое является строго вертикальным, течет сверху вниз (Прокл). Время проистекает из источника вечности (ноэтический космос), проходит через демиургическое сечение, где обретает действительность, вовлекает в циклическое движение небесные сферы и светила, опускается до сферы Луны, ниже которой превращается в цепь постоянных телесных метаморфоз и сменяющих друг друга рождений и смертей, пока не упирается в плотную стихию земли, где и застывает. Время подобно водопаду, о котором говорится в Псалтыри: «Бездна призывает бездну в гласе водопадов Твоих» (Пс. 41, 8). «Abyssos abyssum invocat in voce cataractorum tuarum». Бездна апофатического единого и бездна неинтеллигибельной материи составляют два метафизических предела, между которыми и расположен темпоральный водопад (или несколько водопадов — как несколько потоков вертикального времени). «Глас» водопадов, vox, φωνή — это призыв двигаться к истокам водопада, против течения времени. Это смысл пророчества (про-рок — тот, кто про-рекает, старо-славянское «рцети», откуда «речь», что означает «произносить нечто в полный голос»), но вместе с тем и рок как нечто изреченное изначально (Глагол, Слово) и распространяющееся в силу космической предопределенности сверху вниз.
Задача неоплатоника — двигаться по этой вертикальной пророческой реке времени в обратном направлении, а это значит — к вечному верху. Головин неоднократно противопоставлял алхимию астрологии. Астрология изучает путь движения времени сверху вниз и по горизонтальным кругам одного и того же, т. е. структуры рока, предопределяющего мироздание сверху вниз. Алхимия движется в прямо противоположном направлении — от подземных глубин, где зреют семена металлов, посеянных звездным светом (метафора человеческих душ, что мы находим уже в «Государстве» Платона), к небесным сферам и выше, сквозь демиургическое сечение, к мирам чистых идей, к бессмертию и вечности, к воспоминаниям об изначальной божественной природе, спустившейся в ад души. Поэтому алхимия идет против рока и против звездных законов — к высшей надмирной свободе. И поэтому она является «делом одиноких мужчин», героев, как любил цитировать Головин слова Г. Башляра[319].
Земляной абсолют
Каждый срез космоса — это целый мир. Чем выше этот срез, тем больше онтологического содержания он включает в себя (в первую очередь, те сферы, которые находятся под ним) и тем ближе он к ноэтическому космосу идей. Самый нижний слой — тот, где время застывает и обращается в камень, это мир стихии земли, земляной мир. Именно этот мир дан нам как внеш-няя телесная оболочка. И более того, когда стихия земли становится доминирующей, эта телесная оболочка начинает претендовать на самодостаточность, полностью поглощает собой все остальные стихии и более высокие уровни бытия. В мире земли все есть только телесная оболочка, и в пределе — телесная оболочка без содержания.
Стихия земля — это очень серьезная реальность. Она представляет собой полное застывание жизненной силы Вселенной, предельную стадию коагуляции, оледенение духа, петрификацию движений и ритмов. Но этот мир земли имеет свою философию, свою культуру, свое общество, свое человечество, свою ценностную систему, свою науку и даже своего «бога», земляного «бога», «князя мира сего», «земного мира». В основе философии земли — материальность, возведенная в идею (материализм, прагматизм, утилитаризм, технократия). Культура земли — «забота о себе», абсолютизация стратегий выживания, культивация тела и телесных предметов, магия производства. Общество земли — демократический эгалитаризм или механический тоталитаризм, в любом случае — общество одиноких толп. Земное человечество — это антропологический ландшафт, из которого старательно удалены горы, ведущие к небу, и засыпаны норы, ведущие в глубину. Ценности земли — ценности сохранения, миролюбия и зверской жестокости ко всему неземному, дифференцированному, индивидуализированному. Наука земли — наука гравитации, в ней преобладает тяжесть, масса, энтропия, бессмысленное столкновение слепых сил, беснование атомов и элементарных частиц. Нетрудно угадать, кем является «бог» земли, ее господин, главный бенефициар и распорядитель такого порядка вещей. Одним словом, это тот мир, в котором мы с вами живем, и который пытается убедить нас в том, что он является единственно возможным и никакого иного просто не может быть.
Евгений Головин так не считал. Мир земли — это только один из слоев «истинного бытия», это его последняя периферия, где все пропорции опрокинуты, а вещи перевернуты с ног на голову. Головин распознает современность как патологическое окаменение настоящей реальности, как судорогу последних времен, как последний аккорд ниспадения вертикального времени и кратковременный эфемерный триумф рока. Но эфемерность этой последней агонии космоса не отменяет ее ужаса. Земля чрезвычайно агрессивна и в любой момент готова атаковать того, кто бросит ей вызов или даже просто усомнится в ее безальтернативной абсолютности. Головин так говорит об этом в словах одной из песен:
«Земле нужен только повод.
Смотри среди этих колонн
лежит электрический провод;
невинный, как эмбрион.
Но стоит тебе улыбнуться
или напудрить нос;
он вдруг упруго сожмется
и прыгнет как бешеный пес»[320].
Тот, кто признает мир земли лишь срезом, должен быть готов дорого за это заплатить. Он становится на путь страшной изнуряющей борьбы с неопределенным концом. Земля в каком-то смысле абсолютна. Она вбирает в себя все — мысль, чувство, тело, свободу, душу, дух. Ее пары подменяют любой взгляд — куда бы он ни был направлен, мы увидим только внутреннюю поверхность земли, твердь, гранит земных небес. Формула земли — «что снизу, то и сверху». Пока действует ее закон, любое помышление остается земляным; любое действие льнет к низинам; любое высказывание тяжелеет и каменеет, едва покинув уста. У земли есть свой абсолют — земной абсолют.
Головин любил цитировать стихотворение Готфрида Бенна:
«Alles ist Ufer. Ewig ruft das Meer».
«Все — только берег. Вечно зовет море».
Все — это земля. Но… Но есть зов, звучащий с той стороны. Из-за последнего края земли. Это голос воды.
В своей лекции «Дионис-2» Головин так говорил об этом:
«Мы все живем на земле (надо сказать, что, естественно, каждый из четырех элементов несет в себе три других элемента) или в том мире, в котором главный элемент — это земля, которая под своей, так сказать, доминацией содержит воду, воздух и огонь. И поэтому в нашей ситуации, в нашем телесном и материальном воплощении, для нас вода, воздух и огонь являются неглавными элементами, что, собственно говоря, и обеспечивает наш взаимный контакт и то, что наше (людское) восприятие, в известном смысле, совпадает. Но представим себе другой космос (ступенькой выше, ниже — это не важно), космос воды, где земля, материки, все земное является просто, условно говоря, плавучими островами. Давайте представим себе одного великого философа-стоика по имени Посидоний и его космологию. Посидоний писал, что мы живем в океане и что воздуха здесь нет, есть разреженная вода — вода просто более субтильная. А все, что мы принимаем за материки и за острова и все прочее, есть просто плавучие острова. Этот его чисто космографический вывод приводит к очень и очень многим последствиям, и вот каким.
Вся наша жизнь и вся наша этика и эстетика основаны на том, что мы живем на твердой земле. Это настолько въелось в нашу кровь, что никакая новая астрономическая картина мира ничего с этим не сделает»[321].
Опыт воды
Евгений Головин был философом воды. Вся его теория и практика построены на фундаментальном переходе от земли к воде, от нижнего среза космоса к тому, что находится непосредственно над ним. Цель этой философии сделать шаг от плотного — к жидкому, от суши — к морю, от земной массы — к океанической стихии. Зов Головина — это зов моря. Морю, мореплаванию, кораблям, океанам, рекам, а также их непременным героям — капитанам, утопленникам, морским звездам, спрутам, ундинам, нимфам и наядам посвящены бесчисленные эссе, стихотворения, лекции и песни Головина. Среди тех авторов и сюжетов, которые он переводил, также явно выделяется все, связанное с водой. Это не случайно — в этом ось его философской программы. Лейтмотивом этой программы может служить «Пьяный корабль» Рембо, переведенный Головиным и осмысляемый им в течение всей жизни. Это сочетание слов «пьяный» и «корабль» были полны для Головина бездонного смысла, это была молитва его герметической сотериологии, коан, дающий мгновенное сатори, путь, цель и субъект, идущий по пути к неведомой и невозможной цели.
Опьянение — это растворение земли. Это магический инструмент, позволяющий на миг освободиться от ее невыносимой тяжести, от ее материальных законов, от ее сковывающей рациональности. Вино — это шанс и врата в безумие. Однако большинство людей, достигнув этой критической зоны земли, немедленно рушатся вниз, соскальзывают в темные страсти, телесную тяжесть, в отупение и ступор, в мрачные механизмы животных импульсов и вегетативных расстройств. Земля настигает их и карает своим излюбленным приемом — слабоумием, по которому узнаются ее рабы. Мало кто доходит до устья реки опьянения. И еще меньшее число способно выйти в открытое море. Здесь начинается великое искусство пьянства, магический алкоголизм, инициатическая дипсомания. Это ворота в мир воды. Тот, кто пересекает эти ворота, оказывается в стихии безумия. По крайней мере, на этом настаивает режим земли, ее преданные слуги и сам завистливый «бог», тщательно следящий за тем, чтобы узники плоти не ускользнули бы от своего хозяина.
Вода — это второй онтологический срез снизу. Совсем скромно, с учетом полной неоплатонической картины Вселенной, но недоступно и невозможно, если учесть почти бесконечные возможности гравитационной суггестии. От хватки земли еще никто никогда не уходил. Или почти никто и почти никогда. Обычно возвышенные души, несущие в себе достаточно благородных субстанций (золота и серебра), останавливают свое нисхождение, свои метаморфозы, свой кенозис выше — в космических срезах, где низшие стихии подчинены высшим, в зоне огня и воздуха, или еще раньше, в небесных сферах. Они становятся звездами, саламандрами или на худой конец птицами небесными. В область предельной гравитации спускаются, как правило, самые ничтожные, грубые, неблагородные, грязные и жалкие душонки, несущиеся к чистой материи, чтобы в ней сгинуть, и не испытывающие никакого дискомфорта в современности. Их земля и ее режим вполне устраивают, так что поводов для беспокойства и сомнений нет. Но что делать в том случае, если в плен земляного космоса попадает высокая золотая душа тонкой пробы и изысканной конструкции, полная жизни и стремления в небо? Вот это настоящая проблема. Ее цель одна — уплыть, стать кораблем, отчалить от берега, перерубить канаты, а дальше… будь что будет.
Море — это первый шаг к «истинному бытию». Совершая критический переход, мы не просто меняем состояния, мы меняем миры, с их законами, установками, обитателями, ценностями и богами. В стихии воды плотное становится жидким, тело может менять формы, постоянство структуры приходит в динамическую череду метаморфоз. Жители этого мира полупрозрачны, подвижны, нестабильны. Это водные люди и водные звери, наяды и рыбы, кораллы и актинии. Водная фауна, акватическая антропология.
«В сумасшедшей медлительной тени
ламинарии выглядят круто.
Розоватые иглы актиний
убивают агрессию спрута»[322].
В мире воды есть свой «бог». «Бог» воды. Повелитель моря. «Бог безумия». Бог Соли, Deus de Sal. Книгу, посвященную тематике безумия и составленную из своих переводов и других фрагментов, Головин называет «Безумие и его бог».
Безумие — спасение. Оно выглядит хаосом и ночью только с позиции земли. У земли есть свой день или, вернее, то, что земля называет «днем». Пока мы не выйдем за пределы земли, мы не узнаем, что находится за ее пределами и как это называется. Головин любил говорить: «Тот, кто идет против дня, не должен бояться ночи». Но дело в том, что ночь для режима земли еще далеко не есть ночь в полном смысле этого слова. Безумие для земли не есть настоящее безумие. Это просто иной тип разума, мышление воды. И если сделать решительный шаг, то, умерев для земли, мы родимся в ином пространстве — там будет другой смысл у ночи и дня, другая форма ума и безумия.
Это иная философия, которую интуитивно понимают поэты, влюбленные и пьяницы — философия легкости, тонкости, окрыленности, стремительного броска, невиданной для стихии земли свободы. Только в мире воды человеческое «я» становится капитаном (если не превращается в утопленника), тело — кораблем, а природа начинает дышать ранней весной Боттичелли. Это открытый мир, недоступный толпе.
Головин настаивает именно на этом принципиальном моменте: неоплатонический космос, герметизм, алхимию и магию мы сможем понять только тогда, когда сумеем раскрыть мир, распахнуть его, ускользнуть от земли, потерять почву под ногами. Это он отчетливо провозглашает в программной песне, которую неоднократно переделывал — «Учитесь плавать!».
«Когда идете вперед, все время боитесь удара.
В ночной тишине все время боитесь кошмара.
И ваша нога должна чувствовать твердую почву.
И женщины вас отравляют бациллами ночи (…)
Учитесь плавать;
Учитесь плавать;
Учитесь водку пить из горла;
И рано-рано
из Мопассана
Читайте только рассказ «Орля».
И перед вами;
Как злая прихоть;
Взорвется знаний трухлявый гриб.
Учитесь плавать;
Учитесь прыгать
На перламутре летучих рыб.
Учитесь плавать;
Учитесь плавать;
Не только всюду, но и везде…
Вода смывает
Земную копоть;
И звезды только видны в воде»[323].
Бытие в режиме воды представляет собой радикальный опыт, который не передаваем обычными средствами коммуникации. Обычные средства коммуникации сегодня являются исключительно земляными средствами коммуникации, приспособленными для передачи земляных смыслов, жестов, сообщений. И оперируют они земляными множествами. При переходе к воде, к стихии открытого плавания постепенно обнаруживаются иные множества и иные смыслы. Это все еще подлунный мир, генезическое поле рождений/смертей, но вся его структура радикально легче: здесь водная земля, водная вода, водный воздух и водный огонь. Хотя эти стихии еще далеко не небесные и тем более не ноэтические, присутствие высших элементов начинает чувствоваться гораздо более пронзительно, нежели в мире земных скорлуп. В мире воды тела уже несколько больше, чем просто тела. Люди — несколько больше, чем люди. Таковы же и звери, и звезды, и росы, и камни, и зори, и трупы, и кровь. И даже боги несколько больше, чем «бог» (по крайней мере, «бог» земли).
Могут спросить: и что же, Евгений Головин не продвинулся в своем внутреннем делании, в реализации своей неоплатонической программы дальше самого первого, начального уровня? На этот вопрос нет ответа. Более того, он не имеет никакого смысла до тех пор, пока задающий его не предъявит неопровержимые доказательства того, что он по-настоящему понял, о чем здесь идет речь. Сделать даже один шаг против рока, подняться против течения водопада времени хотя бы на расстояние вытянутой руки столь проблематично, столь невероятно трудно, столь мучительно, что даже от одного такого намерения кружится голова и захватывает дух. Для этого надо быть очень сильным, нечеловечески, безумно сильным. И чем скромнее определял Головин масштабы своего духовного труда, тем яснее становилась общая структура его платонического мира, тем отчетливее проступали составляющие его ткань онтологические дистанции[324]. Любой разговор о режиме воздуха, т. е. о практике полета, и тем более о режиме огня (то есть об экзистенции существ разряда саламандры), приобретет даже самое отдаленное значение лишь после того, как мы вслед за Евгением Головиным отправимся в открытое море Меркурия философов. Но никак не раньше этого. Что же говорить о выходе к сфере Луны и к ее ценностям, ее лунному человечеству, ее «богам» и соцветиям, к царству селенотропов или мола-мола… Все это останется чистой бессмыслицей, т. к. в мире земли этих «тел» и таких «явлений» про-сто не существует. Это философский делирий, белая горячка или эхолалия грезовидца, погруженного во сны наяву.
Опыт воды, вступление под юрисдикцию философии воды — тот порог, за которым рассуждения об остальных стихиях и более высоких срезах впервые приобретают отдаленное подобие смысла. Тем, кто прошел это, на практике проник в сферы безумия, оказался «схваченным» его тревожным «богом», дальнейший прогресс Евгения Головина может быть по-настоящему интересен. Что лежит там? По ту сторону океана? — Предлагаю ответить хорошо темперированным молчанием…
Личная алхимия и «открытая герметика»
Предыдущие пояснения философской позиции Евгения Головина позволят лучше понять спектр его интересов. В частности, его глубинную и преданную любовь к герметизму и алхимии.
Соотношение герметизма и неоплатонизма — отдельная тема. Часто эти два направления рассматриваются совместно. В Италии эпохи Возрождения школа Марсилио Фичино уделяла равное внимание текстам Платона и Плотина, с одной стороны, и Гермеса Трисмегиста, с другой. Так продолжалось и в последующие эпохи — вплоть до «розенкрейцеровского Просвещения» (Ф. Йейтс[325]), германского романтизма и (косвенно) немецкой идеалистиче-ской философии (Шеллинг, Гегель и т. д.). Головин не проводил строгого различия между этими течениями, продолжая традиции тех авторов, за которыми он следовал.
В алхимии есть две стороны:
• нооцентрическая метафизика «Поймандра», приблизительно отражающая эллинизированный египетский спиритуализм и
• развернутые космологические теории, сопряженные с исследованием пластов космических феноменов материального толка.
Обе стороны тесно взаимосвязаны, и космологические ряды и порядки стихий служат имплицитными аллюзиями и метафорами высших, небесных, чисто духовным измерений. Алхимик ван Гельмонт, предложивший использование термина «газ» (от голландского произношения греческого слова «хаос»), так определял задачу алхимии: «Мы должны сделать тело духом, а дух — телом». В «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста континуальность «верха» и «низа» мироздания запечатлена в формуле: «Что сверху, то и снизу». Материальные элементы, металлы, минералы, жидкости, газы, а также другие различные вещества и состояния (например, огонь) берутся в алхимии как «иконические» сгустки небесных влияний и высших пневматических состояний. Разбирая область эмпирики, изучая свойства тел и смесей, состояний и трансформаций вещества, алхимик по спирали поднимается к тому среднему пространству, где осуществляется принципиальная демиургия, и куда, со своей стороны, нисходит воронка эманаций. Эта область медиации расположена между землей и небом, в мире, напоминающем mundus imaginalis Ибн Араби или философии Ишрака. Показательно, что в Средневековье тексты шиитского эзотерика Джабира ибн Хайяна[326] (Geber) получили настолько широкое распространение и такой авторитет, что приобрели статус «пророчества», сопоставимого с высказываниями самого Гермеса Трисмегиста.
Двойная метафорика составляет основу алхимического языка и алхимических практик: материальный предмет сублимируется до символа (вещь символизирует идею), а небесные и духовные энергии нисходят к этому символу, чтобы наделить его особым высшим бытием (идея вселяется в символ). Отсюда рождается «веселая наука», «gaia scientia», как называли алхимию в Средневековье с ее особым ни с чем не сравнимым языком. Каждый термин — «сера», «ртуть», «огонь», «вода», «соль», «известь», «солнце», «луна», «железо», «золото» — сосредотачивал в себе целый узел полисемии, обозначая и соответствующую материальную субстанцию, и ту идею, которая она символизировала, и нечто промежуточное — медиацию между одним и другим, т. е. некую вещь, принадлежащую «среднему миру», субтильный дубль предмета, синтематическое[327] тело, двойника из плоскости «активного воображения». Точно так же духовные понятия — «душа», «дух», «король», «человек», «брак», «женщина», «бог», «миф», «интеллект» и т. д. — относящиеся к миру идей, могли означать как самих себя, так и соответствующие им серии предметов, находящихся в зоне их влияния на обратном конце эйдетических рядов, например, ведущих от Аполлона к солнцу, от солнца — к петуху, от петуха — к гелиотропу (подсолнуху), от гелиотропа — к маслу. И более того, между идеей и предметом снова располагался медиационный срез, где идеи становились чувственно воспринимаемыми, но еще не приобретшими той плотности, которой отличается телесный мир стихий.
Далее, сложность алхимического языка дополнялась еще и тем, что на каждом из этих уровней существовали семантические поля синонимов и атрибутов, многомерных риторических способов обозначения одного предмета или одной идеи через другие сходные, близкие или, напротив, противоположные вещи и знаки (здесь можно вспомнить широкий спектр риторических фигур — от метонимии и синекдохи до антифразы и иронии[328]). Таким образом, каждый термин представлял собой полюс гибкого круга терминов-спутников; и это повторялось сразу на трех уровнях — духовном, промежуточном (область имажиналя, если использовать термин А. Корбена) и материальном. Это предельно усложняло и без того чрезвычайно сложную семантическую игру синтематики и диалектики символов, порождая уникальную топику герметической философии, работа в которой доставляла алхимикам огромное наслаждение, но и требовала колоссального труда. При этом сами герметисты предпочитали только усугублять неопределенность и двусмысленность (точнее, трехсмысленность) своей «великой игры, приглашая постигать «темное еще более темным» (obscurum per obscurius, ignotum per ignotius).
Головин с юности полностью включился в этот процесс великой философской игры, который он сам называл «открытой герметикой»[329]. Открытость, как мы уже видели, для Головина была важнейшим свойством всего того, что он считал ценным и заслуживающим внимания. И сам факт, что он обращал на это внимание, используя термин «открытый» (в данном случае применительно к герметизму), был своего рода «откровением» — «приоткрыванием» того, чем на самом деле является герметизм как таковой[330]. Алхимия есть философия открытия мира его внутренним горизонтам и духовным корням, ведущим в небо. Она отрывает человека от группы («наука одиноких мужчин») и сталкивает его с бездной Selbst. Предметы физического мира, которые алхимик постоянно перебирает, разъединяет, соединяет заново, переводит из одного в другого, убивает и воскрешает, также отрываются от своей темной массивности и возводятся к их изначальной родине, к полю их небесных смыслов. В этом делании субъект и объект, пребывающие в стадии открывания, сублимации и возгонки, обмениваются своими свойствами, отражаются друг в друге, проявляя различные этажи и слои космоса, в обычном состоянии невидимые, скрытые телесными массами и структурами профанной рациональности.
И снова мы приходим к режиму воды. Алхимическое делание, получение философского камня, стяжание магистерия начинается с первичной фундаментальной операции — конверсии земли в воду. Это и есть практика открытой герметики, ее первый, но решающий этап. Мир воды — это внешняя периферия мира воображения. Пока мы смотрим в сторону мира земли, пока наш взгляд прикован к ней, мы остаемся узниками масс, рабами группы, механическими деталями слепой слабоумной толпы. Если мы переключаем режим и начинаем смотреть в другую сторону, то оказываемся на дне философского океана, и перед нашим взором открываются подводные пейзажи и их обитатели, так убедительно описанные Головиным (песни «В подводных лесах», «Утопленник», эссе «20 000 лье под водой», «Анадиомена. Женская субстанция в герметике», «Ло», «Медуза Cianea Floris» и т. д.). Мир воды, таким образом, открывается как начало поля медиации, где тело уже стало чуть-чуть духом, а дух, со своей стороны, сделал важный шаг в сторону тела. Поэтому философия воды у Головина закономерно приобрела характер алхимического делания, а конкретно, поиска универсального растворителя или радикальной влаги, способных вскрыть плотную оболочку тел и освободить заточенную в них эссенцию — пусть вначале в ее самом грубом, водном (то есть, все же достаточно плотном) измерении.
Сохраварди говорил по этому поводу, что реальность сновидения, особенно когда она освобождается от гнета земных вещей, это настоящая реальность, более реальная, чем сама реальность, и поэтому заслуживает самого серьезного внимания, отношения и изучения[331]. Mundus imaginalis стоит не на земле, но на воде, в этом его секрет. И поэтому он часто описывается как остров, путешествие к которому осуществляется по морю. Это море сновидений, первый шаг алхимического делания.
Nigredo: семантика инфернального топоса
Стадии великого делания (Opus Magnum) проходятся последовательно — nigredo, albedo, rubedo; работа в черном, работа в белом, работа в красном. Та фаза, в которой происходит растворение, называется «работой в черном» и описывается в мрачных тонах как «спуск в ад», «гниение», «смерть», «ворон» и т. д. Универсальный растворитель, Vitriol, серная кислота философов, устойчиво связывается алхимиками с путешествием вглубь земли — Visitabis Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Чтобы выйти за горизонт земляного мира, необходимо познать его тайную сущность, его центр. Это мрачный опыт. Отсюда традиционно темные тона, образы и символы, в которых описывается nigredo.
Евгений Головин верен традиции, и поэтому его внимание закономерно привлекали те аспекты, которые связаны с дескрипцией инфернальных миров. Зловещие образы, сюжеты и мотивы наполняют как его стихотворения и песни, так и философские эссе, рецензии и переводы. В литературе это проявляется в приоритетном интересе Головина к творчеству «проклятых поэтов» (Рембо, Бодлер, Малларме, Бенн, Георге, Тракль, Гейм и т. д.) и к жанру черной фантастики (Г. Майринк, Х. Лавкрафт, Ж. Рэ, К. Синьоль и т. д.). Чтобы правильно оценить место инфернальных тем в его творчестве, следует поместить их в общий контекст его герметической философии.
Любое мистическое восхождение, пробуждение и инициация начинаются с момента «спуска в ад», проведения «сезона в аду» (А. Рембо). То, что не умирает, не воскресает. То, что не страдает, не торжествует. Тот, кто не спускается, не поднимается. Эти формулы являются стартовыми принципами любой духовной философии. Чтобы новый человек родился, а новый мир был построен, должен умереть ветхий человек, а старый мир — исчезнуть. Отсюда деструктивная фаза — nigredo. Без этой стадии невозможно продвижение дальше. Если же кто-то захочет миновать эту стадию, испугавшись таящегося в ней ужаса и риска, тот будет иметь дело с конвенциями, с условностями, и, в конце концов, философскими фикциями. «Гниение — это то, что впервые делает монету ценной», — любил цитировать Головин Гете.
Следует несколько пояснить, что значит «спуск в ад» в структуре алхимического делания. Это не изменение состояния в низшую сторону, не распад и разложение, но резкое и травматичное осознание того, что земляной мир, в котором мы находимся, сам по себе есть не что иное, как ад, как низшая точка изгнания, как предел мира, как гроб. Это подобно истории с Буддой, который вначале не знал о страдании, составляющем сущность мира, но в определенный момент оно ему открылось во всем его объеме. И в поисках преодоления страдания ему пришлось преодолеть весь мир, распознать его «пустотную» сущность (шуньята) и выйти за его пределы. Будда не спустился в ад, он увидел, что мир, в котором он пребывал и ранее, ничего не замечая, и является адом. И в момент осознания мир, на самом деле, стал адом. Когда это произошло, Будда измерил масштаб трагедии, и он оказался внушительным. До такой степени, что спасение оказалось возможным только за его пределами, в сфере нирваны.
В Великом Делании это проецируется на первую стадию nigredo. Алхимик спускается в мрак, постигая, что то, что всем кажется светом, и есть мрак, что бодрствование является настоящим ночным кошмаром, а законы рассудка едва прикрывают собой растекающийся хаос безумия. Обыденное становится гротескным, привычное начинает ужасать, повседневность сползает в липкую массу галлюцинации. Эти трудные состояния суть первые шаги к философии воды, которая начинается на этой грани и развертывается отсюда во все стороны света. В герметизме не бывает «белых» и «черных» адептов: тот, кто не проходит работу в черном, никогда не достигнет работы в белом.
Магическая география
С позиции nigredo начинается герметическое путешествие. Это путешествие Головин описывал в разных регистрах и разными способами: в своих эссе, стихах и песнях. У него была идея посвятить этой проблематике целую книгу, которую он хотел назвать «Магическая география».
Магическая география — это структурирование карты синтематического мира, mundus imaginalis, промежуточной среды между космосом вещей и космосом идей. Это зона, где активно действуют свободные двойники людей и вещей, где континенты и острова имеют смысловую природу, а события, встречи и приключения носят особый характер, сильно отдающий сверхъестественным.
В эссе «О магической географии» Головин пишет:
«Магическая география основана на принципиально ином[332] мировоззрении. Море и небо — однородные стихии, звезды — живые плавучие острова, неподвластные ни координации, ни каким-либо измерениям. Одно дело — бытие и совсем другое — стремление человека упорядочить бытие»[333].
Это очень важный пассаж, проливающий свет на то, что понимает Головин под «магической географией». Он противопоставляет две реальности:
• структуру бытия самого по себе и
• структуру человеческого сознания, спроецированную на бытие и это бытие собой подменяющую.
По сути, это центральный момент гносеологии: имеем ли мы дело с тем, что есть, или с тем, что мы конструируем. Для Канта или феноменологов — с тем, что конструируем. Точно так же считал и Хайдеггер. Поэтому географические карты представляют собой волюнтаристский конструкт.
«После Галилея, Декарта и Ньютона пространство утратило интенсивные жизненные колориты и превратилось в математическую протяженность»[334], — пишет Головин.
В философии Головина это — конструкт, созданный по законам земли, отражающий и закрепляющий эти законы. Но по ту сторону этой географии, где корень «гео-» надо понимать в строго философском (герметическом) смысле, есть возможность построения новых карт, которые подсказываются иной стихией, отражают альтернативные маршруты безумия (или как минимум коллективного бессознательного) и прочерчиваются самим бытием, игнорирующим упорную и приземленную человеческую волю и рациональность. Магическая география есть путеводитель по имажиналю как пространству, которое развертывается через прямое влияние Логоса на стихию человече-ского чувствования, sensorium, в тех состояниях, когда sensorium поворачивается спиной к миру земли и лицом к миру воды. Мир воды, таким образом, есть зона бытия, по которой в любых направлениях движется капитан «пьяного корабля», грезовидец, поэт, философ. Головин продолжает в том же тексте:
«Царство Посейдона поистине бесконечно. Человеческое восприятие обусловлено замкнутым кругом — мореходные и астрономические приборы могут расширить радиус, но никогда не изменят изначальной парадигмы человека — центра и окружности. В любой деятельности мы должны наметить центр, а затем горизонт — вероятное прекращение центробежной активности. Рождение и смерть точно такие же центр и горизонт. Они совершенно необъяснимы, а потому рассуждать о каком-то реальном познании полностью абсурдно. Любой вариант познания легитимен по-своему. Например, Эдгар По прочел любопытный пассаж у географа Герхарда Меркатора: «Я познакомился с картами Меркатора, где океан обрушивается в четыре горловины северной полярной бездны и абсорбируется земным нутром. Полюс на этих картах представлен огромной черной скалой». Аналогичные тексты легко отыскать у Афанасия Кирхера, Роберта Фладда и Джона Ди, если не двигаться далее шестнадцатого столетия.
Подобные тексты — отражения гимнов и прозаических фрагментов греческих и римских поэтов и мифологов. Есть места (Мальстрем в Северном океане, Рамес — в Южном), где Океанос чудовищными водоворотами, минуя Аид, устремляется в бездонную пропасть Тартара. Последний случай описан в рассказе Эдгара По «Рукопись, найденная в бутылке». Немыслимый ураган близ острова Ява. Двое бедолаг на палубе агонизирующего корабля, волны — яростные пенистые хребты, фосфоресцентные бездны…»[335]
Выход за парадигмы центра и круга, означает столкновение с новой геометрией, которая построена по линиям силы, а не по линиям логики.
«Но для магической географии, строго рассуждая, не существует жизни и смерти как полярно противоположных понятий. Убывание биологической активности за сороковым градусом южной широты свидетельствует только о возрастании инобытия. Концепция единого Бога лишена всякого смысла в бесконечности Океаноса, вернее, подобная концепция ведет к тотальному пессимизму и негативному первоединому:
Я искал Божье Око и увидел
Орбиту черную и бездонную;
Там излучалась ночь, постоянно концентрируясь.
Странная радуга окружала этот провал
В Древний Хаос, эту спираль;
Пожирающую Миры и Дни»[336].
Геометрия магической жизни открыта, инобытие означает не конец бытия, а прощание с классической рациональностью и аристотелевской логикой — не чистое слабоумие или психическое отклонение. Инобытие приближает нас к тому, какова сама реальность, освобожденная от наших ментальных проекций, страхов и фобий, но постигается это иным сознанием и на основе иной, альтернативной логики; новый неизвестный Логос служит путеводной звездой в путешествии по морям и континентам магической географии.
И все же в этой географии есть свои узловые точки, ориентиры, системы координат. Они отчасти другие, а отчасти смутно напоминают нечто знакомое. На магических картах мира, которые мы встречаем даже накануне Нового времени с его иссушающим рационализмом, мы можем распознать и Север, и Юг, и Восток, и Запад. Но это иные стороны Света и они имеют иную природу. В эссе «Антарктида, синоним бездны» Головин пишет:
«В эпоху ренессанса солнце и Ориент постепенно заменили полярной звездой и северным полюсом (компасное направление на Nord). На многих картах Ренессанса, начертанных в духе неоплатонизма, северный полюс располагался где-то в Гиперборее или в Гелиодее («материк неподвижного солнца» за Гипербореей). Меридианы веерообразно уходили на все стороны и пропадали во вселенском Океане, в космосе «воды», в недоступных систематике метаморфозах. Реформация со своим акцентом на Библию представила земной рай как меридиональную парадигму: на севере — древо жизни и творение Адама, на юге — древо познания добра и зла и, соответственно, двойная женская ипостась — Ева-Лилит. Аббат Иоганн Тритем фон Спонгейм в сочинении «Steganografia» (тайнопись) сравнил все это с пространственной ситуацией Палестины и религиозно санкционировал идею земного юга как целенаправленности меридиана. Почему? Эта страна вытянута точно по вертикали, Иордан, река жизни, берет начало в снегах горы Гермон и впадает в Мертвое море — символ смерти. В пролонгации подобная вертикаль дойдет до Южного Креста, вселенской Голгофы. Таким образом, земной мир оказался стянут к южному полюсу — средоточию Сатаны-Лилит»[337].
Магическая география, таким образом, строится вокруг меридиана. У нее есть Север и Юг, которым соответствуют два континента Гиперборея (Гелиодея) и Антарктида. Эти континенты — явления не онтические (эмпириче-ские), но онтологические, эссенциальные. Не важно, существуют ли они в телесном мире и существовали ли когда-то раньше. Равно как не важно, существовала ли Атлантида на Западе и Лемурия (Гондвана) на Востоке. Все это есть в структуре имажиналя и является центрами притяжения путешественников по альтернативным маршрутам с опорой на никому не известные карты или давно разбитые буссоли. Карты жизни и компасы «истинного бытия».
Как философствуют Севером
Магический Север, Гиперборея — это континент абсолютно мужского начала. Это полюс притяжения героев и воинов. Путешествие на Северный полюс есть движение к центру мира, к недвижимому двигателю, к десятому интеллекту. Алхимик Ириней Филалет писал: «Только на Северном полюсе спит сердце Меркурия»[338]. Север имел в философии Головина абсолютное значение. В статье «Север и юг» он говорит:
«Чем дальше к Северу, тем ближе к источнику жизни», — писал английский мореплаватель Джон Девис (XVI). Барон Людвиг фон Гольдберг, очень своеобразный географ (XVIII), в книге «Северная Индия» (1765) высказался следующим образом: «Средоточие жизни парадоксально, любые системы здесь бесполезны. Путешественник замерзает в лютом холоде арктических льдов. Замерзает и… просыпается в сапфировых долинах Северной Индии — Гипербореи. На берегу прозрачного, словно хрусталь, океана люди строят корабли для плаванья в Гелиодею — сказочный материк Солнца»[339].
Труднодоступность (практически недоступность) Северного полюса отражает в магической географии неоплатоническое единое (ἕν), сверхбытийное, апофатическое, недоступное и непознаваемое. Полюс замещает собой единое (ἕν), служит его генадической синтегмой. Но это единое, неизвестное и вечно сокрытое, является истинным Благом, источником бытия, тем, что дает всему смысл, движение, жизнь. Поэтому так часто в описаниях фанта-стических путешествий к Северному полюсу мы встречаем сцены того, как за чередой торосов, льдин, мертвых снежных пустынь внезапно открывается оазис теплых вод, не отмеченный на картах остров с растительностью средних широт, умеренным климатом и загадочными обитателями: мы прибыли в страну Аполлона, в обитель гипербореев[340]. Ницше, цитируя Пиндара, в «Дифирамбах Дионису» говорил:
«По ту сторону севера, льда, сегодня;
по ту сторону смерти;
на иной стороне;
наша жизнь;
наше счастье.
Ни сушей, ни морем;
не можешь ты найти дорогу к гиперборейцам;
так пророчествовали о нас одни мудрые уста»[341].
Ницше говорил о философах, философах нового типа. Головин видел ситуацию идентично. Движение на Север (этому Головин посвятил свою знаменитую песню «На Север, на Север, на Север, неистово рвется пропеллер!») есть одновременно движение по вертикали, путь в небо, прорыв к истоку и вечности.
Параллель между Севером и неоплатоническим единым (ἕν) чрезвычайно важна: апофатика единого (ἕν) заставляет понимать Север магической географии не только как нечто труднодоступное (практически недостижимое, и в этом его привлекательность), но и открытое. Север не плотная точка земного пространства, это разрыв уровня, ворота в иное, момент перехода. Это преодоление, превосходство, шаг всегда выше, над собой. Именно поэтому Север есть сторона Света богов и героев, которым не известны преграды и которые способны летать. Таким образом, Nord — это цель души в ее парадигмальном, архетипическом состоянии, естественное место «светового человека»[342].
Ориентация — Север[343] представляет собой движение к вершине меридиана, вдоль которого структурируются все эйдетические нити вертикального космоса. Это мужская ось бытия, по которой организуются различные типы иерархий — гносеологических, онтологических, космологических, политических, ценностных, социальных, гендерных. В современном мире, в режиме земли это запретная ориентация. Выбор ее в качестве жизненного приоритета жестоко карается. Север сегодня вне закона, потому что этот закон ныне определяет Юг. Но, несмотря на это, благородные души все равно идут на Север; вопреки всему и всем, игнорируя любые запреты Великой Матери, карательные меры земли.
«На Север, на Север, на Север…»
По Головину, только движение в этом направлении есть маршрут корректной философии.
Юг: онтология бездны
Юг магической географии представляет собой полную антитезу Северу. Это низ вселенского меридиана. Головин описывает континент Юга в эссе с выразительным названием «Антарктида — синоним бездны»[344].
Юг представляет собой полюс абсолютной женственности, материи, холода, в центре которого магического путешественника ожидает нечто обратное тому, что он встречает на Северном полюсе. Через серию зловещих превращений и сбивающих с толку метаморфоз ему открывается лик бездны:
«Античный мир не знал бездны, грозящей абсолютной гибелью; античная бездна — Аид, Гадес, инферно опасных органических формаций — это пейзаж испытаний героя.
Опыт бездны — опыт новой эпохи.
Падение в бездну — детерминированный процесс, и результат известен точно: фиксация, неподвижность, смерть. Эдгар По любил помещения, где результат результируется навечно»[345].
Эти слова недвусмысленно показывают, чем является бездна в философии Головина. «Опыт бездны — опыт новой эпохи». Это не ад, куда спускается посвящаемый, чтобы снова подняться. Это нечто намного более страшное: это окончательное и бесповоротное растворение души в стихии вечных сумерек, во льдах чистой материи, materia prima. Головин приводит заключительные строки повести Эдгара По «Сообщение Артура Гордона Пима»:
«Артур Гордон Пим и его спутник продвигаются на каноэ в самое сердце Антарктиды: «Беспредельный водопад бесшумно ниспадал в море с какого-то далекого горного хребта, темная завеса затянула южный горизонт. Беззвучие, угрюмая тишина. Яркое сияние вздымалось из молочной глубины океана, сверху падал густой белый пепел, растворяясь в воде… Только ослепительность водопада проступала во тьме, все более плотной. Гигантские мертвенно-белые птицы врывались в завесу с криками «текели-ли». Нас неотвратимо несло в бездну водопада. И тут на нашем пути восстала закутанная в саван человеческая фигура — ее размеры намного превышали обычные. И ее кожа совершенной белизны снега…»[346]
Эта фигура космической женщины, богини, хищной, ненасытной, олицетворяющей собой абсолютную привацию. Но…
Но открытая герметика не знает рациональных оппозиций один — ноль. На одной стороне меридиана — абсолютно мужской Север, на другой — абсолютно женский Юг. Но было бы радикальной ошибкой приравнять их к рациональной дигитальной паре один/ноль, да/нет, бытие/ничто. Это только в «новую эпоху» (Модерн) стало принято мыслить исключительно привативными оппозициями и негацией в качестве единственно возможной формы медиации между обоими полюсами (пример этого в диалектике Гегеля). Такая «бездна», как представляют собой люди Нового времени, чистое ничто, является абстракцией. Двинувшись на ее поиски и подойдя к искомому полюсу, настоящий путешественник в морях магической географии сталкивается с чем-то иным, с тем, что он не предвидел и не мог знать заранее. Абстракция ничто оживает, персонифицируется и обретает конкретный профиль дьявола — и его паредры, ночной гетеры Лилит. Достигая полюса бездны в магической Антарктиде, философ встречается с «богом» земли, с «богиней» земли, которая и держит мир в ледяных цепях своего плотного, материального гипноза. «Нет ни Бога, ни дьявола», утверждает Модерн. Но оказывается, что с дьяволом поспешили. Если нет Севера, это не значит, что нет и Юга. Юг-то как раз есть.
Этот важнейший вывод магических путешествий излюбленных героев Головина мифологически повторяет концепцию Рене Генона о фазах конца света[347]: вначале мир отрекается от высшего небесного начала, замыкается в себе и своем материализме, а затем открывается снизу, и из зоны инфракорпорального ужаса врываются орды «гогов и магогов», дьявольских существ. Вначале идет десакрализация через закрытие обоих полюсов (Севера и Юга), затем ресакрализация, — но только со стороны Юга. Бездна приобретает зримые черты. Антарктида пробуждается и постепенно начинает шевелиться. С великого Юга встает заря ядовитой «антарктической любви»[348] (Е. Головин).
Онтология средних божеств
Мифы и боги привлекали философское внимание Головина. В этом он также продолжал классическую традицию неоплатонизма, всегда отличавшуюся чуткостью и вниманием к теологическим вопросам. Но, как и эллин-ские неоплатоники, Головин предпочитал строить свои философские поиски на политеистической матрице. Этим он отличался от платоников-христиан (Оригена, каппадокийцев, автора Ареопагитик), мусульман (Ибн Араби, Сохраварди) или иудеев (каббалистов). Монотеизм не вызывал у него большого восторга, хотя он предпочитал выражаться на эту тему с осторожностью. Бог монотеизма представлялся ему богом абстрактным, монотонным (вспомним язвительное выражение Ницше про «монотонотеизм»[349]) и в чем-то «земляным». Политеистический мир, напротив, являл собой богатство жизни, свободу метаморфоз и выступал высшим выражением той открытой философии, которая была неизменным ориентиром для Головина. Политеизм не выносил последнего слова ни по одному вопросу, возводя эйдетические нити не просто к фиксированному и сухому рациональному концепту, но к динамичной божественной сущности — способной смеяться, гневаться, любить, ревновать и самое главное играть. Хайдеггер в книге о Шеллинге[350] писал, что совершенно неверно полагать, будто греки приписывали своим богам человеческие черты на основании своих собственных чувств, эмоций, переживаний, страстей. Но откуда мы знаем, спрашивает Хайдеггер, что эти свойства изначально относились именно к людям, на основании чего они «сотворили» себе богов по своему образу и подобию? Это просто этиологическая гипотеза прогрессистского эволюционистского толка. А почему бы не допустить обратное: это гневные, веселые, смелые, грустные, ревнивые, любвеобильные, даже лживые и хитрые боги наделили своими свойствами людей, и поэтому каждое настроение, каждое состояние человека в пределе восходит к божеству, у которого оно достигает высшей, сверхчеловеческой концентрации. И когда человек идет по пути экзальтации чувств, свойств, переживаний, страстей, иррациональных и даже рациональных проявлений, но возведенных на экстатический уровень, он рано или поздно достигает мании, состояния одержимости — бог схватывает[351] его, поглощая своей безграничной и свободной стихией.
Скорее всего, Головин думал приблизительно так же: боги были для него последними горизонтами мира. При этом ему были не свойственны ни стремление поздних неоплатоников (Прокла, Дамаския и т. д.) строго отождествить каждого бога с однозначной интеллектуальной ноэтической функцией, ни привычка алхимиков пользоваться именами богов и мифологическими сюжетами для описания субстанций и вещественных процессов. В обоих случаях боги выступали как иконы или синтемы, символы чего-то другого — либо идей (у неоплатоников), либо материй (у алхимиков). Для самого Головина бытие богов располагалось где-то в промежуточной зоне, в пространстве имажиналя. В этом он еще раз подтверждал, что его философия — это философия воды. Его боги — текучи, флюидны. В своей лекции «Дионис-1» Головин говорил:
«Дело в том, что наше сознание, построенное на монотеизме, не может представить себе мир античных богов. Дело не в том, что Зевса зовут Зевсом, Афину — Афиной, а Диониса — Дионисом. Дело в том, что эти существа невероятно флюидные и невероятно тягучие, поэтому они могут воплощаться друг в друга. Поэтому Дионис может стать Гермесом, Гермес Аполлоном. То есть один бог всегда может стать другим богом. В этом смысле жизнь античного мира — это сплошная метаморфоза. Нет четких осей, по которым бы мы ясно определили, где область Зевса, где Гекаты, а где Диониса. Именно поэтому, чтобы хоть как-то проникнуть или, вернее, хоть чуть-чуть соприкоснуться с тем, что мы называем “античный мир”, надо привыкать жить флюидальным, метаморфическим способом. Это очень трудно, почти невозможно»[352].
В наше время можно представить себе ученых, которые согласятся разбирать мифологию как язык для обозначения идей и архетипов. Это мы видим, например, в структурализме, реабилитировавшем миф в таком качестве[353]. Точно так же историки науки готовы признать валидность мифологиче-ских метафор для формирования концептов материи (это особенно развито у Г. Башляра в серии книг про «грезы о веществе»[354]). Или на ином уровне: мы можем встретить в академической среде тех, кто допускает существование Бога (как Первопричины), и тех, кто, свято веря в материальные предметы, готовы принять «Бога» как научную метафору. Но тех, кто верит в ангелов и демонов, к кафедре и залам научных заседаний не подпустят и на расстояние пушечного выстрела. А если они все же прорвутся, то им грозит принудительное лечение даже в самых гуманных и толерантных обществах. Кое-как еще можно верить в Бога, но верить в богов, ангелов и дьявола — это чистое суеверие и с рациональностью несовместимо. Головин в этом обстоятель-стве без труда опознавал след земли и ее законов. Но им-то Головин и бросал вызов. Следовательно, бытие богов он признавал вопреки Модерну и его установкам, легко, спокойно, с дистанцией, почтением и строгим изысканно и иронично организованным энтузиазмом[355]. Так мог понимать богов только тот, кто по своей природе был к ним необъяснимо и бездоказательно близок.
Боги Головина — это реальные существа среднего мира, расположенного между землей и небесными архетипами; боги суровые и легкие, смеющиеся и жестокие, враждебные и дружественные, и каждый из них рассыпался на десятки ангелов, сотни демонов, тысячи героических сущностей и десятки тысяч человеческих душ, среди которых Головин распознавал самых разнообразных существ, скрытых под стандартной и однотипной двуногой оболочкой. Все эти мириады присутствий кружились воронками в тонком мире, проступая явно, когда философское плавание уводило в далекие, почти запретные зоны, и, скрываясь всякий раз, когда удушающие, гнетущие законы земли снова вступали в свои права.
Неоплатоники, говоря друг о друге, и особенно о своих предшественниках и учителях, употребляли выражения «божественный Платон», «божественный Плотин», «божественный Ямвлих», «божественный Сириан», «божественная Гипатия», «божественный Прокл». Они имели в виду нечто особое: и не простую суперлативную метафору, и не факт прямой инкарнации, чуждой греческой интеллектуальной культуре. «Божественным» является тот, кто живет рядом с богами, с мыслями о богах, со взглядом, закрытым для материи и обращенным к духу; кто сосредоточен на идеях, генадах, началах; кто смотрит в сторону высшего света и не боится ослепнуть; и самое главное, кто упор-ствует в этом несмотря ни на что. Философ должен быть божественным, иначе он не философ. Это видно уже в «Государстве» Платона, где философ, по-стигший свет Блага, спускается вниз, к узникам пещеры, чтобы сообщить им истину (где его и убивают). Эту истину сообщают посланники, ангелы или нисходящие к людям боги. В любом случае, те, кто имеют отношение к богам.
Головин точно соответствовал всем этим требованиям и критериям. Поэтому в духе неоплатонического протокола и его самого вполне можно назвать «божественным» (в этом деликатном смысле).
Боги Головина: Apollo
Рассуждая о богах, Головин был склонен называть их греческими именами. Некоторым из них он посвятил отдельные лекции, эссе и фрагменты. У него мы почти не встретим упоминание Зевса, Урана или Юпитера. Несколько раз мельком названы Посейдон, Гефест и Плутон. Систематизация политеистического пантеона его вообще не волновала. Его теологическое внимание было сосредоточено на нескольких богах и богинях. Это Аполлон, Дионис, Диана и Афродита.
Аполлон Головина представлял собой зловещего покровителя волков, бога Северного Полюса, вселенский меридиан, вертикальную позицию героя, абсолютную мужественность. Головин чтил солнце и солярный прин-цип радикального изобилия. Но такой Аполлон не имел ряда свойств, которым его традиционно нагружала современная и отчасти классическая культура. Ему чужд холодный рассудок, математическая строгость, жесткая мораль, Логос и гармония, которые приписывал ему Ницше. С другой стороны, опереточное издание Аполлона как «повелителя муз» и «патрона искусств», также не имело никакого отношения к Аполлону Головина (он предпочитал называть его на латинский манер «Apollo»). Apollo Головина не был ни математиком, ни артистом. Он был солярным взрывом, ледяной дистанцией, пронзающей стрелой времени. Он мог быть буйным и разрушительным, пылающим, финальным, изысканным и убийственно отстраненным. Упоминая его, Головин иногда складывал кисти полувытянутых перед собой рук крест-накрест в иератическом жесте и своей особой интонацией, содержащей одновременно угрозу и насмешку, произносил: «Apollo Deus omnia».
Дионис – бог меридианальной свободы
Дионис для Головина был самым важным и излюбленным из божеств. Ему он посвятил книгу переводов («Безумие и его бог»), несколько текстов и две лекции, названные «Дионис-1» и «Дионис-2».
Для Головина Дионис был тем самым богом. Тем и самым. Богом, стоящим в центре его практической философии. Богом воды. Богом плавания, богом корабля, богом безумия. Именно в Дионисе Головин видел сущность божественного, его эмпирическую наглядную достоверность.
Дионис Головина отличался и от эстетико-экзистенциального персонажа у Ницше с таким же именем, и от финальной стадии проявления Логоса у Шеллинга. Он был для Головина меридианом, живой трепещущей, упругой осью мироздания, натянутой тетивой магической экстатической жизни. Если Apollo пребывал на дальнем горизонте, являя собой недоступность ледяного предела, то Дионис был здесь и сейчас, но не во всяком «здесь и сейчас», а лишь в том, когда происходило переключение режима и начиналось время прилива, час воды. Дионис никогда не приходит один. Вокруг него вьется его свита, состоящая наполовину из одержимых поклонников, наполовину из галлюцинаций.
«Посреди бесчисленного воинства фавнов, сатиров, волкодлаков, менад, лемуров, мималлонов, тельхинов, аспиолов катилась, влекомая леопардами, колесница, где возлежал, усыпанный цветами, в венке из плюща и дубовых листьев, юный бог вина, оргий и превращений»,- — цитировал Головин Нонния Панаполитанского в эссе «Дионисийские разнообразия»[356].
Кроме менад, одержимых женщин, преданных своему предводителю, остальные участники процессии Диониса принадлежат к «этносу потустороннего». Головин научно интересовался этими кругами, которые появляются на первой стадии плавания, предваряя явление его самого. Подчас их вторжение становилось болезненным, затмевало собой уникальную сакральность момента, уводило от главного, ввергало в темные водовороты ужаса. Если волнение имажиналя было недостаточно сильным, чтобы выбросить корабль сознания в открытое море, темные норы земли захватывали участников процессии Диониса в свои хтонические тиски, и тогда миммалоны или аспиолы приникали к непросветленной почве плоти, изливая экстазис в сети энтропической привативной материи. Собственно, такова структура свиты Диониса: ее участники еще сохраняют плотные нити, связанные с регионами земли, но вместе с тем они уже сорваны с земных орбит фасцинативным непреоборимым притяжением бога. Они составляют промежуток между землей и водой, где только и может проявить себя меридиан, ведь он сам есть струна, натянутая между нижним пределом материи (миром матерей, Антарктидой, великой черной богиней, Кибелой) и небесными мирами Аполлона. В святилище Дельф треножник Аполлона располагался над могилой Диониса-Загрея. Из этой могилы растерзанный, но вечно живой и полный сил бог раз в два года поднимался, чтобы проникнуть в мир людей, открыв обществу верных живую освободительную реальность меридиана. В Риме он имел имя «Liber», «свободный», или «Liber Pater», «свободный Отец». Дионис — главный носитель свободы и превращений. Самое главное из них, открывающее возможность всем остальным, это превращение земли в воду — лишь после этого вода может превратиться в вино, а вино в кровь. Первое движение стихии вселенской жизни (ζωή) связано именно с водой.
В этой связи фундаментален культовый атрибут Диониса — корабль на колесах (эта обязательная деталь дионисийских процессий сохранилась до нашего времени в форме карнавальных платформ). На корабле путешествуют по морю, на колеснице — по суше. Но когда начинается эпифания Диониса, демаркационная линия земля/вода стирается. Припадок безумия отменяет границы, с далекой периферии сознания в его центр вступает дикая свита. Поэтому Дионисий именуется Λύσιος, «развязывающий», «разрешающий», «освобождающий» (от жестких законов земли).
Дионис Головина был экзистенциальным фактом, моментом нуминозного опыта, редкого и вожделенного. Чаще всего выход в открытое море герметического философствования исчерпывалось лишь манифестацией (да и то частичной) кого-то из свиты или совсем приземленных персонажей, лишь поколебленных в своей телесной укорененности. Но дионисийский меридиан был константой философии Головина, независимо от того, удавались или нет процедуры эвокативных практик.
Диана и ее дубль
Огромное значение в открытой герметике Головина играла богиня Луны, Диана. Под ней Головин понимал «женскую субстанцию в алхимии», т. е. полюс дуально дифференцированной по гендерному признаку магической Вселенной, имажиналя, мира воды. Диана, по Головину, это женское в целом, в его всеобщем, неоплатоническом масштабе. Эта женственность пронизывает все слои и срезы космоса — и феноменального и эйдетического. Везде она имеет схожую функцию: она дает жизнь и убивает, связывает и разрешает, ведет к падению и взлету. Она изменчива и постоянна в своей изменчивости. В Диане сосредоточен секрет манифестации. Чтобы манифестация была, в ней должно быть нечто от того, что она манифестирует, и нечто другое, нежели то, что она манифестирует. При этом обе функции открытия и сокрытия («velare» и «disvelare», в слове «revelare», как указывает Рене Генон, даны оба этих смысла) существуют в одном и том же жесте, в одном и том же акте, в одном и том же существе — это Луна герметиков. В лекции, посвященной Диане, Головин расшифровывает имя DIANA в экстравагантной манере открытой филологии (языка птиц):
«Первая буква «D» по конфигурации напоминает полумесяц, что соответ-ствует мифологии, потому что Диана — богиня полумесяца, Елена — полной Луны, а Геката — черной Луны. Следующая буква «I». Это «пурпур, кровавый плевок, хохот прекрасных губ». Таким образом, рядом с полумесяцем Луны оказывается нечто пурпурное, кровавое, нечто напоминающее смех прекрасных губ. Потом «А» — нечто черное, жестокое и ночное. «N», без особой натяжки, можно понять как Nord, поскольку в мифологии Луна ассоциируется именно с Севером. И последняя, «А» как бы удваивает ночь. Теперь представьте себе всю ассоциативную картину, которую нам дает простое прочтение имени DIANA. По-моему, жутковато»[357].
Обратите внимание на последнее замечание: «по-моему, жутковато». Совершенно очевидно, что обыкновенному читателю и слушателю совсем «не жутковато»; это нагромождение бессмысленных ассоциаций и случайных соответствий вызывает лишь недоумение. Но Головин произносит это в измененном состоянии сознания, он отдает себя в этот момент в собственность влияниям Луны, и деконструкция имени превращается сама по себе в эвокативный акт: Головин думает о женской субстанции, призывая ее эйдос в синтему, экзальтирующую материальные эмоции и ощущения, вызываемые сосредоточением внимания мужчины на женщине, с одной стороны, и насыщая эту синтему имажиналя ударом ноэтической женственности, т. е. присутствием богини. «Жутковато» нам станет тогда, когда мы попробуем повторить этот философский опыт даже в самом далеком приближении.
Головин мыслит Диану недуально, с захватывающей дух головокружительной констатацией ее онтологического масштаба, размаха ее ядовитой смертоносности, но вместе с тем с экстатическим вожделением и дерзким броском мужского начала навстречу двусмысленной и абсолютной в своей двусмысленности бескрайней жизни.
Луна — это порог, отделяющий область бешеного потока генезиса от небесных вечно повторяющихся упорядоченных движений одинаково стройных планет. Стихии находятся под властью Луны. Эта власть двойственна: она притягивает к себе (а значит, приближает к тому топосу, за которым прекращается работа ритмического маятника регенераций и декомпозиций), но и она же снова отбрасывает к нижнему полюсу материи, своей обратной стороны. Головин говорит об этом в свойственной ему энигматической манере:
«Если перевернуть слово «DIANA”, получится слово “ANAID” — имя малоазийской богини белого пепла, чем-то похожей на индуистскую Кали. В лекции о Снежной Королеве я говорил, что путешествие Артура Гордона Пима закончилось на Южном полюсе. Там он увидел абсолютно белую гигантскую женскую фигуру, чье появление сопровождалось падением хлопьев белого пепла. Диана считается богиней животворного снега, снега, который оживляет и дает силы выйти к Солнцу самой короткой дорогой. Таким образом, Анаид — зеркальное отражение Дианы…»[358]
Это очень важный пассаж для постижения природы избранных богов Евгения Головина. Главный этап философского делания, по Головину, проходит на границе земли и воды. Земля — это Южный Полюс бытия, его ледяная граница, бездна абсолютной привации. Это та инстанция, которая держит души людей в рабстве темного земного порядка. Чтобы прорваться к «истинному бытию» (А. Рембо), необходимо преодолеть чары земли и отправиться в философское плавание. Но стихия моря подчинена Луне, Диане. Море тянется навстречу лунным лучам, как загадочное растение селенотроп, распускающееся ночью и следящее за движением Луны, о котором рассказывает неоплатоник Прокл. Притяжение к Диане — спасительно, там начинается albedo, работа в белом, труд женщин и детей. По достижении Луны, первая фаза великого делания считается пройденной. «Выбелите лицо Латоны, и разорвите все ваши книги», — гласит алхимическая лемма. Логика превращения элементов от земли к огню, но главное — от земли к воде, ведь от этого переключения режима зависит главное событие в открытой герметике — проходит на границе двух женщин: DIANA и ANAID, Луны и Лилит, Дамы философов и ее антарктического ледяного дубля. Луна притягивает душу к себе, а земля держит ее в своих объятиях. Диана несет освобождение, черная мать — обрекает на вечное рабство и потерю мужской вертикальной воли к полету. Это антитезы, оппозиции, лагеря великой битвы космических амазонок. Но…
Но это одна и та же субстанция, недуальная, никогда не равная сама себе, вечно ускользающая, изменяющаяся, тождественная и нетождественная одновременно, мешающая жизнь со смертью, как воду с вином, как вино с кровью. Головин сближает Диану с Дионисом, не этимологически и не теологически, но теургически, функционально, операционно. Дионис — это солнце полуночи, месяц, Lunus, лунный жених. Это брат Дианы, ее мужской дубль. И когда Дионис проявляет женскую сторону своей андрогинной природы, он становится Дианой, представляя свою меридианную мужественность как женственность, а свою черно-магнетическую женственность — как фасцинативный сотериологический героизм мужского начала.
Афродита: любовь и медуза
Другая фундаментальная богиня Головина — Афродита. Раз мы распознали алгоритм его водной философии, нас уже не удивит, что в повествовании об этой богине Головин снова возвращается к ее влажной, морской природе: Афродита — пенорожденная. Это сублимация воды, белоснежный продукт ее самопреодоления. Волнуясь, вода производит белые гребни волн.
Головин пишет об Афродите:
«Богиня любви и красоты, «вечная женственность» явилась из морских волн.
Шиллер хорошо понял значение мифа в стихотворении «Греческие Боги»:
Любая земная Венера, сопричастная небу;
Рождается в темной глуби виноцветного моря.
Женственное связано с первоосновой иначе и глубже, нежели мужественное. Согласно другой версии мифа, женственное возникло из «протоводы», «гидрогена»: женственное родила Гея вначале всего сущего без участия мужского начала. (Гесиод). (…)
В море возникло все живое. Любовь — самое лучезарное творение морского виноцветия, божественная улыбка темно-синих глубин»[359].
В лице Афродиты мы имеем дело с уникальным явлением, которое Головин противопоставляет хаосу в чистом виде. Хаос не имеет порядка вообще. Это водная стихия в ее донном невнятном срезе. Афродита, рождаясь из хаоса, воплощая в себе хаос, появляется над ним как его царица. Но это еще не порядок, мы еще не вступили в область, управляемую строго мужскими богами. Северный полярный мир Apollo еще от нас бесконечно далек (всегда бесконечно далек). Афродита царит на иных широтах, где пышная растительность, роскошные сады, грациозные звери и сладкоголосые птицы. Мир между геометрией и слепым копошением частиц, полупорядок — полуспонтанность. Афродита эмерджентна во всех смыслах: она появляется там, где ее не ждут, подчиняя своей проникающей внутрь существ несгибаемой, но упругой воле людей, зверей, богов, демонов.
Головин пишет:
«Афродита Анадиомена — счастливая возлюбленная, всегда открытая любви, она — преизбывное богатство, она, одаривая, ничего не теряет.
Хотя волшебство страсти — ее творение, ее дар, богиня, в принципе своем, не любящая, но возлюбленная; она не захватывает в плен, подобно Эросу, но побуждает к наслаждению. Царство ее беспредельно — от сексуальной страсти до экстатики вечной Красоты. Все достойное обожания, восхищения, будь то изысканные линии тела, искусство беседы или жеста, все это называется по-гречески «эпафродитос»[360].
Афродита Головина тесно сопряжена со свободой. Она открывается внутри тел, когда те оживают, начинают двигаться, и наконец, отрываются от корней и гравитационных сил и взлетают, предоставленные сами себе. Афродита как квинтэссенция моря освобождает от земли окончательно, предвосхищая следующую стихию — стихию полета и воздуха, где доминирует Эрос. И более того, Афродита есть «пятый элемент», квинтэссенция, недвижимый двигатель всех стихий, который придает им динамику, дрожь, экстатику, жизнь. Афродита есть женщина-освободительница.
«Свобода напрасна без томления по квинтэссенции, по Изиде или Афродите, дающим подвижно-неподвижную циркуляцию четырем космическим элементам», — формулирует этот принцип Головин в эссе «Медуза Cianea Floris»[361].
И снова квинтэссенция-Афродита в этом эссе открывается как медуза, водное существо, нежное и ядовитое одновременно.
Афродита, как и все другие боги Головина, несводима ни к интеллекции, ни к эстетике, ни к метафоре. Афродита не есть символ в общепринятом значении слова. Прежде чем быть символом чего бы то ни было, она просто есть, как внеморальный, острый, пронзительный, эмпирический факт. Но факт, доступный далеко не каждому. Опыт Афродиты возможен лишь для друга богов.
«Банальным людям невозможно разглядеть Афродиту: она то ныряет в серебряной раковине в глубины моря к своей подруге Амфитриде, то расплывается невидимым созвездием в ясных небесах. Только провидцам и поэтам, наученным Зевсом или Аполлоном, удается разглядеть богиню в виде тонкой окружности, окаймляющей черный круг. Таким людям необходимо иметь по два зрачка в каждом глазу: независимо от того, слепые они или зрячие, им дано различить абрис Афродиты.
Так что эта богиня отнюдь не символ красоты и гармонии. Злая, беспощадная, мстительная, она любит покрывать зримое пространство тучей певчих птиц — горе существу — живому или неживому, которое попадает в этот гвалт. Клювами и когтями разрываются камни, звери, звезды, склеиваются в немыслимые, безобразные, хищные конгломераты, в сферу влияния которых лучше не попадать».
Много ужасов можно поведать о темном царстве Афродиты…»[362]
В этой двусмысленности Афродита подобна Дионису, и она столь же опасна, фатальна, как все остальные боги — боги Евгения Головина.
«Богиня любви, подобно Дионису, разрывает сердце человеческое неотвратимым безумием, но это отнюдь не единственная ее прихоть»[363].
Поэзия
Мартин Хайдеггер считал, что философия и поэзия — два пути познания бытия и истины бытия[364]. Но они не пересекаются ни в чем, кроме своего самого последнего горизонта. Они подобны двум горным вершинам, с них видно одно и то же; кажется, даже, что они на расстоянии вытянутой руки, но чтобы, на самом деле, перейти от одной на другую, необходимо спуститься в низины и подняться вновь. Прямой переход невозможен, между пиками — непроходимая бездна. При этом сам Хайдеггер, будучи философом до последнего внутреннего ядра, очень любил рассматривать эту вторую вершину человеческого духа — издалека и с почтением. В одном из эссе своей книги «Holzwege»[365] он дает важное пояснение того, что является предметом поэзии. Предметом философии являются истина и бытие, а также ничто. А предметом поэзии — сакральное, das Heilige. Этим многое объясняется в самом Хайдеггере. Проведенная им демаркационная линия между философией и поэзией, которой он обязал придерживаться, в первую очередь, самого себя, отделила от поля философии целый пласт того, что в других таксономиях в нее включалось: все имеющее отношение к сакральному. Так, вне зоны философии для Хайдеггера оказались неоплатонизм, мистика, теургия, герметизм, спиритуализм, мифология. Все это было отнесено им к поэзии. И лишь в этом качестве получало право на внимание. Но этот пограничный случай часто давал повод для размывания границ — ведь мистики и неоплатоники пользовались сплошь и рядом философским языком, философскими процедурами и философскими стратегиями. Поэтому Хайдеггер по возможности вообще обходил их молчанием или отделывался обрывочными намеками, признав полное право на сакральное только в случае поэтов, которые, «подобно жрецам Диониса, скитаются в священной ночи» (Гельдерлин). Сакральное — дело поэтов. И вся мифология, все боги, все экстазы и магические путешествия, все преображения и метаморфозы были переданы в ведение поэзии как области сакрального по преимуществу. Для Хайдеггера это означало свободную передачу штурвала от разума, доминирующего в философии, к безумию, которое было не просто простительным для поэтов, но, в некотором смысле, являлось для них обязательным.
Музы греков, которые давали поэтам вдохновение, некогда представали довольно хищными сущностями, они набрасывались на людей, чтобы схватить их, чтобы подчинить бытие жертвы самим себе, чтобы сделать их одержимыми собой: только так, в экстазе ясновидения, больше не принадлежа самим себе, и не управляя сами собой, поэты могли творить поэзию.
Евгений Головин понимал поэзию именно так — как сферу систематического сакрального безумия. Но в отличие от Хайдеггера, которого безмерно ценил и тщательно изучал, Головин никогда не проводил столь строгой линии, видя в ней нечто искусственное, что и сам Хайдеггер постоянно неосознанно переступал. Если философией Головина была герметическая философия и неоплатонизм, т. е. как раз то, что лежит посреди этой прочерченной Хайдеггером линии, — в воздухе между двумя вершинами, как канатный мост, протянутый на головокружительной высоте, — то ему были одинаково близки оба пика: и пик рациональной философии и пик поэзии. Между ними Головин перемещался с удивительной легкостью. И здесь следует задаться вопросом: а был ли этот канатный мост в действительности? Не переходил ли сам Головин от одного к другому каким-то иным способом? Посредством либо исключительных навыков передвижения по воздуху, либо обращаясь к общему знаменателю… Если верно первое, то подтверждается гипотеза о близости Головина к богам. Если второе — то он был знаком с ключами сакральной философии, Sophia Perennis, способной изложить свои истины на самых разных языках — рациональности, системы, теории или безумия, откровения, прорыва.
В любом случае поэзия была для Головина сферой прямого доказательного опыта, зоной эмпирики. Мир поэтических грез, сравнений, образов, сюжетов, метафор был для него надежной картой онтологического плавания; он был прежде, чем мир материальный или мир идеальный. Неоплатоник Прокл говорит: «душа старше, чем тело». Для Головина воображаемый мир активной поэзии был старше, первичнее, основательнее, реальнее, нежели область физических ощущений и чувственных восприятий. Область поэзии — не складирование импульсов, полученных извне (неважно — адекватно передающих вещи, как «эйказия», или неадекватно, как «фантазия», у Платона). Но и не поле криптограмм отвлеченных абстрактных концептов. Поэтическое для него — это реальное, единственно реальное, по разные стороны которого расположены две условности: условность телесности (вниз) и условность интеллекта (вверх). Снова мы вступили в средний мир, в область воды, где движутся не тени (вещи) платоновской пещеры, но пока еще и не идеи (звезды, световые сущности, эссенции). Область поэзии — область отраженных звезд, морских звезд, влажных светил. Вспомним строчку из его песни: «И звезды только видны в воде». Мир поэзии — водный мир.
Поэзия — это всегда мореплавание. Поэзия — место встречи с богами и демонами. Поэзия — поле великого делания. Поэзия — территория свободных двойников, теургических синтем. Поэзия — тайная жизнь философии. Поэзия — истинная и единственная по-настоящему строгая наука. Поэзия — стихия раскрепощенного безумия. Такова поэзия для Головина. Такова она сама по себе.
Анатомия современной лирики
В послесловии к своему переводу книги Гуго Фридриха «Структура современной лирики»[366] Головин предлагает структуру современной поэзии, т. е. сетку координат, точнее всего отвечающую ее особой феноменологии и онтологии. Эти координаты соответствуют Новому времени, несут на себе его отпечаток. Но для Головина область поэзии неподвластна времени полностью — время способно изменить лишь детали, направление ветра, скорость волны, оттенки кораллов. Поэзия глубже времени, и погружаясь в нее, мы рано или поздно выйдем к тем просторам, которые вообще не затронуты современностью. Современность современной лирики — это лишь описание изменившейся структуры бухты, обустройство залива, с которого начинается настоящее мореплавание. Да, здесь все изменилось, но сущность поэтического океана измениться не может. Поэтому поэты должны быть современными, чтобы отплыть («Il faut être absolument moderne», — настаивал Рембо), но в то же время древними или будущими, сращенными со стихией динамично изменяющейся, подвижной, живой и животворящей вечности.
Современная лирика препарируется Головиным следующим образом. Она складывается из таких элементов, как:
1. Поэтический акт как атака. Это представляет собой жест абсолютной спонтанности. Его вполне можно соотнести с дзэн-буддистским просветлением, сатори. Он «функционирует вне памяти, вне мировоззрения. Это неожиданная и мгновенная фиксация жеста, человека, ландшафта».[367]
2. Версификация как освобождение. Законы стихосложения не поддаются формализации, в них проявляется сама органическая жизнь языка.
3. Дегуманизация как императив. Это свойство поэзии позволяет ей открывать «истинное бытие» по ту сторону от упорядочивающей диктатуры рассудка, в полной независимости от механической предопределенности человеческих проекций. В этом слышится призыв Ницше, перетолкованный Ортегой-и-Гассетом.
4. Дикт как ситуация. Поэт создает поэзию не в безвоздушном простран-стве, но в конкретной ситуации, со своим временем и пространством, часто не являющимися ни объективными, ни субъективными, а экзистенциальными.
5. Автономизация междометия как акцентуация разрыва. Роль возгласа, не нагруженного семантикой звука, отражает эхолалию или крипто-глоссолалию поэтического акта.
6. Метафора как объективность трансмутации. Сравнивая одно с другим, поэт превращает одно в другое, как колдун превращается в волка — и понимать это надо буквально. «Если верить Ортеге-и-Гассету, что бог сотворил мир посредством метафоры, значит, этого бога зовут Дионис»[368].
7. Объективный коррелят как выражение дистанции. Безучастная и отвлеченная фиксация галлюцинативных картин, без эмпатии и вынесения эмотивных суждений.
8. Ритм как открытый цикл. Ритмичность важнее повествовательности, даже тогда, когда она включает в себя случайное. «Смысл стихотворения таится в его ритме, а не в содержании. Поэтический ритм являет почти завершенный круг»[369].
9. Символ как указание на несуществующее. Открытость знака в сторону неизвестного (и не принципиального) значения.
10. Слово как растворение понятия. Расплывчатость границ поэтического слова продуцирует имплозию его терминологической определенности и изгоняет из него концепт и концептуальные корреляции. «В море встречаются живые организмы, покрытые сетью светящихся волосков — таковы были когда-то органы восприятия животного мира. Поэт живет в языке, как эти организмы в подводной сфере»[370].
11. Трансцендентность как фиксация отсутствия. Рискованность поэзии не имеет шансов быть удостоверенной какой-то внепоэтической инстанцией, — условие современности, оттененное вневременной сущностью поэтического. «В радикальном смысле поэтов не очень-то заботят судьбы этого мира»[371].
12. Фасцинация как эманация неведомой энергии. Нерациональность поэтической суггестии, обеспеченная свободой установок и отсутствием механизмов письма. Новое издание дионисийского начала.
13. Художественное «я» как анти-я. Поэт, создающий стихотворение, не является собой в такой степени, в какой это только возможно, и, следовательно, является не-собой в той степени, в какой это возможно. И даже в большей.
Что мы получаем в итоге такого анализа? Точную фиксацию методов и способов бытия сакрального посреди мира, откуда оно полностью изгнано, «entzauberte Welt» (М. Вебер). Это можно принять как рекомендованные техники современного стихосложения, можно как философскую стратегию, а можно как путь получения просветления (сатори) в максимально не подходящих для этого условиях.
Радикальный Субъект
Новая Метафизика Московской школы, где Евгений Головин занимал центральное место, постепенно подошла к концепту Радикального Субъекта[372] как той осевой реальности, где остро ставится прямой и жестокий вопрос о статусе и смысле сакрального в точке максимальной десакрализации, о жизни бога в сумерках его смерти. Радикальный Субъект есть тот, кто задает такие вопросы и ставит такие проблемы, которые в актуальных условиях не могут поставить ни высшие существа (исчезнувшие за горизонтами «пустой трансцендентности»: «старые боги ушли, новые еще не пришли», — формулировал это Хайдеггер[373]), ни низшие (полностью дисконтируемые потоком комфортной дегенерации и ледяной хваткой профанного социума). Евгений Головин является онтологическим пунктом, где Радикальный Субъект дал о себе знать — причем в столь ясных и определенных терминах, фигурах, образах и философских конструкциях, чего никогда и нигде не было и не могло быть ранее. Он не создал своей традиции, он сосредоточил в себе те линии множественных традиций, которые имели какое-то отношение к этой экстремальной ситуации — ситуации Конца времен, апогея «кризиса современного мира»[374] (Р. Генон).
«Философия воды» Евгения Головина с полным основанием может быть названа философией Радикального Субъекта по всем своим силовым линиям. Сам Головин этого термина не использовал, предпочитая говорить о Self, Selbst, «поэтическом я»» или «Дионисе». И тем не менее вся ткань его тек-стов, его стихов и песен, его лекций и его бесед, которые представляли собой особый, чрезвычайно насыщенный и релевантный жанр, образуют общее сцепление смыслов, аллюзий, метафор, видений, прозрений и интуиций, неуклонно указывающих на неназванный центр его философии — на фигуру Радикального Субъекта — того, кто остается самим собой даже тогда, когда меняются не только люди, но и сами боги.
В близких к нему кругах Головина часто называли именем-функцией — «Адмирал». Это когерентно, т. к. он был предводителем настоящей поэтико-философской флотилии, капитаном с душой, навсегда захваченной притяжением сакрального Норда. Один современный исследователь Московской школы выдвинул гипотезу: а не был ли Евгений Головин в его личной персональной ипостаси никем иным, как явлением Радикального Субъекта?
Головин не исчерпывается ни философией, ни поэзий, ни культурологией, ни какими-то еще привычными сферами. Он принес с собой и оставил здесь нечто невыразимо нагруженное значением, смыслом, силой. Но его миссия и даже область его занятий не имеют никакого определенного названия. Он поведал нам о Радикальном Субъекте. Не был ли он им самим? И вообще: правомочно ли говорить о персонификации, своего рода «инкарнации» этой фигуры в отдельном человеке? Впрочем, относительно того, кем был Евгений Головин — человеком ли, или кем-то еще — до сих пор существуют различные точки зрения.
Здесь нельзя вынести какого-то однозначного решения. Поэтому лучше оставить этот вопрос открытым.
В любом случае, Головин был носителем чрезвычайно экстравагантного, необычного, парадоксального Логоса — причудливого Логоса, расположенного между бодрствованием и сном, между философией и поэзией, между разумом и безумием, между трезвостью и опьянением, между человеческим и божественным, между землей и водой.
Глава 22 Последний Бог (Мартин Хайдеггер и эсхатологический проект альтернативного Логоса)
«Вклады в философию (о событии)»: вторая фундаментальная программная работа Мартина Хайдеггера
Книга Мартина Хайдеггера «Вклады в философию (о событии) » «Beiträgе zur Philosophie (Vom Ereignis) »[375], опубликованная как 65-й том его полного собрания сочинений, представляет собой важнейший смысловой пункт всего его творчества, который сам автор считал вторым аккордом той философской программы, которая была начата эпохальной публикаций «Sein und Zeit»[376]. Это произведение суммирует десятилетие его интенсивных размышлений о проблеме Ereignis'а, стоявшей в центре его внимания с 1936 года по конец 1940-х. Это кульминация среднего периода творчества Хайдеггера, изученного менее всех остальных[377]. В этой книге Хайдеггер выстраивает картину философской эсхатологии, которая предполагает новое осмысление всего процесса истории западной философии и «прыжок» к радикально новой сфере, к философии Другого Начала. Здесь Хайдеггер эксплицитно растолковывает наиболее сложные моменты предшествующих этапов своего творчества, в частности, поясняет, что такое Dasein как центр его учения. Давая обзор классическим темам своей философии (таким, как критика идей Платона, вскрытие воли к власти как центральной линии европейской мысли, разбор нигилизма современной эпохи, проблема исчезновения бытия и забвения самого вопроса о бытии, деструкция референциальной теории истины, демонстрация принципиальной ущербности концептуального мышления и т. д.), Хайдеггер яснее, чем где-то еще, намечает альтернативные пути будущей философии, которые ранее еще не до конца созрели, а позднее (со второй половины 40-х годов) стали казаться ему самому проблематичными. Здесь же, в «Beiträgе», он излагает свою мысль уверенно и убедительно, не колеблясь осознавая Ereignis (поворотное событие) как нечто, что непременно состоится в самое ближайшее время.
Эта работа, только относительно недавно привлекшая к себе и к ее темам серьезное внимание специалистов по Хайдеггеру, и шире, философов и историков философии, наверняка будет неоднократно разбираться и исследоваться с разных сторон и в какой-то момент станет столь же популярной и общеобязательной к прочтению и переводам на иностранные языки, как и «Sein und Zeit». Однако сегодня она изучена довольно слабо, и мы посчитали нужным кратко описать ее содержание, хотя в наши задачи входит анализ лишь некоторых тем и аспектов этого монументального произведения (на которых мы и сосредоточимся после общего обзора) — а именно, особенно-стей философской эсхатологии Хайдеггера и фигуры «последнего Бога».
Beiträgе и их структура
Книга состоит из восьми разделов, в каждом из которых можно найти как законченные текстовые разделы, так и наброски, тезисы, цитаты, отсылки к другим книгам и лекционным курсам. Поэтому главки (всего в книге их 281) часто носят одни и те же названия, стилистически разрознены и подчас структурированы как обрывочные заметки или записи на полях. От этого значение текста только возрастает, т. к. мы оказываемся в самом центре мыслительного процесса величайшего философа, получаем возможность следить за тем, как он думает, возвращаясь по несколько раз к одной и той же теме, рассматривая ее под разными углами зрения, внезапно переходя к другой, чтобы опять бросить взгляд на то, что, казалось бы, уже продумано.
Структура книги представляет собой фазы процесса философии другого Начала и, соответственно, может рассматриваться как конкретная карта такой философии. На ней нанесены основные координатные оси, сетки и ориентации, но отдельные зоны описаны приблизительно, что приглашает читателей и последователей проверить самим, как дело обстоит при ближайшем рассмотрении, и при необходимости поправить или даже опровергнуть автора, как минимум поставить его эскизы под вопрос. Однако трудность состоит в том, что эта философская карта была в какой-то момент, видимо, отложена самим Хайдеггером, он не стал (не захотел?) настаивать на ней как на доктринальном предписании; поэтому на ее существование мало кто обратил внимание, а уж отправляться в философское путешествие с опорой на такой странный путеводитель, вообще никто не решился. Но всему приходит свое время (либо не приходит), и в любом случае намеченные Хайдеггером маршруты постепенно притягивают к себе все больше и больше увлеченных исследователей. Философия другого Начала была самой сокровенной и интериорной программой Мартина Хайдеггера, и поэтому к ней мы подходим позднее других. А значит, сегодня мы стоим на пороге серьезного вопрошания о философии другого Начала, и для нас столь важны «вклады», которые Мартин Хайдеггер в нее внес.
Разделы книги таковы:
I. Предварительный обзор
II. Отзвук (Anklang)
III. Подача (Zuspiel)
IV. Прыжок (Sprung)
V. Обоснование (Gründung)
a) Dasein и проект бытия
b) Dasein как таковой
c) Бытие (Wesung) истины
d) Время-пространство как бездна
e) Бытие (Wesung) истины как сокрытие
VI. Грядущие (Zu-Kunftige)
VII. Последний Бог (Letzte Gott)
VIII. Seyn-бытие
Постараемся дать их краткое описание, выделяя по ходу дела то, что нас более всего в этом контексте интересует.
Предварительный обзор: проблематика Ereignis
В первом разделе Хайдеггер вводит основные темы данной работы, во-круг которых выстраивается основное вопрошание. Название «Ereignis» или «vom Ereignis» носят несколько главок, где описываются разные аспекты того, что Хайдеггер под ним понимает. Ereignis Хайдеггер трактует в двух семантических осях:
• дословный смысл — «событие», то, что сбывается, свершается, происходит, случается, с акцентом на одноразовость, неповторяемость и конечность данного явления (немецкая этимология этого слова восходит к корню Augen, глаза, и сопряженные темы — видеть, наблюдать, созерцать нечто, причем с оттенком кратковременности, мгновенности); такое понимание события лежит в основе истории как явления, т. е. последовательности не повторяющихся событий, отличающих историю от природных циклов — таких, как смена сезонов и т. д.;
• ассоциативный смысл, связанный с корнем eigene, свое, собственное, принадлежащее себе, аутентичное, т. е. Er-eignis толкуется как «при-своение», «о-своение», «аутентификация», и далее, «вскрытие подлинного, настоящего, аутентичного» (немецкое слово «eigene» дается Хайдеггером для описания важнейшего экзистенциала Dasein'а — аутентичного экзистирования) [378].
В одной из главок Хайдеггер определяет Ereignis так: «Ereignis ist die Wahrheit des Seyns»[379]. Мы оказываемся в середине герменевтического круга, где одни многозначные и сложнейшие обозначения толкуются через другие. Дословно это можно перевести как «Событие — это истина бытия (Seyn)», но мы получаем почти бессмыслицу. Для Хайдеггера «истина», Wahrheit, ἀλήθεια, имеет принципиально два полярных значения — в философии Первого Начала, где она так или иначе неразрывно сопряглась с платоновско-аристотелевской традицией (идей — у Платона и формы и материи — у Аристотеля), отлившейся в референциальную теорию истины, и в философии другого Начала, где она должна быть реставрирована в изначальном греческом и досократическом смысле как «несокрытость» — ἀ-λήθεια. При этом в другом Начале «несокрытость» понимается снова не совсем так, как у досократиков, «несокрытость сущего», а как внезапное обнаружение обратной стороны «сокрытости» («сохраненности», Bergung).
Точно так же и с понятием «Seyn», «бытие». У Хайдеггера противопо-ставляется «бытие» философии Первого Начала, он орфографически обозначает его, начиная с 1930-х годов, как Sein (подразумевая понимание бытия как сущности, эссенции, Seiendheit, «общего», κοινόν), и «бытие» философии другого Начала, обозначаемое как Seyn. В первой нашей книге о Хайдеггере[380] мы использовали громоздкие, но вразумительные после соответствующего разъяснения, выражения «Sein-бытие» и «Seyn-бытие».
При определении Ereignis'а Хайдеггер использует слова «истина» и «бытие» в смысле «несокрытость другого Начала» и «фундаменталь-онтологическое Seyn-бытие». Такая «истина» в своей основе сопряжена с Seyn-бытием, но сводятся они через Ereignis, причем Хайдеггер Ereignis не наделяет двойным смыслом, резервируя его только для чистой и аутентичной стихии момента, когда Seyn-бытие свершается, сбывается, случается. У Ereignis'а нет дубля. В философии Первого Начала ему ничего не соответствует.
В другом месте Хайдеггер определяет Ereignis как «Wesung des Seyns selbst», что можно перевести как «аутентичный способ бытия самого Seyn-бытия»; использование глагола wesen (прошедшее время от глагола sein, «быть») в настоящем времени и образование от него других форм является философским неологизмом Хайдеггера, призванным подчеркнуть особость аутентичного бытия, отличного от того, что обыденный язык вкладывает в понятия «есть» или «существует». Ни определения Ereignis', ни многие другие, даваемые Хайдеггером на протяжении всей книги, не противоречат одно другому, но и не исключают друг друга: они лишь насыщают герменевтический круг все новыми и новыми оттенками смысла.
Отсюда важный вывод: Ereignis является осью всей философии другого Начала, которая вся в целом и должна быть мыслью об Ereignis'е, вопрошанием Ereignis'а, подготовкой Ereignis'а, развертыванием Ereignis'а, следствием Ereignis'а. Теперь становится понятным, почему Хайдеггер возвращается к этому имени снова и снова и почему выносит его в название данной работы. Размышлять об Ereignis'е — это значит созидать философию другого Начала.
В этом же разделе Хайдеггер говорит о базовых формулировках главного вопроса философии — вопроса о бытии (Seinsfrage). Он может быть построен как «наводящий вопрос» (Leitfrage), тогда он представляет собой «вопрос о сущем»; как «основной вопрос» — «вопрос о бытии сущего» (Grundfrage) или «переходный вопрос» (Übergangsfrage), по Лейбницу, «почему есть нечто, сущее, а не ничто?» Эти версии исчерпывают онтологию философии Первого Начала, т. е. метафизику. В философии другого Начала надо задавать его иначе, как вопрос об «истине бытия». А это значит — как «вопрос об Ereignis'е». Таким образом, путь этой книги, предвосхищает и поясняет Хайдеггер ее структуру в первом разделе, лежит от первых формулировок к по-следней.
Сам он так определяет четыре последующие раздела (они же основные структурные моменты философии другого Начала):
Отзвук — это весть Seyn-бытия о себе, переданная через отказ от себя самого, как поворот от (Dasein'а, человека, истории, философии), (само) отрицание. Имеется в виду сложнейшая операция по постижению сокрытия Seyn-бытия (в форме западноевропейского нигилизма) как его парадоксального открытия.
Подача — это вопрос, обращенный к самому Seyn-бытия; здесь происходит отсыл философии Первого Начала к философии другого Начала, как подготовка к прыжку.
Прыжок — прыжок в Seyn-бытие, преодоление разверзшейся бездны и осознание необходимости обоснования Da-sein'а, отнесенного к Seyn-бытию.
Обоснование — основание истины как истины Seyn-бытия (Da-Sein).
Эти четыре фундаментальные операции представляют собой подготовку к приходу «Грядущих» и явлению «Последнего Бога» (шестой и седьмой разделы) как триумфу Seyn-бытия (восьмой раздел).
Все эти семь структурных моментов книги тесно переплетены между собой и центрированы вокруг оси Ereignis'а, составляя органическое целое открытой философии другого Начала. Отношение между ними Хайдеггер исследует досконально и бессистемно, позволяя философским интуициям и озарениям двигаться своим собственным путем, подчас существенно отличающимся от того, что предварительно наметил сам мыслитель.
Еще одним важнейшим принципом в философии Хайдеггера является понятие упадка, заката, спуска — Untergang. Это не просто критиче-ская констатация современной западной цивилизации (как у О. Шпенглера с его «Untergang des Abendlandes»), это фундаментальный вектор, предопределенный самим Seyn-бытием, которое скрывается, забывается (Seinsvergessenheit) и пропадает из виду по мере развертывания философии Первого Начала вплоть до наступления эпохи тотального нигилизма, не в силу случайной и одновременно фатальной ошибки человечества или неверного выбора им интеллектуального курса, но для того, чтобы подать важнейшее послание, оформленное как молчание, чтобы открыть себя через факт своего полного сокрытия. Untergang, таким образом, не катастрофа и результат ошибки, но глубинная воля Seyn-бытия в ее трудном и трагиче-ском выражении.
Такое понимание скрытой стратегии Seyn-бытия, предопределяющей логику исторического процесса, требует кардинально иных методов постижения, т. к. классический Логос для подобных сложнейших философских операций не подходит. Поэтому Хайдеггер вводит понятие «Erschweigerung» или «зигетики», «умолчания», «замалчивания», от греческого «συγή» — «молчание»[381]. Молчание в этом случае не есть сфера а‑логичного или иррационального, но есть тот уровень, который предшествует Логосу и предопределяет его в основных конститутивных моментах, не будучи с ним тождественным. Слово рождается из молчания, но это насыщенное, осмысленное молчание, формирующее все содержание Логоса, которое им позднее развертывается. Seyn-бытие постигается с помощью зигетики, а не логики, и этот подход позволяет в любом высказывании (Sagen) различать как его прямое послание, так и его оппозиционную импликацию, а кроме того, высший уровень, в котором и послание и его отрицание содержатся одновременно. Молчание становится творящим, разумным и оживляющим[382].
Важно, что уже в первом предварительном разделе мы встречаемся с теологической составляющей[383], которую, как и все остальные аспекты философии, Хайдеггер разделяет на две области — теологию Первого Начала и теологию другого Начала, к которой относятся «новые боги» и «последний Бог».
Боги для Хайдеггера являются полюсом, противолежащим человеческому. Приблизительно так понимали богов, считает Хайдеггер, древние греки. Это не боги конкретных религиозных систем, но эмпирические и одновременно умозрительные бессмертные и легкие сущности тонких слоев бытия, противопоставленные грубым телесным и смертным людям. Пары боги-люди, бессмертные-смертные составляют фундаментальный остов мира, независимо от того, как мы трактуем и тех и других, что утверждаем, а что отрицаем на их счет. Боги не что иное, как топосы бытия, мысли и жизни, поэтому они воспринимаются в быту (как предрассудки, суеверия, обычаи, обряды) и в философии (как теологические и догматические структуры и иерархии) так же, как две сферы (обыденная и исключительная, зарезервированная для высших существ, философов) по-разному трактуют все остальные стороны мира: разум и вера знакомы всем людям, человеку как таковому, но простецы мыслят и верят по-одному, философы — по-другому. Когда сферы божественного касается мысль философа, он трактует ее в соответствии со своей философской природой.
Поэтому в отношении Хайдеггера не утихают споры о том, как он относился к религии; был ли атеистом, язычником или учредил какую-то особую философскую религию. Мы не поймем этого извне, пока не поймем Хайдеггера в целом, а книга «Beiträgе zur Philosophie» дает нам для этого великолепную возможность. Здесь яснее всего видно настоящее отношение Хайдеггера к религии.
Правильнее было бы говорить об отношении Хайдеггера к богам и божественному. Здесь важно, что боги для Хайдеггера не относятся напрямую к области философии, но находятся рядом с ней. Более того, в одном месте он пишет, что боги нуждаются в философии, и особенно в постановке и решении ее главного вопроса — вопроса о бытии. Но боги и Бог не являются метафорами бытия, не являются сущими, не сводятся к простым фигурам речи, в которые философы оборачивают свои умозрительные построения. Боги находятся рядом с бытием — по касательной к нему. Они не выше и не ниже бытия, они рядом с ним. Они связаны с бытием, бытие и боги взаимозависимы, но не тождественны.
У Хайдеггера можно предположить наличие подспудного треугольника
Все его уровни связаны между собой сложными и парадоксальными отношениями, наиболее полно осмысливаемыми лишь на уровне зигетики.
У этой схемы предполагается два издания в зависимости от того, имеем ли мы дело с Первым Началом или с другим Началом. Первое Начало дано нам в истории Запада и западной философии, и абсолютное резюме этой истории, ее сущность есть Untergang, упадок, закат. На философском уровне это дано как «оставление бытия» (в двояком смысле: бытие оставляет людей, и люди оставляют бытие, погружаясь в ничто, нигилизм). На теологическом уровне это есть «бегство богов» и даже «смерть богов». В тройной схеме все полюса расходятся между собой — бытие удаляется от людей (люди — от бытия), боги — от людей (люди — от богов). Это тео-онтологические сумерки.
Этапы упадка (Untergang) Хайдеггер отмечает сразу в обеих сферах. Параллельно тому, как закрывается бытие, становясь вначале сущностью сущего, затем просто другим сущим (идея, a priori), пока не станет «тварью», ens creatum в средневековой схоластике, и окончательно не исчезнет в нигилизме Нового времени, боги вначале суммируются в одном Боге, затем приобретают статус метафор, затем удаляются, пока Ницше не объявит о «смерти Бога». Но, как мы видели, Untergang надо понимать как двоякое послание самого Seyn-бытия. На теологическом уровне это можно выразить как то, что «смерти Бога» ждет и хочет сам Бог, и в этой «смерти» также содержится его послание.
Философия другого Начала начинается там, где постигается истинное значение Untergang'а как открытие Seyn-бытия через его сокрытие и, в конечном счете, через Dasein. Можно сказать, что теология другого Начала есть движение навстречу «последнему Богу», который явится тогда и для тех, кто выдержал «смерть Бога», не исчез и стойко ожидает его (жрец без культа, священник неизвестного Божества).
Те, о ком идет речь, именуются Хайдеггером «немногими» и «редкими». Это те, кто способен распознать голос молчания, логику зигетики. Это те, кто чувствуют нужду («Not» — еще одно ключевое имя в философии другого Начала) тогда, когда никто нужды ни в чем не испытывает. Эти «немногие» и «редкие» и составляют то, что Хайдеггер понимает под «народом». «Народ» (Volk) становится народом только тогда, когда появляются в нем «немногие», которые начинают думать. Только тогда народ впервые становится свободным для своего отвоеванного закона, выражающего последнюю необходимость его высшего мгновения»[384]. Таким образом, Хайдеггер не противопоставляет философов и народ, не разделяет их судеб, но утверждает, что многие приобретают смысл и историческую жизнь только через своих «немногих»; народ делает народом не он сам, но представляющее его в бытии философское меньшинство. В критических условиях низшей точки Untergang'а нужда (острое ощущение утраты, недостачи, отсутствия) философов тем больше и острее, чем благополучнее и комфортнее чувствует себя народ, но именно эта пара и конституирует историю, т. к. и в этой ситуации философ (своим страданием) возвращает народ в бытие.
В конце первого вводного раздела Хайдеггер вводит еще одно важнейшее имя, относящееся к сути философии другого Начала — решение (Entscheidung).
Решение — это то, от чего зависит факт перехода от Первого Начала, точнее, от момента осознания полного и безвозвратного конца Первого Начала, фиксации «немногими» низшей точки Untergang'а, к другому Началу. Операция решения и есть процесс начинания. Он осуществляется в выборе одного из двух вариантов, пары которых представляют собой версии одной и той же дилеммы, взятой на разных уровнях. Структура решения настолько важна для всей философской проблематики Хайдеггера, что мы воспроизведем оба столбца полностью[385].
|
Отказ от другого Начала |
Выбор в пользу другого Начала |
|
человек остается «субъектом» |
человек основывает Da-sein |
|
под «субъектом» продолжают понимать нечто «животное» как субстанцию и нечто «рациональное» как культуру |
истина Seyn-бытия находит себя в Da-sein'e |
|
сущее бытия берется как «самое общее» и на этом строится онтология |
Seyn-бытие приходит к своей единственности и уникальности к слову и пронизывает сущее как одноразовое |
|
истина вырождается в правильность достоверных представлений и надежных подсчетов и проживаний |
изначально безосновное бытие (Wesen) истины (ἀλήθεια) приходит как вспышка сокрытия к основанию |
|
сущее как само собой разумеющееся возводит в рассудок все посредственное, маленькое и легко проницаемое |
наиболее проблематичное, стоящее под вопросом, вырабатывает чистоту высшей пробы Seyn-бытия |
|
искусство как форма выражения пережитого |
помещение истины в произведение |
|
история низводится до уровня музейных анналов фактов и задокументированных событий |
история взрывается стремительным подъемом на чужеродную и непокоримую горную вершину |
|
природа низводится до области переработки, подсчетов и чертежей, а также унижается до уровня проживаемости |
природа несет на закрытости (для самой себя) земли открытость мира, не имеющего формы |
|
обезбоживание сущего, в котором свершается триумф христианизированной культуры |
нужда подготовить пространство решения при нерешительности относительно близости или дистанции богов |
|
человек довольствуется сущим |
человек отваживается на Seyn-бытие и тем самым отваживается на путь вниз (Untergang) |
|
человек позволяет захватить себя нерешительности полностью, принимая наш век как эпоху «высшей активности». |
человек еще отваживается на то, чтобы принять решение |
|
Seyn-бытие удалилось окончательно |
удаление Seyn-бытия является особым способом сохранения для первой истины и для другого Начала истории. |
Последняя дилемма, по Хайдеггеру, является обобщающей все предыдущие и составляет наиболее чистый смысл решения: быть или не быть Ereignis'у, а это более глубокий и острый вопрос, чем просто быть или не быть.
Отклик
Второй раздел работы устанавливает симметрии между Первым Началом и возможностью другого Начала, а также содержит обзор классических для Хайдеггера тем, связанных с его толкованием истории философии как последовательного забвения бытия. Здесь дается обобщающий анализ Untergang'а в его философском осмыслении, продолжающий операцию онтологической деструкции, описанной и примененной впервые в «Sein und Zeit»[386]. Хайдеггер с разных точек зрения разбирает явления Machenschaft и Erlebnis как две стороны вырождения западного Логоса в эпоху нигилизма: Machenschaft рассматривается как торжество техники, вбирающей в себя всю метафизику отчуждения и абсолютизацию воли, на которой стоит западная философия и референциальная теория истины; Erlebnis — как натуралистическое переживание, иррациональный витализм, подменяющий своей неотрефлектированной «достоверностью» истинный опыт как трудную работу духа.
Хайдеггер дает описания века «без нужды и вопрошания», где в общей культуре отсутствуют даже отдаленные предпосылки для адекватного философского мышления. История бытия есть история оставления бытия, потери бытия. Ничтожность смысла такой эпохи продуцирует гигантоманию полых форм. Замедленность движения духа, ступор и слабоумие превращаются в технологии больших скоростей, где перемещение в пространстве только сужает кругозор, а обмен возрастающими потоками информации приводит к окончательной потере содержания.
Современная наука, техника, культура, быт, нравы — все это финальный результат постепенного крушения западного Логоса в его историческом развертывании. Явившись в Первом Начале, Логос обладал цельностью и абсолютной мощью. Но будучи эксклюзивным, он был вскоре сконфигурирован так, чтобы свою единственность и мощь направить против самого себя. Так началась война Логоса с самим собой. На первых этапах это было героично и захватывающе. Постепенно Логос изматывал сам себя, все более нисходя в логику, рациональность и расчеты. Изначально божественный, в Новое время он спустился до уровня человеческого сознания, и был встроен в субъект/объектную топику, пока, наконец, не рухнул окончательно в эпоху европейского нигилизма, зафиксированную Ницше, но подготовленную всем ходом истории. Логос победил сам себя, вручив победу в руки им же самим порожденной абстракции — ничто современного мира, глобальной негации как последнего зерна духа. Продуктами гибели Логоса и являются современная наука и техника, рынок, общественные системы, низменность чувственной культуры.
«Никогда еще ужас перед бытием не был столь велик, как сегодня», — пишет Хайдеггер[387]. Этот ужас перед бытием свидетельствует о глубине «оставленности бытием» (Seinsverlassenheit). Но без бытия все превращается в ничто. Отсюда нигилизм как подоплека современности, как выражение краха Логоса, его дробления и распыления.
Мы живем в особую эпоху. Это эпоха нигилизма. В другом разделе этой же книги Хайдеггер сформулирует ту же истину следующим образом: «Наш час — это эпоха нисхождения» («Unsere Stunde ist das Zeitalter der Unterganges»[388]). Но эта ситуация содержит в себе радикальное послание, которое можно распознать только в том случае, если, будучи полностью погруженными в эту эпоху и разделяя ее онтические условия, сделать усилие, бросить взгляд на ее глубинные исторические корни и постараться осознать экзистенциальный узор открывшейся картины с позиции вопрошания о бытии, т. е., будучи «частью эпохи», совершить то, возможность чего эта эпоха всем своим существованием исключает. Это страшная эпоха. «Это эпоха Seyn-бытия, тянущаяся очень, очень долго, когда истина медлит с тем, чтобы поместить свое наличие (Wesen) на свет (Klare). Время опасности того, что стороной пройдет любое существенное решение, время беспомощного отказа от борьбы за что-то по-настоящему масштабное»[389]. Это эпоха «долгой задержки истины» (lange Zögerung der Wahrheit).
В другом месте Хайдеггер говорит об этой эпохе как о времени «ни дня, ни ночи». «Мгновенное угасание великого огня оставляет после себя то, что не есть ни день, ни ночь, чего никто больше не понимает, и в чем дошедший до конца человек все еще ворочается, чтобы оглушить себя моторами своей машинерии, провозглашая, что это все создано навечно, и «снова, и снова, и снова, и т. д.» будет тянуться это «ни день, ни ночь».[390]
Как преодолеть ситуацию «оставленности бытием»? С одной стороны, можно предположить консервативный сценарий и попытку возврата к Логосу, порядку, к той эпохе, когда «нисхождение» (Untergang) еще не достигло того критического состояния, как сегодня. Но именно это категорически отрицает Хайдеггер. Проблемы с Логосом начались не вчера, не в Новое время, и даже не в Средневековье и в поздней Античности. Эти проблемы Хайдеггер нащупывает уже в Первом Начале философии, предопределившем траекторию пути западной культуры и цивилизации. Поэтому назад некуда возвращаться. Конечно, сам Хайдеггер проделывает огромную работу с тем, чтобы максимально приближенно к ранней изначальной эпохе схватить дух самого раннего зарождения греческой философии, но не в целях прямого возврата, а затем, чтобы распознать там вечное, обнаружить смысл того по-слания, которым и является вся история Логоса, включая ее последний и завершающий этап «долгой задержки истины». Но чтобы преодолеть нигилизм, надо сделать шаг вперед, а не назад. Это вопрос выбора в пользу другого Начала. В таком выборе в дело вступает загадочный «другой Бог» (andere Gott). Хайдеггер говорит об этом так: «В базовом опыте того, что человек как основатель Da-sein'а используется божественностью другого Бога, обосновывается путь подготовки для преодоления нигилизма»[391]. Это и есть сложная сущность отклика (Anklang), которым является сам современный философ, пребывающий в стихии нигилизма в отношении Первого Начала, где происходила первая завязь философского Логоса, по словам Гераклита, «любящего и не любящего, когда его называли Зевсом». Речь идет о «старом Боге», который распростер свое могущество над Западом, достиг апогея, но постепенно исчерпал свою мощь и трагически умер, превратив мир в ничто, ведь без Бога от мира остается только ничто (из которого он и был создан, согласно догмату о creatio ex nihilo). Сама теология и, соответственно, догма о creatio ex nihilo рухнули, но nihil остался.
И в этой переломной точке человек призван к тому, чтобы радикально переключить режим существования, осознав, что такое нигилизм. Хайдеггер подчеркивает, насколько это трудно. «Но самое недоступное и самое сложное в преодолении нигилизма это знание (Wissen) нигилизма»[392]. Это знание, выделенное Хайдеггером в тексте курсивом, оказывается совершенно иным, если взять его не как обоснованную компаративную критику того, что есть, в сравнении с тем, что было еще недавно, а тем более с тем, что было давно, in illo tempora, а как прорыв в сущность нигилизма — прорыв с другой стороны.
И здесь мы и сталкиваемся с такой странной темой, как «другой Бог» и «использование» (снова курсив у Хайдеггера) им человека в учреждении (обосновании) Dasein'а. Смерть «старого Бога», будучи тяжелой теологиче-ской катастрофой, возможно, скрывает в себе какое-то дополнительное измерение. Это измерение неочевидно, тревожно, но фигура «другого Бога» в сопоставлении со смертью «старого Бога» повторяет траекторию сокрытия Seyn-бытия в ничто современного мира для того, чтобы явиться как Ereignis. Бытие исчезает, чтобы явиться, но явиться иначе. Старый Бог умирает, чтобы родился другой, новый, последний Бог.
Здесь мы видим, насколько фундаментальный смысл вкладывает Мартин Хайдеггер в Da-sein. «Beiträgе» открывают глубинный замысел «Sein und Zeit», который, не зная этих глубочайших философских построений, можно было бы принять за почти «психологический и антропологический конструкт», описанный с позиции экзистенции, а не эссенции (как раньше было принято в «школьной философии» и в основанных на ней науках от Платона до Нового времени). Da-sein требует обоснования (учреждения), причем в условиях нигилизма, через трудное знание нигилизма, и это обосно-вание предполагает момент инструментализации от лица «другого Бога». Возможно, без «использования» Богом человек не сможет выдержать знания нигилизма. Da-sein, таким образом, имеет теологическое измерение как пространство подготовления Ereignis'а, в котором уже на стадии основания-учреждения участвует тот, чей приход готовится решимостью Da-sein'а экзи-стировать аутентично.
Подача
Соотнеся между собой полюса двух Начал философии, в следующем разделе Хайдеггер приступает к теме «перехода» (Übergang) от одного к другому.
В рамках развертывания Первого Начала сущее понималось в трех различных последовательных видах: как восходящее к самому себе (φύσις) у греков; как приговоренное своим высшим уровнем (Средневековье); как находящийся под рукой, противопоставленный предмет (Новое время) [393]. Каждый следующий вид сущего отстоял все дальше от истины Seyn-бытия. Но для того, чтобы осуществить другое Начало, надо не просто осмыслить этот процесс, в котором сущее отрывалось от Seyn-бытия и превращалось в «продукт», но проникнуть в это Первое Начало еще глубже, где сущее (даже понятое по-гречески) только еще начинало «восходить». Оба Начала тесно связаны в своих корнях. Однако эта связь весьма сложна. Хайдеггер так говорит о ней: «Впрыгивание в другое Начало есть возвращение в Первое Начало и наоборот. Однако возврат в Первое Начало («Повторение» — Wieder-holung) не есть помещение в прошлое, как если бы это прошлое вдруг стало реальным в обыденном смысле. Возврат в Первое Начало есть, прежде всего, собственно удаление от него, установление такой дистанции, которая необходима для того, чтобы понять, что началось в этом Начале и что началось как это Начало. Без этой дистанции (…) мы окажемся слишком близко к нему»[394].
Эта дистанция чрезвычайно важна, и именно она составляет ядро трудного знания нигилизма. Без философского опыта Конца мы не можем понять философскую вспышку того Начала, с Концом которого мы имеем дело. Только охватив всю историю целиком, от первого до последнего момента (а для этого надо зафиксировать именно последний момент, а не предпоследний), мы способны понять, с историей чего мы имели дело, и каков был ее полный и окончательно построенный онтологический узор. Лишь это знание предельно далекого от нас позволит осуществиться передаче, переходу к тому, что находится предельно близко к нам, но в то же время отделено от нас глубинной метафизикой промедления «все еще не» (noch nicht).
Большую часть этого раздела занимает критика платонизма и его учения об идеях, а также Аристотеля с концепциями «ὕλή» и «μορφή». Важно, что Хайдеггер начинает этот анализ с досократической мысли, когда мысль о сущем еще не приобрела тех четких форм, как у Платона и Аристотеля. Именно эту, предельно удаленную от современности, мысль и пытается выявить Хайдеггер, подходя с той стороны к более поздним и систематизированным философским учениям, которые он называет «Концом в рамках Первого Начала».
Далее Хайдеггер переходит к разбору немецкого идеализма — Лейбниц, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель — и заканчивает на Ницше, суммируя представления, развернуто изложенные им в отдельных книгах и университетских курсах. В целом движение его мысли понятно и предсказуемо, эта сторона философии Хайдеггера довольно известна и проработана. В контексте данной книги наибольший интерес представляет то, как все эти моменты Хайдеггер соотносит с перспективой другого Начала: его принципиально интересуют две историко-философские зоны, близко примыкающая к моменту Первого Начала (досократики и Платон) и расположенная вплотную к концу философии (немецкий идеализм и Ницше). Все, что находится между, Хайдеггер совокупно определяет как «платонизм», понимая его чрезвычайно широко и включая в него христианскую теологию, схоластику, Ренессанс (который, по всей видимости, его мало интересовал), и даже Новое время вплоть до Ницше, который впервые всерьез поставил вопрос о «демонтаже Платона».
Здесь мы видим генеалогию нигилизма, краткую версию «истории одной катастрофы», которую Хайдеггер так или иначе отслеживает и комментирует во всем своем творчестве, останавливаясь на тех или иных авторах и школах. История философии и есть подача, идущая от Первого к другому Началу, но познаваемая лишь «немногими». Как осуществлять это познание, Хайдеггер демонстрирует в этом разделе.
Прыжок
Следующий раздел посвящен самому трудному моменту: осуществлению перехода к другому Началу философии. Это происходит с помощью фундаментальной операции, которую Хайдеггер называет «прыжком» (Sprung). Смысл, вкладываемый в это имя, имеет, как всегда у Хайдеггера, целый веер оттенков и имплицитных векторов. «Прыжок» означает:
1) «подпрыгивание», «отрывание от земли», т. е. «разрыв уровня», «начальную стадию полета»;
2) «перепрыгивание», «преодоление дистанции по воздуху между одной и другой точкой земли», иногда это подразумевает, что между этими двумя точками пропасть, препятствие;
3) шаг в бездну, падение, бросок в отвесную вертикаль с разрывом связей с надежной почвой, таков первый полет птицы — только совершив прыжок в никуда, птенец способен осознать, что он — птица и умеет летать.
Кроме того немецкое Sprung (греческое πηγή) означает также источник, родник, ключ, студенец. Это часто встречающийся образ, сравнивающий появление воды в источнике как «прыжок воды». В русском языке мы используем глагол «бить», «бить ключом», подчеркивая резкость появления воды среди земли. Значение «источник» в сочетании с предлогом изначальности, априорности «пра-» дает «праисток», немецкое Ursprung, т. е. греческое ἀρχή, немецкое Anfang, Начало. Таким образом, прыжок (Sprung) Хайдеггера включает в себя все эти коннотации, напрямую сближающие его с главными темами «Beiträgе» — Первым и Вторым Началом и Ereignis'ом.
Вот так сам Хайдеггер поясняет это:
«Фундаменталь-онтологическое размышление (основополагание онтологии как ее собственное преодоление) есть переход от Конца Первого Начала к другому Началу. Этот переход есть также разбег для прыжка, в ходе которого только и может начаться Начало, и конкретно другое Начало как с постоянно длящейся подачи Первого»[395]. Прыжок осуществляется в мышлении. «Самый подлинный и самый далекий прыжок — это прыжок мышления (Denken) »[396], — говорит Хайдеггер. При этом очевидно, что мышление, чтобы совершить прыжок в другое Начало, должно быть радикально иным, нежели то, которое является трафаретным нормативом всей известной нам философии. Мысленный прыжок есть собственно разрыв с основными руслами мыслительного процесса, это не движение воды в реке или океане, это внезапное и спонтанное появление живой мысли там и в том, где ничто ее присутствия и появления не предполагает — среди земли, суши, если угодно, пустыни. Ницше предупреждал о том, что «пустыня растет»; русла Логоса пересыхают, превращаясь в болота (философия Нового времени, позитивизм, аналитическая философия), а затем испаряясь вовсе. И чем больше растет пустыня, тем сильнее (и больнее) бьет ключ (Sprung) другого Начала — это такая мысль, которая является вопреки, настойчиво вырываясь из раздутого до гигантских размеров бессмыслия, и в своем изначальном порыве — строго вверх — еще не зная, какое русло она изберет для себя в дальнейшем; в сам момент рождения источника это русло может быть любым — ведь структура рельефа и притяжение земли еще не дают о себе знать. В этом состоит «начальность» прыжка.
Соотнося прыжок с Seyn-бытием в главе 123, одной из многих глав, которая носит название «Seyn», Хайдеггер внезапно и без предупреждения вдруг произносит: «Отважимся на неопосредованное слово: Seyn-бытие есть дрожь богов (прелюдия решения богов относительно их Бога)»[397]. Здесь есть, как обычно, множество смыслов, акцентируем два из них.
1) Дрожь, трепет, содрогание отсылает к дрожанию воды в источнике или к внутренней концентрации атлета перед прыжком, и в этом смысле проясняет структуру того интеллектуального действия, которое призваны совершить те «редкие», которые осмелятся задуматься о другом Начале.
2) Боги, оказывается, в истоке, прыжке, другом Начале, которое имеет (как выясняется) огромное значение и для них самих, готовятся вынести решение о том, что является Богом для них самих («надо всеми богами», говорит Псалтырь[398]). Высшие (по сравнению с человеком и миром) боги дрожат, размышляя о высшем по отношению к ним самим, т. е. тоже готовятся совершить прыжок; речь идет о «разбеге богов».
Эта неопределенность богов относительно Бога, к которой неоднократно обращался Хайдеггер, может быть уподоблена (но на сей раз вне хайдеггерианского контекста) проблематике открытого платонизма (Хайдеггер видит платонизм только как топику закрытого Лагоса), в котором (на среднем этапе) решалась проблема множественности идей и их сводимости (или несводимости) к единой идее (Благу) в прямой связи с разработкой монотеистической и монистической теологий. Трудно не восхититься предложением Хайдеггера: предоставим принимать решение о существовании/несуществовании единого Бога самим богам, ведь в противном случае мы рискуем снова подменить человеческими проекциями истинные структуры высших сфер Seyn-бытия и снова заставить богов бежать. Аналогично можно сказать, что, лишь созерцая идеи, вступая с ними в прямое общение, мы можем, и то только издали, на гигантской дистанции и предельно осторожно, с глубоким почтением, — поинтересоваться у них самих, есть ли среди них первоидея и какое место занимает Благо, т. е. гораздо важнее узнать, как сами идеи понимают то, что находится радикально выше их (и находится ли там что-то или нет), как они к нему относятся и каким именем называют.
Прыжок (как прыжок через бездну) сопряжен с расщелиной, с трещиной, расколом (Zerklüftung). Это явление предполагает борьбу и войну. Война ведется вокруг Seyn-бытия. На самом высшем уровне это «война богов разыгрывается вокруг прихода и бегства богов, в ходе которой сами боги впервые обожествляются и делают своего Бога ставкой решения»[399]. И далее Хайдеггер дает такое определение Seyn-бытия, бытия-в-прыжке: «Seyn-бытие есть дрожь этих богов, дрожь как развертывание Времени-Игры-Пространства (Zeit-Spiel-Raum), где они сами сбываются через отказ от своей вспышки (Lichtung) [400]».
О том, что такое «Время-Игра-Пространство» (Zeit-Spiel-Raum)[401] мы чуть подробнее поговорим при разборе следующего раздела, пока же заметим, что «вспышка», «освещение» (Lichtung — от Licht, свет) является еще одним важнейшим моментом философии Хайдеггера, сопряженным с «открыто-стью» (Offene) и истиной в ее греческом смысле (равно как и в философии другого Начала) — ἀλήθεια. Вспышка — это мгновенное выхватывание из ночи (ничто) цельной и всегда ограниченной единичной картины мира, что Хайдеггер связывает с явлением ночной молнии, озаряющей на мгновение пейзаж, который немедленно снова погружается во мрак, но навсегда остается в сознании как основополагающая карта мира. Так же внезапно вспыхивает человеческая жизнь, озаренная мыслью, образуя изначальное и пока еще лишенное каких-либо характеристик «вот», «здесь», «тут» (Da) в структуре вот-бытия (Da-sein). Но Da-sein — это свойство исключительно людей, их Da, «вот», их «вспышка», имеет всегда строгую локализацию — «вот». Их «вот» дано и явлено, постоянно, хотя и опоясано вокруг темной циркумференцией ничто (Nichts), а поэтому хрупко, единственно, одноразово. Боги не имеют такого фиксированного «вот», «здесь», Da; им свойственно «приходить и уходить», они принципиально подвижны, т. к. живы и свободны, вечны и бессмертны, поэтому в сравнении с человеческим «вот» боги выступают через свой отказ (от «вот», от Da). Но этот отказ (Verweigerung), будучи осмыслен должным образом и на должной дистанции, обнаруживается как форма их присутствия, их соучастия в мире как его тончайшего измерения.
Проблема Seyn-бытия решается человеком в окружении таких трудных моментов, как сущее, боги (их уход и приход), ничто (Nichts). Все это связано в узел. Прыжок есть решение этой проблемы следующим образом: «Не приходит ли человеку мысль о Seyn-бытии не прямо от сущего, но из того, что единственно является равным Seyn-бытию по чину, принадлежа ему самому, т. е. из Ничто (Nichts) ? Как переизбыток чистого отказа. Чем богаче Ничто, тем проще Seyn-бытие»[402].
Человек оказывается в сердце войны — войны, которую ведут боги, и войны, которую ведет само Seyn-бытие. Это очень важно. Хайдеггер говорит о «войне Seyn-бытия против сущего»[403].
Здесь, как и во всей философии другого Начала, мы имеем дело со своего рода развернутым дзэн-буддистским коаном[404]. Дайсэцу Судзуки, крупнейший современный японский философ дзэна, называет базовую для этой традиции логику «логикой утверждения-в-отрицании». Для нее характерны такие ходы: «Учитель сказал: видишь те горы? Это не горы, поэтому это горы». Так мыслится природа. Явленность сущего обманчива, она скрывает под собой ничто, конечность, тленность и бренность сущего; в каком-то смысле мы видим то, чего уже нет, т. к. этого нет в вечности. Но сквозь «великую силу негатива» проступает еще более глубокий слой, который вызывает к сущест-вованию именно эту вещь из бездны всеохватывающей негации. И именно эта инстанция, вполне аналогичная Seyn-бытию Хайдеггера, схватывается как горы (существующие сквозь тот факт, что они не горы). То же самое утверждает классическое для буддистской праджна-парамита высказывание (Prajna Paramita Sutra): «taccitam acittam yaccitam», т. е. «сознание не сознание, т. е. сознание»[405]. Показательно, что философия дзэн-буддизма описывает такую форму мышления как «прыжок». Судзуки в тексте «Прыжок к иной силе», ссылаясь на авторитетного классика буддизма «Чистой земли» (Ten-dai) Синрана («Kyogyoshinsho»), так формулирует это: «Путь к истине прям. Как раз в тот самый момент, когда вера открыта, мы прыгаем в сторону через бездну. Идея прямого прыжка в сторону представляется, на самом деле, странной… Верящий рассудок «совершает прыжок и не знает в своей единственной мысли — спонтанно, немедленно — никаких различений, таким образом достигается несравненное совершенное высшее просветление»[406].
Применяя «логику утверждения-в-отрицании» Судзуки и его толкование прыжка к мысли Хайдеггера, мы получаем такую картину: сущее есть ничто (оно смертно и содержит в себе смерть как свою сердцевину), будучи ничем, оно по-настоящему есть, т. е. причастно Seyn-бытию. Seyn-бытие ведет с ним борьбу посредством ничто (Nichts), чтобы приобщить таким образом его к самому себе (то есть к Seyn-бытию), а не к не самому (не к сущему и его версиям), ничто же служит инструментом для разбивания иллюзии сущего относительно самого себя и обнаружения истины Seyn-бытия, которая и есть одновременно последняя истина бытия (Wesung) сущего.
Введение «ничто» (Nichts) как важнейшего имени в философии Хайдеггера в определении прыжка подводит к теме смерти. Смерть — это ничто, данное нам в конкретном экзистенциальном опыте. Смерть не затрагивает богов, они бессмертны. В этом их свобода, но и в этом их ограниченность. Поэтому Бог однажды и решается умереть — он хочет испытать встречу с ничто прямым образом, как то, чего он в своем бессмертии лишен. То есть это прыжок в сторону (на сей раз прыжок Бога). Бог сопряжен с Seyn-бытием, но не сопряжен с сущим (Seiende). Сущее и человек как мыслящее сущее сопряжено с ничто как со смертью (человек, в отличие от других сущих, способен мыслить о смерти — и в этом состоит его фундаментальное отличие, делающее его способным к учреждению/обоснованию Da-sein'а). От Бога сокрыто ничто. От человека Seyn-бытие. Богу оно явлено. Человеку явлена смерть. Снова мы видим тонкую и сложную триаду: люди — Seyn-бытие — боги, в которую теперь вброшено ничто как раскол, пространство битвы и вызов.
Прыжком является выход за те границы, в которых оказались заключенными все эти полюса — Бог в своем бегстве, затем в темнице теологии, переходящей плавно в карцер атеизма; человек в границах сущего и смерти, в окорачивающем убогом сочетании животности с механичностью; Seyn-бытие в Sein-бытии, в ничто и в сущем одновременно; ничто в ничтожности современного нигилизма… Все они должны быть освобождены, выпущены на свободу, предоставлены чистой игре, чтобы выстроить свои отношения совершенно иным образом — в условиях Ereignis'а и другого Начала философии.
Основание (Gru..ndung): Da-sein
В этом большом разделе, состоящем из пяти частей, речь идет о том, как другое Начало начинается в сфере конкретного исторического свершения. Здесь можно выделить три главные темы:
• переосмысление Da-sein'а как главного момента другого Начала (части а) и b));
• вопрос о бытии истины (части c) и e));
• рассмотрение времени-пространства (или времени-игры-пространст-ва) — часть d).
В первую очередь, этот раздел развертывает картину понимания самим Хайдеггером Dasein'а в свете его интенсивного осмысления Ereignis'а и другого Начала философии. Это существенно отличается от того, что можно было бы вывести из «Sein und Zeit», причем настолько, что разрушает большинство построений, основанных на прочтении, осмыслении и истолковании «Sein und Zeit» исследователями, не знакомыми с «Beiträgе». Хайдеггер мыслит Dasein как откровение, как вспышку, как то, что требуется основать/учредить и что само является основанием и обоснованием того, что требуется основать/учредить. Иными словами, Dasein — все что угодно, только не наличная данность, как это могло показаться после знакомства с «Sein und Zeit» и как восприняли эту работу многие, например, французские экзистенциалисты. Хайдеггер, знакомый к концу 1930-х с этими интерпретациями, убежден, что его неправильно поняли, а точнее, вообще не поняли. Поэтому он поясняет: «Sein und Zeit» — это не «идеал» и не «программа», но готовящее само себя начало бытия (Wesung) самого Seyn-бытия; это не то, что мы измысливаем, но то, что нас учреждает, чтобы мы дозрели до воплощения в мышлении (Denken) не выдачи нового учения, не призыва к новым «моральным» деяниям, не обеспечения «экзистенции», но «только» обоснования истины как Времени-Игры-Пространства (Zeit-Spiel-Raum), где сущее снова сможет быть, т. е. являться охранением Seyn-бытия»[407]. Другими словами, «Sein und Zeit» надо воспринимать как своего рода философское откровение, подлежащее интерпретации, перед лицом которой сам автор находится на такой же дистанции, как и те, кто это произведение читают. «Sein und Zeit» есть фундациональный акт другого Начала. Это не критика и не система, это эсхатологический момент самого прыжка, который уже осуществлен этой книгой и поэтому является начатым, начинающимся другим Началом. «Sein und Zeit» обосновывает другое Начало, начинает его.
«Da-sein есть сбывание в событии (Er-eignung im Ereignis) как в бытии (Wesen) Seyn-бытия»[408]– с такого определения (ничего не определяющего, но напротив, стремящегося с самого начала выйти за пределы любых пределов) начинает Хайдеггер этот раздел (глава 168 Da-sein und Seyn). А уже в следующей главе 169, с постоянно повторяющимся в книге названием «Da-sein», Хайдеггер соотносит Da-sein с богами и божественным, определяя его через отсыл к божеству, давая понять, что Da-sein и все с ним связанное, относится в равной степени к философии и теологии, к той многогранной проблеме, где человек, Seyn-бытие и Бог (боги, божественное) неразрывно переплетены. Говорить о чем-то одном без отнесения к другому — бессмысленно. Da-sein, в конце концов, и есть узел пересечения этих силовых линий мира; место, где человек, Seyn-бытие и Бог сопрягаются друг с другом, накладывая друг на друга сектора своих респективных самотождеств, приближаясь и удаляясь в войне или игре. В другом месте Хайдеггер поясняет особенность этого узла: «Бог не есть «сущий», но и не «не сущий», не тождественен он и Seyn-бытию, но Seyn-бытие существует (west) пространственно-временным образом как то «между» (Zwischen), которое никогда не может быть основано в Боге, но и не в людях, как в том, что наличествует и живет, но лишь в Da-sein'е»[409]. Поэтому Da-sein всегда может быть соотнесен с Seyn-бытием, сущим, человеком и богами. При этом соотнесение с богами столь же конститутивно для него, как и с человеком и Seyn-бытием. Без отсылки к Божественному любые разговоры о Da-sein'е можно закрыть. Тот, кому опыт Божественного не доступен даже в самом отдаленном виде, может завершить чтение Хайдеггера (и среднего, и раннего, и позднего), т. к. это полностью потеряет отныне для него всякий смысл: центральный момент его философии (Da-sein) напрямую соотнесен с Богом. И в главе 169 он это в очередной раз подчеркивает: «Вся жесточайшая сила внутренней гибкости Da-sein'а состоит в том, что он не пересчитывает богов и не расчитывает на богов и не считается ни с каким Единственным из них». Что это за определение? Утверждает ли оно, что боги есть, но Da-sein не поверяет их количественными математическими операциями, не включает их в свои волитивные стратегии и не снимает свое вопрошание в скоропалительном ответе на непоставленный вопрос в застывших системах монотеизма? Или, что Da-sein следует мыслить как нечто заведомо а-теистическое? Мы склоняемся к первому истолкованию, но, даже если допустить второе, нельзя сбросить со счетов, что отрицанию здесь подвергается только один вид связи Da-sein'а с богами и Богом, основанный на глаголе zahlen, считать, и его производных (считаться, расчитывать). Da-sein а-теистичен в том смысле, что он отвергает саму возможность отношения к Божественному через счет. Он относится к Божественному, но не через счет, не через рассудок, не через рациональные структуры старого Логоса. Эти структуры, на которых покоится классическая западная метафизика, откладываются Da-sein'ом во всех случаях и применительно ко всем областям, в том числе и к теологии. Только Логос, основанный на зигетике, на вслушивании в примордиальное молчание, способен участвовать в другом Начале и быть его основой. Другой Логос. Именно он строит на базе Da-sein'а другую философию, новую философию, новую метафизику, а параллельно, как другая грань того же самого жеста — другую теологию, теологию новых богов. Da-sein а-теистичен в отношении к старым богам и старому Богу, удаление первых и смерть второго он, однако, драматически и глубоко переживает. Но из этого трагического а-теизма произрастает напряженное ожидание «новых богов», подготовка места для их эвентуального прихода. И в этом смысле Da-sein не просто теологичен, он структурирован при всей своей опоре на себя самого как эсхатологическая стрела, брошенная в сторону последней (и первой) фигуры — фигуры Последнего Бога.
Da-sein сам по себе есть нечто абсолютно эсхатологическое, принадлежащее не актуально данному настоящему, но лишь возможному и негарантированному будущему. Da-sein является сущим (здесь и сейчас) только как «основание определенного (а не любого) будущего человеческого бытия»[410]. Поэтому Хайдеггер описывает Da-sein как процесс, не как Grund (основание), но как Gründung (процесс основания).
Этот процесс основания (Gründung) является продолжением прыжка (Sprung). Хайдеггер так определяет их связь в главе 181: «Прыжок есть самооткрывающее самобросание в Da-sein. Da-sein основывается в прыжке. То (место), куда этот самооткрывающий себя прыжок совершен, основывается через сам прыжок»[411]. Важно, что в «Beiträgе» Da-sein практически отождествляется именно с процессом основания в цепочки маршрута практического перехода от Конца Первого Начала к другому Началу. После предварительного обзора Хайдеггер утверждает цепь: Отклик–Подача–Прыжок–Основание, где основание и есть учреждение, конституирование Da-sein'а как предпосылки Ereignis'а. Мы имеем дело не с экзистенциалистским описанием человека извне, но с рядом последовательных моментов, в которых трансформации подлежит сложный узел из Seyn-бытия, сущего, человека, мышления, богов, Бога и ничто. Они неявно совмещены на всех стадиях — от Первого Начала, где впервые приходят в осмысленное и систематическое соприкосновение, до Конца этого начала в европейском нигилизме, но в преддверии другого Начала они собираются снова и в совершенно новой конфигурации, конституируя Da-sein как начинающийся Ereignis. Da-sein собственно есть только в будущем, в настоящем он может быть, а в прошлом он был не как он сам, т. е. не собственно, хотя в этой несобственности (неаутентичности) скрыто послание о том, что такое собственное (аутентичное).
В такой динамичной исторической перспективе (онто-исторической, seynsgeschichtliche) и следует понимать человека. Человек определяет свое самотождество в первую очередь через отношение к к Da-sein'у. Человек, таким образом, тоже не есть данность, не имеет самотождества, а его идентичность включена в процесс. Человек есть процесс, причем открытый, с неизвестным концом и негарантированным смыслом. Хайдеггер задается вопросом: «Кто человек такой?» и отвечает: «Тот, кто используется Seyn-бытием для вынесенной установки существования (Wesung) истины Seyn-бытия». Далее он развивает эту мысль: «Человек есть и является тем более затребованным (используемым), чем более он основан в Da-sein'е, т. е. чем в большей степени он сделал сам себя основателем Da-sein'а. Seyn-бытие же следует понимать как Er-eignis. Оба сходятся: основание в Da-sein'е и истина Seyn-бытия как Ereignis»[412]. Важно, что снова человек определяется через его «использование». Раньше это было использование Божественностью для подготовки прихода Последнего Бога. Теперь он используется Seyn-бытием. В обоих случаях — и в философском, и в теологическом — человек мыслится Хайдеггером как процесс, как задание, как возможность будущего. Он обращен к тому, что он может сделать, т. е. к фундаментальности последнего решения. Это решение и есть Da-sein. Если человек ничего не решает, то он все равно нечто решает, а именно, он решает не быть другому Началу, он вырывает основу из-под возможного Da-sein'а, он аннигилирует своей ничтожностью самого себя, свое будущее и свое бытие. Тем самым он упраздняет себя как человека. Будучи человеком, он может быть Da-sein'ом, может основывать его, становясь его основателем и его основанием. Если он этого не делает, т. е., если он эту возможность закрывает, он открывает другую возможность — не быть. Но тогда смерть и ничто подходят к нему сзади, незаметно и неожиданно, постепенно наполняют его изнутри, превращают в цифровой код, в элемент отчужденной машинерии, наполняют серией никуда не ведущих переживаний, помещают в пространство, где нет ни дня, ни ночи, ни тьмы, ни света, делают его ничтожным и тем самым уничтожают его еще задолго до того, как труп будет брошен в землю. Человек, таким образом, становится самим собой только в процессе начинания другого Начала, как основатель предпосылки Ereignis'а. Не делая этого, человек перестает быть человеком и немедленно гибнет под обломками рухнувшего старого Логоса. Это суровый закон Untergang'а.
Хайдеггер всегда соотносил свою философию с народом (Volk). Это классическая традиция немецкой философии. Будучи фундаментально одиноким, немецкий мыслитель обязательно мыслит о народе, который является постоянным коррелятом его философствования. Если люди как другие индивидуумы (в обычном случае не затронутые стихией упорядоченного мышления) немецкого философа не интересуют (часто он их презирает или открыто ненавидит, как Ницше), то народ как качественное единство, как Deutschen представляется совсем иначе, вызывая глубокий интерес, чувст-во глубинного родства и понимания. Повседневный и простой быт Шварцвальдского крестьянина служил Хайдеггеру источником возвышенных философских обобщений и образов. Немецкая философия всегда элитарна и народна одновременно, как, впрочем, и древнегреческая. В ней лишним является лишь индивидуум, позднее — либерал, носитель наглого профанического «я», не способный ни подняться к высотам трудной, почти божественной философии, ни скромно погрузиться в изысканную по-своему простоту народных дел, обычаев, обрядов и верований. В духе этой традиции, во многом свойственной и русской интеллектуальной элите XIX века, Хайдеггер так решает проблему народа (Volk) в логике исторической динамики, направленной к другому Началу, на той стадии, где речь заходит об «основании (Gründung) Da-sein'а».
«Бытие (Wesen) народа (Volk) следует понимать только из Da-sein'а, поэтому всегда надо помнить, что народ никогда не может быть ни целью, ни задачей сам по себе, поскольку это было бы простым расширением идеи либерального «эгоизма» и промышленным выражением поддержания и обеспечения «жизни». Бытие народа есть «голос» (Stimme). Этот голос не говорит в так называемом непосредственном дискурсе простого, естественного, необразованного и невоспитанного «человека». Вышеназванные черты такого «человека» свидетельствуют не о том, что он не образован, но о том, что он неправильно образован и не способен относиться к сущему с истинной и прямой непосредственностью. Голос народа звучит редко и только через немногих избранных (…)»[413].
Этот пассаж (глава 196) чрезвычайно важен для понимания того, как Хайдеггер мыслил другое Начало на практике в отношении человека. Человек есть область возможного основания Da-sein'а как места подготовки Ereignis'а. Он является важнейшей составляющей сложного узла, в котором переплетены боги, Бог, сущее, ничто, Seyn-бытие. В человеке можно выделить четыре составляющие:
1) возможность быть основанным как Da-sein и стать его основателем (тогда человек относится к будущим (Zu-Künftigen)), такими могут быть «редкие» и «немногие»; философы, мыслители, поэты, герои;
2) возможность быть частью народа, т. е. служить окружностью Da-sein'a через прямое и деликатное отношение к сущему как к природному, т. е. «восходящему», — это крестьянское отношение, хранящее в себе ключи к древним аграрным метафорам — φύσειν-λέγειν (откуда берут свое начало физика и Логос), предопределившим структуру Первого Начала философии у досократиков;
3) возможность настаивать на старом Логосе, консервативно отстаивая прежние фазы его движения к краху перед лицом наступающего нигилизма (эта позиция обречена, т. к. основана на страхе перед Untergang'ом и тем знанием, которое сопутствует нигилизму);
4) возможность поддаться энергиям нигилизма, оптимистически радоваться миру без дня и ночи, не замечая никаких катастрофических явлений, довольствуясь последними крохами распыленного Логоса в форме совершенствующихся технологий и примитивно-телесной заботы о себе (либерализм, глобализм, общество потребления, прогресс).
Эти четыре угла человечества могут быть соорганизованы по-разному. Если другое Начало начинается, то первые становятся во главе, вторые — составляют их естественную среду: и те и другие соучаствуют в процессе основания Da-sein'а, т. е. совершают бросок навстречу Ereignis'у. Философы и народ начинают экзистировать аутентично. Четвертый человеческий угол — бессмысленные носители чистой инерции — упраздняется как позиция, добровольцы включаются в народ, особенно упорные исчезают. Третья позиция не представляет собой особенно влиятельной группы и частично интегрируется в новую элиту (элиту другого Начала), частично также упразд-няется.
Если же решения о другом Начале не принимается, то Da-sein не основывается, а его основатели не являются основателями, и, следовательно, сам Da-sein упраздняется вообще. Обратите внимание: упраздняется как сама возможность возможности стать местом Ereignis'а. Вот это настоящая катастрофа, по сравнению с которой катастрофа Untergang'а выглядит ничтожной… В этом случае во главу угла человечества ставится четвертый тип человека, который лишен Da-sein'а и не просто экзистирует неаутентично, но вообще не экзистирует никак. Экзистировать может только то, что способно к Seyn-бытию. То, что не способно, то ничтожно до такой степени, что не способно схватить собственную ничтожность. Им что ночь, что день, что да, что нет. Это больше не люди, но Machenschaft, автономное функционирование потребляющей и производящей машинерии. Доминация четвертого угла человечества ведет:
1) к маргинализации и упразднению носителей Da-sein'а, т. е. закрытию философов и поэтов как правящей (духовно) касты;
2) модернизации народа и превращении его в либеральное гражданское общество, состоящее из эгоцентричных космополитических индивидуумов;
3) постепенному перевоспитанию и исчезновению консервативных групп, пытающихся отстоять фрагменты старого Логоса, их возрастающей криминализации и демонизации.
В тех случаях, когда доминирует второй угол, он вынужден обратиться за проектом к представителям одной из трех более отчетливо осознающих стратегии человечества группам. А сохранение лидирующей позиции консервативными элитами, которые могут довольно устойчиво опираться на вторую группу, вытеснить первую на периферию и попытаться сдержать четвертую, будет эфемерным (как показывает социально-политическая история Нового времени) и рано или поздно будет опрокинута Untergnag'ом, неизбежно выдвигая на первый план четвертый угол человечества.
К этой схеме можно свести политическую философию Хайдеггера, о которой он предпочитал не распространяться, но которая легко просматривается в его работах и, в частности, в «Beiträgе».
Основание (Gru..ndung): бытие истины
В части с) раздела об Основании Хайдеггер заново на нескольких спиралевидных заходах осмысляет свое учение об истине. Эта тема изучена лучше остальных на примере других сочинений Хайдеггера. В контексте данной книги важна прежде всего локализация учения об истине в общей цепи философских шагов (прыжков) в направлении другого Начала.
Хайдеггер считает, что изначально у досократиков истина (ἀλήθεια) понималась как «открытость», т. е. восходящее движение сущего навстречу тому, кто это сущее готов воспринять (греческий глагол φύσειν — «всходить» (о зернах, ростках), aufgehen, «подниматься»). Φύσις, природа есть подъем сущего, всход сущего. Истина есть то, что взошло, что открылось, что выдало себя взгляду, серпу, руке, слуху, вкусу, запаху. Но в основе такого обнаружения сущего лежит пока еще не дифференцированное чувство восприятия. Таким образом, истина связана с сущим. И это предопределяет истину во всем контексте Первого Начала.
Однако у досократиков истина есть открытость сущего как такового, пока еще единого, целого и одновременно многого, еще не оторвавшегося от онтики, сохранившего тем самым прямую связь с сущим, оставаясь в сущем. Это как раз нравится Хайдеггеру, т. к. строительство фундаменталь-онтологии и описание экзистенциалов Dasein'а движутся как раз по этому пути — через прямое освоение онтической среды в прозрачной связи с ней как с сущим, поставленным в открытое. Поэтому ἀλήθεια Первого Начала отчасти применима и к другому Началу. — Dasein обосновывается несокрытостью.
Далее начинается более сложный процесс. Платон и платоники сужают понятие истины как несокрытости, сводя ее необозримое богатство восхождения к конкретным типам сущего — к свету (φώς), ярму (ζυγόν), идеям, эйдосам, формам, сущностям (эссенциям). Так открытость сущего стягивается к набору конкретных единиц сущего, относящихся к высшим рядам иерархической таксономии. Теперь несокрытость означает уже не просто движение сущего навстречу (пока неизвестно кому или чему — позднее это будет определено как Логос, жатва, серп, сознание), но соотношение сущего как явления с сущим как эссенцией сущего — с идей. Из прямой и полной несокрытости, истина превращается в относительную несокрытость, измеряемую отношениями внутри платонических и аристотелевских таксономий. Поэтому истина постепенно перестает быть несокрытостью и становится подлинностью соответствий (то есть мерой правильности). Постепенно уже в Новое время истина вообще низводится до воли и ценности, вплоть до низшей формы философии — прагматизма и утилитаризма, где она отождествляется с «пользой». Таким образом, осуществляется нисхождение истины, ее Untergang.
В другом Начале истина должна быть возвращена к досократическому пониманию. Поэтому снова надо говорить об ἀλήθεια во всем объеме этого изначального имени. Этого требуют отклик и подача. Досократическое понимание истины устанавливает связь между другим Началом и Первым Началом, причем, не отождествляя их, но наоборот, соотнося на максимально возможной дистанции. И здесь происходит самое главное — прыжок, ведущий к основанию (Da-sein'а). В отношении истины это значит следующее. В другом Начале Хайдеггер берет истину как ἀλήθεια и досократическую несокрытость, но применяет ее не к сущему, как было в Первом Начале. С этого момента начинается сложная диалектика хайдеггеровского учения об истине. Открытости, несокрытости, помещению на территорию вспышки подлежит не сущее, но само Seyn-бытие, которое отделено от сущего режущей канвой ничто (Nichts). Обнаружить Seyn-бытие напрямую невозможно, оно не может взойти так, как всходят ростки, т. к. не является сущим: никаким сущим — ни божественным, ни высшим. Seyn-бытие не сущее и не может быть сущим, но сущее есть только в силу причастности к Seyn-бытию, которого нет в том смысле, в каком есть сущее. Seyn-бытие не может открыться, т. е. его истина (помещение в открытое) невозможна. Но если это так, то не является ли сокрытость, забвение Seyn-бытия, и, в конце концов, ничто, истиной Seyn-бытия? Да, является, утверждает Хайдеггер, и чем гуще ничто, тем проще истина Seyn-бытия. Таким образом, несокрытость в отношении Seyn-бытия есть понимание ее сокрытости как единственно возможной формы откровения. Но для того, чтобы сделать такой вывод, надо отнестись к Seyn-бытию не с позиций Логоса, а с позиций зигетики, способной схватить содержание выразительного молчания, правильно интерпретировать ничто.
В этом и состоит прыжок и основание (Gründung) Da-sein'а в другом Начале: несокрытость (истина) применяется к тому, что не может быть несокрыто (к Seyn-бытию), что, напротив, может быть только скрыто, забыто (λήθη), а, следовательно, если настаивать на таком обнаружении, то взойдет не сущее, но не-сущее, ничто, как факт дистанции, отделяющей Seyn-бытие от сущего. Поэтому открытость (истина) Seyn-бытия в другом Начале и похожа на ἀλήθεια Первого Начала (это тоже несокрытость — в отличие от позднейших метаморфоз истины в платонизме и его отголосках вплоть до Нового времени), и не похожа на нее, т. к. обращена не к сущему, а к Seyn-бытию, которое не есть сущее, но, не будучи сущим и не из сущего, в сравнении с сущим, оно есть ничто (Nichts).
Местом такого рассуждения и должен стать истинно основанный Da-sein.
Основание (Gru..ndung): время-пространство
Далее Хайдеггер разбирает очень важную и трудную тему: отношение Da-sein'а к пространству и времени, т. е. его темпоральность и его спатиальность. Здесь он рассматривает формулу, введенную ранее, время-пространство (Zeit-Raum). О различии русского имени «время» и немецкого Zeit в самых глубинных семантических пластах, отраженном в респективных этимологиях, мы говорили в другом месте[414]. С русским «пространством» и немецким Raum тоже не все просто. Немецкое «Raum» восходит к индоевропейскому корню «*reuǝ»-, означающему «открывать». То есть «Raum — «свободное место», «место, предназначенное подо что-то», «Zeit» — вырубленный из непрерывности момент. «Zeit-Raum» есть нечто ограниченное и освобожденное, т. е. обрезанное (русское образ). Это можно уподобить доске, заготовленной под икону: уже есть нечто, но пока еще нет ничего. Zeit-Raum — это нечто, пока еще не являющееся ничем, но подготовленное под Da-sein. Raum может стать Da (вот, здесь). Zeit может стать Sein (как в «Sein und Zeit»). Но как Da-sein нерасчленим, так нерасчленимо и Zeit-Raum (Время-Пространство). Время-Пространство являет себя в Другом Начале через экзистирование Da-sein'а. Сами по себе они не являются ничем из сущего. В старой метафизике, построенной на Первом Начале, два эти понятия всегда были разведены, мыслились по отдельности и сопоставлялись друг с другом.
Время-Пространство нельзя мыслить ни как сочетание двух в одно, ни как добавление времени как четвертого измерения к трем измерениям пространства (как в эйнштейновой теории относительности), ни как отдельные априорные формы чувственности (по Канту время находится ближе к субъектности, пространство — к объектности). Время-Пространство есть общий корень времени и пространства, которые являются его ветвями. На том уровне, на котором существует Время-Пространство, еще нет ни времени, ни пространства; они проявляются только тогда, когда выходят за границы Времени-Пространства.
Хайдеггер предлагает мыслить Время-Пространство как бездну (Abrgrund). Он пишет в главе 242: «Без-дна (Ab-grund) есть изначальное бытие (Wesen) основы (Grund). Основа есть бытие (Wesen) истины. Если мы отсюда помыслим Время-Пространство как без-дну и обратно определим без-дну, отталкиваясь от Времени-Пространства, нам откроется обратное отношение и связь Времени-Пространства с бытием (Wesen) истины. Бездна есть изначальное единство пространства и времени, то объединяющее единство, которое в начале позволяет им разойтись в своем разделении»[415].
Отождествление Времени-Пространства с бездной на новом уровне касается вопроса открытости как истины, точнее, истины как открытости. Бездна зияет, бездна пуста, бездна есть отсутствие дна. Эти свойства резонируют с пониманием несокрытости, истины в другом Начале. Несокрытость здесь, как мы видели, относится не к сущему, которое могло бы быть надежной основой (Grund), но к тому, что не является сущим, к Seyn-бытию, выступающему как ничто (из сущего), а, следовательно, к бездне (Abgrund). Истина Seyn-бытия, таким образом, должна обнаружить бездну. Это обнаружение сопутствует учреждению Da-sein'а. И в том, что бездна как истина Seyn-бытия и одновременно как основание (Grund) основываемого Da-sein'а, есть Время-Пространство, содержатся стартовые постулаты новой физики. Хайдеггер говорит, что в другом Начале, прежде чем мыслить пространство и время как нечто отдельное, необходимо мыслить их как нерасчленимую бездну, как истину Seyn-бытия, реализуемую в Da-sein'е. Разделение Времени-Пространства на время и пространство есть как раз тот выбор русла, по которому потечет сущее из истока другого Начала, в котором взовьется выброс Seyn-бытия. Но это русло, зависящее от структуры притяжения и ландшафта, в сам момент другого Начала еще не существует. Поэтому сущее, окунувшееся в источник вечности, в самый первый момент может отправиться (теоретически в любом направлении), а значит, время и пространство могут разойтись друг с другом в самой неожиданной и причудливой конфигурации, абсолютно не представимой сегодня, когда время и пространство старой метафизики, растерзанные, распыленные и униженные нигилизмом современности, доживают свои последние дни, задерживаясь на грани полной энтропии, перехода в виртуальность (пространство) и пост-историю (время). В предыдущих главах Хайдеггер употреблял выражение Пространство-Игра-Время (Zeit-Spiel-Raum), чтобы подчеркнуть в среднем члене (Игра) неопределенность баланса Времени и Пространства в этой изначальной неразделенности.
В другом Начале достоверно дана бездна как форма открытости ничто, а через это — истины Seyn-бытия. Эта бездна есть конкретное основание Da-sein'а, т. е. факт Ereignis'а.
Эта связь Ereignis'а и бездны как Времени-Пространства приводит Хайдеггера к тому, что он называет «местом мгновения» (Augenblick-Stätte). Ereignis происходит мгновенно. То, что длится, есть задержка Ereignis'а, его откладывание, его промедление, его «все еще не» (noch nicht). Ereignis, случаясь, сбывается вне пространства и времени, точнее в момент и в месте, которые еще неразрывны. Это и есть Время-Пространство как Da-sein.
Грядущие
Если мы справились в основном с предыдущими моментами, которые в тексте Хайдеггера представляются намного более трудными и неясными, тема «грядущих», «будущих» (Zu-Künftigen) не составит для нас большой проблемы. «Грядущие» суть те, в ком Da-sein обосновывается фактически, т. е. те, кто прошли последовательно все этапы данной работы, включая огромный массив мысли Хайдеггера, изложенной в других его работах, корректно усвоенных и продуманных, и следуя за всеми пояснениями, совершили прыжок и основали Da-sein как возможность и готовность к аутентичному Seyn-бытию.
Здесь следует вспомнить исторический момент, когда Хайдеггер формулирует утверждения и проекты своей книги «Beiträge zur Philosophie». Это Европа конца 1930-х годов, Германия, предвестие и начало Второй мировой войны. Полная неопределенность относительно того, какая идеологическая система (либерализм, коммунизм или фашизм) одержит верх в смертельной схватке. Идентификация Хайдеггера и его положение на этой карте известно. При этом все три идеологии для Хайдеггера фатально заражены Machenschaft, насыщены остатками старого разлагающегося Логоса, пронизаны нигилизмом, сциентизмом, атеизмом, безысходной субъект/объективной топикой Нового времени, т. е. представляют собой нижнюю границу Untergang'а. Германия как Европа и прямая наследница Запада, западной философии тем не менее находится в особом положении в сравнении с коммунистической Россией и англосаксонскими либерально-буржуазными режимами, в первую очередь, с США. Для Хайдеггера это две версии нигилизма, который не содержит в себе шанса стать территорией переосмысления истории с позиции бытия (Seynsgeschichte)[416]. Но и Германия и ориентированные на нее европейские страны поражены тем же недугом: они строят свои общества на технике и расчете, индустрии и науке, на человеке толпы и удовлетворении материальных потребностей, они тоже заражены нигилизмом и Machenschaft. Но в Европе 1930-х еще не все потеряно. По-среди нигилизма сияют разрозненные очаги духа — в философии, поэзии, искусстве, культуре. Лидеры государств читают Ницше и размышляют над его парадоксами. Массы открывают для себя классическое наследие. Мыслители ставят принципиальные вопросы остро и дерзко. Поэтому Хайдеггер видит впереди европейское пространство как историческую зону возможного Ereignis'а, как поле, которое может стать Пространством-Временем для основания Da-sein'а. Поэтому «грядущие», которых он называет «редкими» и «немногими», это «грядущие Европы», «новые люди» возможной Европы, европейские «стражи истины Seyn-бытия». Хайдеггер не знает судьбы Германии и стран Оси, не знает исхода Второй мировой войны, не знает по-слевоенной Европы, поделенной между собой СССР и США (двумя гипернигилистическими полюсами), не знает своей собственной судьбы и судьбы своего наследия в 1950-е — 1970-е годы. Поэтому его «грядущие» мыслятся им как, возможно, близкие, готовые к прыжку или уже в прыжке, стоящие на пороге основания Da-sein'а или уже его основывающие, приближающие всеми силами Ereignis или уже приблизившие, выходящие за границы мира, где нет «ни дня, ни ночи», или уже вышедшие. Эти «грядущие» на расстоянии вытянутой руки от него. К ним он обращается, их предчувствует. Он еще не знает, что решение не будет принято, что промедление окажется гораздо более долгим и мучительным, что Ereignis вновь будет отложен на неопределенное время. Пока же он пишет, говорит, верит и сам, не дожидаясь никого, начинает другое Начало. «Грядущий» — это он сам.
Все «грядущие», по Хайдеггеру, глубинно понимают и духовно переплавляют в себе стихию европейского нигилизма. Хайдеггер подчеркивает, что «грядущие» не свободны от Untergang'а, наоборот они погружены в него, они и есть те, кто «падает» в «упадке» Запада, «закатывается» вместе с «закатом Европы», они суть «нисходящие», Untergehenden. Хайдеггер формулирует это так: «Нисхождение (Untergang) в сущностном смысле есть путь к молчаливой подготовке грядущего, мгновения и места, где и когда совершится решение о приходе или продолжении сокрытия богов. Это нисхождение есть самое первое Начало из всех (…).
Нисходящие в сущностном смысле суть те, кто предвосхищают грядущее (будущее) и жертвуют собой для него как еще более будущее, грядущее невидимое основание (…). Эпоха упадка, нисхождения (Unter-gang) познаваема только принадлежащими. Все остальные должны бояться этого упадка, поэтому лгать о нем и извращать его суть. Ведь для них это только слабость и конец»[417].
Здесь мы видим, как разделяется путь «редких» и «избранных», «принад-лежащих», с одной стороны, и всех остальных, с другой. И те и те находятся в процессе нисхождения (Untergang), но одни внимают сути этого процесса с тем, чтобы схватить содержащееся в нем парадоксальное послание, а другие увлечены самим упадком как слепой силой, роком, и не в силах выдержать трудной истины катастрофы современного Запада, краха Нового времени, ужаса европейского нигилизма, оформляют распад как прогресс, ажитацию, социальную мобилизацию, технический рывок, построение нового общества, развитие и совершенствование новых рынков. Декаданс является общим; отношение к нему, степень и качество его осмысления, его толкование и глубина его проживания прокладывают фундаментальную границу внутри человечества — между «грядущими» и теми, у которых нет будущего и чей непрерывный конец видится им как бесконечный процесс, который никогда не кончится. Хайдеггер говорит об этом: «Конец никогда не видит сам себя, он считает себя совершенствованием и поэтому никогда не готов и не подготовлен к ожиданию наступления последнего и к опыту встречи с ним»[418]. Отсюда парадокс: «грядущие» ясно осознают то, что Конец уже наступил, и поэтому-то у них и есть будущее (как Ereignis), а все остальные абсолютно убеждены, что Конец не наступит никогда, и поэтому в будущем им отказано.
Признаком «грядущих» является сдержанность и спокойствие. Событие (Ereignis), к которому они готовятся и которое они готовят, основывая Da-sein, требует глубокой тишины. Хайдеггер говорит: «Главным свойством отзвука является ужас перед открывшейся оставленностью Seyn-бытием и робость перед вызываемым этим отзвуком Ereignis'ом»[419]. Ужас в совокупности с робостью есть мера глубины философии. Тот, кто не испытывает ужаса от современности, тот вообще ничего не понимает в той эпохе, в которой живет. Тот, кто подходит к Ereignis'у грубо и дерзко, истерично и навязчиво, тот отложит его на неопределенный срок, т. к. сорвет тончайшее переплетение силовых линий, необходимое для того, чтобы Последний Бог, проходя по периферии Da-sein'а, сделал бы решающий знак (Wink), удостоверяя тем самым действительность другого Начала, подтверждая, что оно началось.
Последний Бог
«Er-eignis и доступ к нему в бездонности Времени-Пространства есть сеть, где подвешен Последний Бог, чтобы однажды прорвать ее и завершить пребывание в своем одиночестве, проявившись божественно, странно и наиболее чуждо во всем сущем»[420], — так определяет ключевой момент всей книги Хайдеггер. Ereignis и есть другое Начало, совпадающее с приходом Последнего Бога.
Собственно, все предыдущие рассуждения были лишь прелюдией к этой главной фигуре книги «Beiträge zur Philosophie». Последний Бог — это ядро, смысл и полюс всей философии Хайдеггера среднего периода, периода, когда весы решения дрожали в неопределенности, когда победа и выбор истины казались еще возможными.
Чтобы понять, кто такой Последний Бог, надо еще раз обратиться к пониманию Хайдеггером места богов, Божественности и Бога в общей структуре его фундаменталь-онтологии и его онто-истории (Seinsgeschichte).
Боги не обладают гарантированным бытием. Их бытие принадлежит сфере нерешенности. Проблема бытия и вопрос о бытии в целом является проблематичным на всех уровнях и для всех существ. Поэтому отсутствие у богов такого бытия, которое позволило бы однозначно сказать, что боги есть, не является препятствием для помещения их в центр философии. Боги не есть сущее — такое, каким являются камни, звери, звезды, травы, реки, горы, леса, поля, мосты и дома. Но само сущее еще вовсе не значит, что оно относится к Seyn-бытию и, тем более, что оно этим Seyn-бытием обладает (совершенно точно, что не обладает: обладать им невозможно, это оно может обладать чем-то, более того, чем угодно, если только захочет). Человек есть сущее, этим он близок к остальному сущему. Но человек может поставить перед собой вопрос о бытии сущего, и этим он отличается от остального сущего. Человек может тем самым поставить сущее под вопрос, а значит, он может поставить под вопрос и самого себя. Он может задуматься об отличии сущего и бытия (Seiende и Sein) и тем самым сфокусировать свое внимание не чем-то, что не есть сущее, но делает сущее сущим. Так он заходит в область того, что не есть сущее, т. е. в область ничто, не сущего. Более того, он обнаруживает, насколько важна эта область для самого сущего и для человека. Так он приходит к мысли о богах и Боге.
Мысля Seyn-бытие как не сущее (ничто, Nichts), человек учится разбираться в том, чего нет (как сущее), но что делает сущее сущим. В этой области он и встречается впервые с Божественным. Божественное принадлежит к сфере не сущего. Значит, с позиции сущего его нет. Но человек ставит сущее под вопрос, тем самым ставя под вопрос самого себя. Кроме сущего у него есть еще нечто, что относится к сущему (делает его сущим) и к человеку (делая его вопрошающим, обреченным на решение и предшествующую ему нерешенность). Это нечто включает в себя бытие (как Seyn-бытие) и Боже-ственное. Так у человека возникает две линии диалога с не сущим (ничто). Первая линия — это «основной вопрос» (Grundfrage), в котором человек выясняет отношение всего сущего с Seyn-бытием, причем как сущего вне себя (что предлежит человеку, что всходит перед ним, природа) и как того сущего, которым является он сам. Эта линия философии.
Вторая линия диалога с ничто развертывается вдоль оси люди-боги, смертные-бессмертные. Человек есть нечто отличное от всего остального сущего. Это отличие состоит в вопрошании, в необходимости решения, в остром переживании смерти как обратной стороны сущего, полностью закрытой от всего сущего, кроме человека, который не просто смертен и конечен, но осознает себя смертным и конечным. Это делает человека существом страдающим, «патетическим» (πάθος). Смерть и жизнь как острый диалог со смертью делают человека человеком, наделяют его необходимостью решения. Сущее не решает. Человек выпадает из сущего, будучи сущим, выпадает в зоны смерти. Это пронзительное осознание смерти и смертности ставит человека на дистанцию от остального сущего. И с этой дистанции он бросает взгляд в смерть, в ничто (Nichts), но на сей раз не по линии «сущее/Seyn-бытие», а по линии «человек/больше, чем человек». «Больше, чем человек» — это такая же проблематичная фигура, как Seyn-бытие в отношении сущего, но только симметричная собственно человеку как вопрошающему, неуверенному, обреченному на решение, остро осознающему свою смертность. Бог — это превращение смертной вопросительности в бессмертную, постулирование неснимаемой человечности по ту сторону базовой операции, которую Seyn-бытие проделывает со всем сущим, в том числе и с человеком (уничтожение), но которую только человек воспринимает как свою личную проблему, т. е. как смерть. Среди всего сущего все подлежит гибели, но смертен только человек, т. к. всеобщая гибель обращена к нему уникальной стороной — она заставляет его (и только его) мыслить. Эта вторая сторона человека воплощается в нерешительности, требующей решения, в проблематизации сущего, ничто и бытия. Но смерть окружает эту проблематичность со всех сторон, вдавливая человека в сущее своим осознанным ужасом и срезая его, как колос, всегда раньше, прежде чем он примет решение и ответит на «основной вопрос», или даже раньше, чем его задаст должным образом. У человека не хватает времени, с одной стороны, а с другой — время, которое есть, тянется слишком медленно, всегда задерживается, всегда «еще не». Тем самым человек лишен Ereignis'а, в котором он мог бы по-настоящему воплотить свою человечность как вопросительность и осуществить решение, для которого он и наделен мышлением. Осознание чудовищности своей позиции внутри сущего и одновременно и даже в силу самого этого факта внутри ничто, в окружении смерти, подталкивает человека к обнаружению богов и Бога. Боги и Бог суть те, кто мыслят, кто принимают решение (а значит пребывают в нерешительности, в нерешенности), кто находятся с Seyn-бытием в проблематичных отношениях (все это свойственно и человеку), но при этом боги и Бог бессмертны (не подлежат абсолютной силе ничто, которая гарантированно скашивает все сущее), а значит, у них нет того фатального недостатка времени и нет той задержки, которая мучит людей, помещая в тиски вечно ускользающего Ereignis'а. Боги не знают истерики. Боги не знают смерти. Боги не знают ничто.
Подобно тому, как люди ведут диалог с Seyn-бытием через сущее и не сущее (ничто, Nichts), с одной стороны, и с бессмертными и нерешительными богами — с другой, сами боги располагаются на двух осях — на оси боги/люди и на оси боги/Seyn-бытие. Оба полюса, люди и боги, видят Seyn-бытие как проблему, пребывают в нерешительности относительно его и поэтому решаются (или не решаются) быть. Но видят они ее по-разному: людям сущее и смерть даны. Богам нет. Зато богам дана вечность как все время вообще, и им неведомы страх и страдание. Поэтому решение о Seyn-бытии принимается с двух позиций — человеческой и божественной. Сущее как таковое не принимает решения. За него уже все решено. Но кем? Богами? Людьми? А больше некому. Чтобы принять решение, необходимо быть прежде в нерешительности. Это не может отноcиться к Seyn-бытию. Значит, относится только к людям или богам, или им совместно.
Однако если бы не было богов и Бога, людям было бы так тяжело принять решение, что они в своей смертности и со своим совершенно не тем, каким нужно временем, никогда не справились бы с этим. Поэтому боги приходят людям на помощь. Не в бытовых делах, но в решении «основного вопроса» — о бытии сущего. Но и в отношении богов человек находится в нерешительности. Он не знает точно и наверняка ничего о них.
Хайдеггер выражает это следующим образом: «Разговор о «богах» не означает решительного утверждения о наличии многих богов или какого-то одного, но лишь намекает на нерешенность вопроса о бытии богов, многих или одного. Эта нерешительность включает в себя проблематичность, надо ли, а если надо, то как, приписывать богам бытие, чтобы не нарушить их божественность. Нерешительность (нерешенность) относительно того, какой бог будет дан (и как именно, и будет ли дан, и один ли, и бог ли?) в помощь человеку (какому человеку?) в случае его крайней нужды (Not), и есть то, что мы называем «богами». Однако эта нерешительность должна быть не просто представлена как пустая возможность разных решений, но как конкретное решение, понимаемое из той инстанции, откуда берут свое действительное происхождение как решенное, так и нерешенное». И самое главное: «Мысль об этой упреждающей инстанции в решении этой нерешительности не по-стулирует изначально гарантированного наличия каких-то богов как данность, но рискованно проникает в область проблематичного (Fragwürdige), чтобы получить ответ из нее самой, а отнюдь не от вопрошающего»[421]. Иными словами, когда человек выпадает в крайнюю нужду (Not), т. е. доходит до грани отчаяния в нерешенности «основного вопроса философии» (только это является настоящей «нуждой», все остальное можно легко пережить), он обращает вопрос к той инстанции, которая единственная могла бы ему помочь, но само наличие которой является проблематичным и находящимся под вопросом. Но никто не может заранее знать отношения этой инстанции, называемой «богами», к бытию и человеку. Единственное, что понятно: эта инстанция не является смертью. Отношение проблематичных «богов» к бытию и человеку (а также к ничто и смерти) выясняется в самой этой инстанции, к которой обращен вопрос. А вместе с этим подтверждается или опровергается наличие самой этой инстанции.
Здесь хайдеггеровская теология доходит до очень важного момента: до момента потребности и использования, инструментализации. Бытие богов пребывает в зоне нерешительности. Они не являются сущими и приписывание богам статуса сущих, по Хайдеггеру, является катастрофой, подрывающей саму основу Божественности (это, впрочем, и привело к упадку религии и Untergang'у теологии, а, в конечном счете, к «смерти Бога»; если мыслить Бога как сущее, рано или поздно он обязательно умрет, т. к. сущее не совпадает с Seyn-бытием, а, следовательно, всегда находится под властью ничто, гибели). Но они испытывают потребность в Seyn-бытии. То есть и им свойст-венна нужда (Not).
«Отказывая «богам» в Sein-бытии (то есть отказываясь понимать их как сущих), мы хотим сказать, что Sein-бытие не стоит над «богами», но и боги не стоят «над» бытием. Однако боги нуждаются в Seyn-бытии, и этим высказыванием мы осмысливаем существование (Wesen) Seyn-бытия. «Боги» нуждаются в Seyn-бытии не как в своей собственности, в которой они могли бы разместиться. «Боги» испытывают потребность в Seyn-бытии, чтобы через него, не принадлежащее им, принадлежать самим себе. Seyn-бытие есть то, что используется богами; оно есть их нужда, и нужда в Seyn-бытии выражает форму его существования (Wesung), как того, в чем нуждаются боги, но что они не обуславливают и причиной чего не являются. То, что «боги» испытывают потребность в Seyn-бытии, отбрасывает их в бездну (свобода) (…)»[422].
Но, нуждаясь в Seyn-бытии, боги нуждаются в тех, кто ставит вопрос о Seyn-бытии сущего в центр своего внимания. Таким образом, вопросительные и свободные боги бездны нуждаются в человеке. Не в каждом человеке, поскольку если человек исчерпывается сущим, то он вообще никому не нужен, и тем более не нужен богам. Такой человек вообще не человек. Только задающий «основной вопрос» может быть признан человеком. Боги нуждаются в философе. Хайдеггер утверждает: «Раз Seyn-бытие есть нужда Бога, само Seyn-бытие находит себя в осмыслении своей истины, а таким осмыслением является философия (другого Начала), боги нуждаются в онто-историческом (seynsgeschichtliche) мышлении, т. е. в философии. «Боги» нуждаются в философии не так, как если бы они сами философствовали по своей божественной воле, но философия необходимо является в бытии тогда, когда «боги» еще раз приходят к решению и история обретает свое сущностное основание (Wesengrund). Именно богами предопределяется онто-историческое (seynsgeschichtliche) мышление как мышление о Seyn-бытии»[423].
Но, в свою очередь, Seyn-бытие также нуждается в человеке, использует его. « Seyn-бытие использует человека, с тем, чтобы существовать (wesen), и человек принадлежит Seyn-бытию, в котором он осуществляет свое самое далекое предназначение — быть как Da-sein»[424]. Таким образом, все три инстанции — человек–боги–Seyn-бытие нуждаются друг в друге и используют друг друга для того, чтобы быть в соответствии с сущностью Seyn-бытия, т. е. аутентично. Но человек, по Хайдеггеру, это тот, кто ставит «основной вопрос», т. е. философ. Он же есть «страж Seyn-бытия» (Wahter des Seyns). «Человек делает свою сущность (сторожить Seyn-бытие) своей сущностью только тогда, когда он обосновывает себя в Da-sein'е»[425].
В другом Начале все три инстанции, которые испытывают потребность друг в друге, снова сходятся воедино. Это схождение и есть Ereignis.
В Ereignis'е бездна божественной свободы обнаруживает свое решение в лице Последнего Бога. Последний Бог проходит на дистанции от человека другого Начала и почти незаметно кивает (Wink), т. е. делает одобрительный знак. Он не спасает[426], не выручает, не изменяет. Он просто приходит. И этого достаточно. Однако глубина этого жеста настолько бездонна (ведь бог есть бездна свободы), что осознать ее невозможно. «Если мы так плохо понимаем «смерть» в ее самом внешнем выражении, как хотим мы взрастать в редчайшем кивке (Wink) Последнего Бога?»[427], — задается риторическим вопросом Хайдеггер. Обращение к «смерти» здесь не случайно. Последний Бог как бог стоит по ту сторону смерти. Приходя (точнее, проходя мимо) в момент Ereignis'а, он делает явным то, что превосходит ничто, но ничто обнимает собой все сущее. Значит, в Последнем Боге, его кивке (Wink) есть то, что намного первичнее всего сущего вместе и даже первичнее ничто. Боги нуждаются в Seyn-бытии. Человек, философствующий так, как он решает философствовать в другом Начале, основывает Da-sein как возможность быть, а, следовательно, позволяет Seyn-бытию экзистировать сущностно (wesen) сквозь себя, используя себя. Именно поэтому приходит (проходит мимо) Последний Бог.
В знаке (Wink) Последнего Бога «проявляет себе внутренняя конечность Seyn-бытия», говорит Хайдеггер, его способность не только скрываться за непроницаемой пеленой ничто (Nichts), но и собраться в однократной мгновенной вспышке, не превращаясь при этом в сущее (чего не может быть). Это дар Seyn-бытия, обнаружение им своей истины.
Такую философскую эсхатологию можно принять за описание Конца. В определенном смысле, так оно и есть. Но Хайдеггер замечает, что « Последний Бог не конец, но другое Начало неизмеримых возможностей нашей истории»[428]. Сущее не снимается обнаружением того, что есть его тайная и обоюдоострая мощь. Оно преображается обнаружением истины Seyn-бытия. Более того, сущее возвращается из изгнания, куда его загнал процесса нисхождения (Untergang) старого Логоса, из концептов, расчетов, схем, чертежей, товаров, планов, виртуальных пространств, лабораторий, искривленных телесных чувств.
«Последний Бог — это начало очень длинной истории по своему очень короткому пути. Долгая подготовка требуется для великого мгновения его прохождения мимо. Для подготовки этого малы самые большие народы и государства (…). Только великие, скрытые от посторонних глаз единицы создадут необходимую для прохождения Последнего Бога тишину и распространят между собой молчаливый призыв готовности»[429]. Эти единицы и есть философы другого Начала, «грядущие», принимающие решение основать Da-sein. Очень важно проследить, как у Хайдеггера приход Последнего Бога связан с человеком. «Только немногие знают о том, что Бог ждет основания истины Seyn-бытия и вместе с этим выпрыгивания человека в Da-sein. Вместо этого все считают, что человек ожидает Бога»[430]. Нет, это Бог ждет человека. Чтобы просто пройти мимо. Последний Бог.
Seyn-бытие
В заключительном разделе книги Хайдеггер не сообщает ничего принципиального нового, проходя еще раз по основным темам всей книги. Он снова и снова определяет последовательность шагов к другому Началу, сопоставляет современность и Da-sein, с разных сторон подходит к прояснению Божественности в ее отношении к Seyn-бытию и человеку. Очевидно, при этом, что данный раздел введен почти исключительно из симметрии: он нужен по формальным признакам, чтобы показать, что находится в апогее другого Начала, что в нем начинается. И это как раз дано в названии последнего раздела: Seyn-бытие. На сей раз оно должно мыслиться в соответствии со всеми предыдущими указаниями, данными в предшествующих разделах. Но мы не встречаем здесь ничего подобного. Хайдеггер никуда не продвинулся в сравнении с другими частями этой книги. Он говорит также и о том же самом, задаваясь теми же вопросами и повторяя те же формулы, лишь указывающие направление, в котором следует двигаться на путях в философии другого Начала.
А что мы хотели? Мы, видимо, ожидали, что Хайдеггер даст нам полноценную картину будущего, что развернет перед нами неожиданные горизонты свершившегося другого Начала, опишет в узловых деталях утопию пришествия Последнего Бога? С одной стороны, этому посвящена вся книга, а с другой — это невозможно, ненужно и в принципе было бы лишь относительной дискредитацией всего ее посыла. Вспомним еще раз этапы философии другого Начала, как они даны в «Beiträgе zur Philosophie (Vom Ereignis)»:
I. Предварительный обзор
II. Отзвук (Anklang)
III. Подача (Zuspiel)
IV. Прыжок (Sprung)
V. Обоснование (Gründung)
a) Dasein и проект бытия
b) Dasein как таковой
c) Бытие (Wesung) истины
d) Время-пространство как бездна
e) Бытие (Wesung) истины как сокрытие
VI. Грядущие (Zu-Künftige)
VII. Последний Бог (Letzte Gott)
VIII. Seyn-бытие
Динамика изложения достигает своей кульминации в разделе VII, где речь идет о Последнем Боге. Далее остается только одно — Seyn-бытие. Мы находимся сегодня в прыжке: отзвук и подача уяснены через философию Хайдеггера с опорой на всю историю философии Запада вплоть до Ницше уже достаточно подробно и основательно. «Seind und Zeit» есть прыжок к обоснованию Da-sein'а. Мы пребываем в этом прыжке и уже способны распознать то, к чему он направлен. Это и есть Ereignis, мысль о котором для Хайдеггера была главной в решающее десятилетие 1936–1945. Именно потому, что вектор, направленный к Ereignis'у, уже видим отчетливо, раздел об основании Da-sein’а с фундаментальным переосмыслением Da-sein’а сопровождается двумя небольшими разделами «Грядущие» и «Последний Бог». В этих разделах мы имеем философское пророчество о другом Начале, которое вот-вот начнется. Но чтобы написать по-настоящему последний VIII раздел, «вот-вот» должно исчезнуть. О Seyn-бытии по-настоящему, а не предварительно можно вести речь только тогда, когда решение будет необратимо принято. «Вот-вот» — то, что отделяет восьмой раздел от всех остальных. На самом деле, правильнее было бы поместить в этом разделе белые листы. Его предстояло написать в присутствие знака (Wink) Последнего Бога или просто запечатлеть этот знак — в языке или ином жесте. Быть может, в молчании. Поэтому одной из последних фраз последнего раздела является «Язык основывает (ся) в молчании» (Die Sprache gründet im Schweigen)[431].
Заключение. Другой Логос Мартина Хайдеггера
Краткий обзор книги Мартина Хайдеггера «Beiträgе zur Philosophie (Vom Ereignis) » мы предприняли для того, чтобы дать общее представление о том, что такое философия другого Начала и что такое Ereignis как центральный момент этой философии. Более подробно мы рассмотрели эти темы в двух книгах, посвященных Хайдеггеру[432]. Данная работа продолжает предыдущие исследования и, скорее всего, без знакомства с ними, учитывая трудность хайдеггеровской философии и хайдеггеровского языка, в свою очередь, окажется непростой для понимания. Здесь мы в первую очередь хотели показать топику философии другого Начала, начертить ее интеллектуальную карту, наметить узловые моменты, которые могут интерпретироваться по-разному и в разных ракурсах (как самим Хайдеггером, так и исследователями его творчества). Мы старались свести к минимуму интерпретацию и передать философский замысел Хайдеггера как можно точнее. Но сама задача проникнуть в топику Хайдеггера, проявить сложнейшую и запутанную карту движения его удивительного ума, на наш взгляд, представляется чрезвычайно важной — как для осмысления его трудов, так и для их переводов на русский, что представляет собой колоссальную проблему, требующую для своего корректного разрешения ни больше ни меньше как создания русской философии[433]: без этого попытки перевода дадут жалкий эффект нагромождения словесного хлама и броских, но совершенно неверных псевдопоэтических афоризмов (которые не имеют ничего общего с замыслом самого Хайдеггера и структурой его мышления и языка).
Выяснив в общих чертах эту топику, мы можем теперь, несколько отвлекаясь от самого Хайдеггера, попытаться соотнести ее с совершенно иными философскими и религиозными системами. Эта задача потребовала бы отдельного и развернутого труда, поэтому здесь мы ограничимся лишь наброском тех направлений, которые следует разработать более детально в дальнейшем.
Во-первых, непредвзятое (и совершенно не хайдеггеровское!) исследование неоплатонизма позволяет наметить между ним и философией другого Начала определенные параллели (строго отрицаемые самим Хайдеггером)[434]. Но вспомним, что Хайдеггер, очень любивший и глубоко почитавший Ницше, полагал, что тому не удалось преодолеть метафизику и платонизм, несмотря на то, что это было философской программой, и что Ницше продолжает эту метафизику в своей теории «воли к власти». Это ничуть не умаляет для Хайдеггера значения Ницше. Если мы заметим, что Хайдеггер толкует платонизм исключительно как модель закрытого Логоса, устанавливающего на верхних пластах мира идеи как сущее, и тем самым, собственно, закрывая философию сверху, но при этом полностью (и видимо, сознательно) упускает из виду апофатическую диалектику несуществующего единого, основанную на «Пармениде» и являвшуюся основной осью философии неоплатоников, то мы ничуть не умалим его величия, но в то же время откроем новую возможность сопоставления этих двух философий. Если мыслить единое неоплатоников как строго не сущее (Nichts), а только так его мыслили, причем совершенно эксплицитно, строя на этом свои теории, все — от Плотина до Дамаския, — то мы получим явные и чрезвычайно содержательные параллели. Если Ницше, эксплицитно отрицавший западную метафизику, у Хайдеггера оказывается метафизиком, то почему бы Хайдеггеру, энергично отвергавшему платонизм и неоплатонизм, не оказаться неоплатоником? Конечно, для этого надо тщательно описать историю открытого платонизма как строго апофатической версии, что только еще предстоит сделать. Задача, на наш взгляд, фасцинативная и чрезвычайно актуальная, коль скоро кризис старого Логоса с эпохи Ницше и Хайдеггера не только не преодолен, но стал по-настоящему катастрофическим и нестерпимым: последние остатки разума стремительно покидают человечество, которое вот-вот полностью заменят машины. Поэтому спасение человечества — в обретении иного Логоса.
Во-вторых, мы можем поискать соответствий с предельно оригинальной философией Хайдеггера в других неевропейских традициях и религиях, тем более, что у самого Хайдеггера были среди эти обществ последователи и ученики, и в целом незападные философско-религиозные учения имеют мало изученные или трудные для понимания европейцев стороны, которые не покрываются критикой старого Логоса, а, следовательно, могут быть соотнесены с философией другого Начала.
Здесь следует обратить внимание на личность Анри Корбена, французского философа и исламоведа. Корбен чрезвычайно показателен тем, что был одним из первых французов, глубоко заинтересовавшихся Хайдеггером, он перевел на французский впервые фрагменты из «Sein und Zeit», лично многократно встречался с Хайдеггером. При этом он всегда отдавал должное влиянию на него Хайдеггера, которое в прямом и косвенном виде безошибочно угадывается в большинстве трудов А. Корбена, посвященных исламской и особенно иранской философии. Вместе с тем А. Корбен был, по его собственному признанию, прирожденным платоником, глубоко изучал неоплатонизм, и в исламской и иранской интеллектуальной культуре исследовал преимущественно именно неоплатонические школы, темы и сюжеты. В целом же философский демарш А. Корбена и ряд его принципиальных установок очень близки к философскому направлению традиционалистов (Р. Генон, Ю. Эвола и т. д.), что намечает еще одно направление для сопоставлений. И наконец, А. Корбен играл важнейшую роль в семинарах «Эранос», объединявших целый ряд выдающихся мыслителей Запада и Востока вокруг фигуры швейцарского психоаналитика К.Г. Юнга[435].
А. Корбен, таким образом, является ключевой фигурой, позволяющей провести определенные параллели между Хайдеггером, с одной стороны, и неоплатонизмом (о чем уже шла речь выше), исламской мистической философией, суфизмом, шиизмом и школой Ишрак, традиционализмом и юнгианством (в широком понимании — включая философов религии, историков, этнологов и социологов), — с другой. В частности, А. Корбен привлек внимание к такому персидскому автору как Мулла Садра Ширази (1571–1636), который, развивая суфийскую философию Ибн Араби и иранскую школу Ишрак Сохраварди, пришел к критике эссенций и утверждению экзистенциалистского подхода, предвосхищающего Хайдеггера. Упадок Запада, на котором настаивал Хайдеггер, полностью созвучен, в свою очередь, традиционалистам, что сближает Хайдеггера и с этим направлением. Кроме того, среди иранских философов ХХ века один из наиболее значимых, Ахмад Фардид (1909–1994), был одновременно мистиком-шиитом, хайдеггерианцем и традиционалистом. Ахмад Фардид ввел философию Хайдеггера в иранские интеллектуальные круги, положив начало иранскому хайдеггерианству. Показательно, в частности, что он эксплицитно соотносил фигуру Последнего Бога и «скрытого имама» шиитов. Вполне в духе Корбена соотносит философию Хайдеггера с арабской философией и особенно с исмаилизмом современный ливанский философ Надер аль-Бизри.
Кроме этого, заслуживают особого внимания параллели между Хайдеггером и дзэн-буддистской философией, о чем мы неоднократно упоминали и что подтверждается не только типологической близостью некоторых типичных приемов хайдеггеровского философствования к аналогичным жестам дзэн-буддизма, но и многочисленными историческими личными контактами Хайдеггера с представителями Киотской школы (Танабэ Хадзимэ, Кэйдзо Ниситани и т. д.).
Отдельную тему представляет собой сопоставление философии Хайдеггера с философией Адвайта-веданты[436], в которой соотношение проявленного и непроявленного, человека и бога рассматривается в ключе, в чем-то напоминающем хайдеггеровский парадоксальный подход.
Попытка провести параллели между Хайдеггером и восточной мыслью проделана в целом ряде работ, конференций и сборников — в частности, в изданиях Грэхэма Паркса, где помимо дзэн-буддизма и адвайта-веданты анализируется и даосская традиция[437].
В третьих, отдельное и совершенно не исследованное направление представляет собой соотнесение философии Хайдеггера с русской интеллектуальной историей. Речь идет о самой возможности русской философии, чему мы посвятили отдельную книгу[438]. Особенность такого демарша состоит в том, что в отличие от предыдущих случаев, когда философия Хайдеггера сопоставляется с иными версиями философии, включая азиатские, где тем не менее мы имеем дело с четко оформленным Логосом, хотя и существенно отличающимся от западноевропейского, при переходе к России и русской культуре мы имеем дело лишь с возможностью Логоса, с архаической стихией, откуда Логос только начинал пробиваться (русская религиозная философия), но куда он снова рухнул под воздействием трагической истории ХХ века. Мы не можем пока оценить, насколько продуктивной оказалась наша попытка использовать хайдеггеровскую интеллектуальную топику для доказательства возможности русской философии и, соответственно, для наброска ее возможного становления, отталкиваясь от русского Дазайна. Но в любом случае сама интенция построить с опорой на Хайдеггера философию там, где ее никогда в собственном смысле не было, а то, что было, было имитацией, недоразумением или провалом, заслуживает определенного внимания как для случая России, так и для других народов, у которых либо нет философии, либо она является в высшей степени проблематичной.
Глобальный кризис западного Логоса, его падение, его нисхождение в царствующую бессмыслицу ставят сегодня все общества в сходное положение перед лицом философии. Запад до определенного момента настаивал на том, что его Логос универсален (это мнение разделял и сам Хайдеггер). Но какими бы обоснованными или необоснованными ни были эти претензии, сегодня этот Логос стал жертвой своего собственного порождения — «воли к власти» (культурный и политический империализм, колониализм всех уровней); прагматизма (автономной рациональности); безысходного субъект/объективного дуализма, приведшего к краху и субъекта и объекта; и самое главное, нигилизма, ставшего последним словом дуальной эксклюзивной логики (да/нет), лежащей в центре западной культуры. Западный Логос опустился (Untergang), закатился, рухнул. Фиксация именно этого глубинного онто-историчеcкого (seynsgeschichtliche) факта и привела Хайдеггера к философии другого Начала. Для Запада вопрос формулируется так: либо другое Начало, либо исчезновение в бесконечном конце, тем более омерзительном и ничтожном от того, что он почти никем не осознается.
Восточные общества и религиозные культуры перед лицом «заката Запада» все чаще обращаются к своим собственным философским традициям, которые, однако, сильно потрачены временем, подточены вестернизацией и модернизацией, подавлены колонизацией и глобализацией. Незападные философии сегодня, как минимум, не в форме. Это также ставит их перед проблематикой «другого Начала», хотя в совершенно иных контекстах, нежели на Западе. Восток имеет шанс сохраниться, даже когда рухнет Запад, правда, если Запад не утащит его за собой в бездну ничто. Тем не менее, чтобы утвердить свою идентичность в новых условиях, Востоку нужна философия, традиция, нужен непростой и не само собой разумеющийся рывок к собственному Логосу — исламскому, шиитскому, буддистскому, индуистскому, даосскому и т. д.
Есть и промежуточные варианты, относящиеся к обществам археомодерна. К ним относятся Россия, Япония после 1945 года, страны Латинской Америки, коммунистический Китай. Здесь имитация западной рациональности наложилась на полузабытые стертые или вообще не проявленные еще контуры собственной философии; самобытный Логос либо был жестко подавлен, либо еще вообще не родился. Горы духовного и культурного хлама, завезенные с Запада в виде «универсальной рациональности», заблокировали саму возможность самобытного начала (ἀρχή) проявить себя в форме Логоса, в результате чего сложилась устойчиво патологическая картина перманентного двоемыслия, двоеверия, двусмысленности и институционализированной лжи[439]. И здесь, чтобы выйти из патовой ситуации, снова необходимо другое Начало (в некоторых случаях, и конкретно, в России, просто Начало, т. к., по сути, еще ничего не начиналось толком).
И наконец, сегодня можно встретить вполне архаические общества, которые просто не создали отчетливой философии на основании своих Дазайнов, относясь к сущему с чистотой и прозрачностью древних, до-досократических, до-философских греков. Вместо того чтобы рассматривать их как «низшие, недоразвитые культуры», как «примитивов», или стремиться их как можно скорее включить в контекст совершенно патологичного, больного глобального общества, выстраиваемого по выкройкам западной катастрофы, следует отдать им должное как философскому полю, стоящему под паром, отдыхающему от Логоса, копящему жизненные энергии, чтобы однажды, быть может, родить что-то удивительное и непредсказуемое, свое собственное никогда не бывшее Начало, свою философию.
Во всех случаях и во всех культурных средах значение Хайдеггера и его идей будет неуклонно возрастать. Понятно, что глобальные массы потребителей это едва ли затронет: рождение Логоса — дело «немногих» и «редких». Но народы как своего рода почву Da-sein'а, как носителей архаического Начала, это затронет точно. Не напрямую, но через философскую элиту, час которой приближается все отчетливее и яснее, несмотря на обманчивое ощущение того, что этот конец никогда не кончится. Он кончится, как только придут «грядущие», как только «редкие» и «немногие» примут решение о Последнем Боге.
«Мы стоим в этой борьбе за Последнего Бога, и это значит, за основание истины Бытия как момента тишины его прохождения. За самого Бога мы не можем бороться. Но мы входим в зону могущества Бытия как сбывающегося, а значит, в бесконечный простор острейшего вихря великого Поворота»[440].
Глава 23 Логос Диониса
Мифос и Логос
Рождение Логоса из Мифоса — процесс довольно подробно и детально изученный историками и философами. На эту тему есть качественные работы Ж.-П. Вернана (в частности, его обстоятельное исследование «Истоки греческой мысли»[441]), Дж. Кэмпбелла[442], Й. Дерфера[443], К. Хильдербранта[444], В. Нестле[445], Э.Р. Доддса[446], Б. Снелла[447], В. Кельбера[448], К. Леви-Стросса[449], Ж. Дюрана[450], Ф. Кессиди[451] и др.[452].
Два греческих глагола λέγειν и μύθειν изначально были почти синонимами и оба означали «слово», «мышление», «рассказ», «нарратив», «дискурс», «повествование». Постепенно, однако, их семантические круги расходились, пока не оказались противопоставленными друг другу. Логос стал выражать рациональную, научную (в греческом смысле — επιστήμη), философскую мысль, чьи законы Аристотель обобщил в своей логике. Мифос же охватывал совокупность историй про богов и героев, которые относились к сфере предания, верований, обрядов и значительно контрастировали с законами Логоса, т. к. не предполагали рациональной рефлексии и строгой, выверенной интерпретации. Мифос стал постепенно достоянием традиции и религии, культа и культуры, а вокруг Логоса греками была построена философия. Позднее возникла промежуточная область — теология, где вопросы веры, предания и догм рассматривались или интерпретировались с опорой на Логос. Так сама религия постепенно освобождалась от Мифоса. Этот процесс затянулся на тысячелетия, и уже в ХХ веке протестантский теолог Рудольф Бультман[453] предложил окончательно очистить христианский Логос («керигму», в терминологии Бультмана), косвенно подтверждая, что миф долгие века продолжал жить даже в такой рациональной и теологически развитой религии, как христианство.
Логос происходит из Мифоса. Это значит, что, с одной стороны, он имеет мифологическую предысторию, а с другой, что он покидает область мифа, когда становится самим собой, автономизируется, а впоследствии и противопоставляется ей. Водоразделом является философия досократиков, еще во многом мифологичная, но уже философская. У Платона мифы подвергаются тщательной рационализации, т. е. фундаментальной обработке Логосом. Показательно, что в «Государстве» Платон предлагает «цензурировать мифы», т. е. поверять их критериями пользы, разумности и моральной целесообразности. Не все в мифе берется при созидании масштабной логоцентрической культуры. В философии Аристотеля место мифов становится еще более скромным.
У досократиков (доплатоников) можно наглядно увидеть, как происходит рождение Логоса. Известное выражение Гераклита «Единое мудрое одно, оно не хочет и хочет называться именем Зевса»[454], описывает ситуацию ярче всего.
Логос здесь стоит в точке выбора: он уже не хочет называться «Зевсом», т. е. ясно рефлектирует свое отличие от мифологического нарратива, но все еще хочет этого, т. е. остается интегрированным в структуру этого нарратива и боится потерять почву под ногами. После Платона пропорции меняются: Логос приобретает самостоятельность и, хотя все еще сохраняет связь с Мифосом, больше от него принципиально не зависит.
Боги Логоса
Давайте пристальнее присмотримся к той зоне Мифоса, которая сделала рождение Логоса возможным. Далеко не всякие мифы и мифологические фигуры были расположены к тому, чтобы лечь в основу философии. Мы видим, что Логос рождается в кругу весьма конкретных божеств. Это высшие Олимпийские божества и, в первую очередь, Зевс, Аполлон, Афина Паллада, Дике.
Зевс есть упорядочивающая сила, абсолютная власть, вертикальная патриархальная ось мироздания. Зевс — царь богов. Он отвечает за стройность мироздания. Он судит богов. Иногда наказывает, иногда милует. Зевс есть высшая инстанция мира, к которой, как к полюсу, сходятся все его силовые линии.
Позднейший Логос полностью наследует эту черту высшего от греческих богов. Логос царственный, мужской, подобный молнии (орудие жертвы), занимающий высшую точку, бессмертный, самотождественный.
Логос есть Аполлон, носитель солнечного светового начала. Единство солнца в мире Платон уподобляет высшей идее блага и световидным идеям в целом. Аполлон — бог гармонии, вертикальных иерархий, математических, геометрических и музыкальных соответствий.
Афина Паллада, хотя и богиня, т. е. имеет женский характер, по всем своим характеристикам воплощает скорее мужской архетип. В ней женское практически полностью преодолено и трансмутировано в мужское. Она не знает ни любви, ни материнства, воплощая в себе чисто мужские черты — острое мышление и воинскую доблесть. Не случайно ее символ — копье, осевой, солнечный мужской знак. Женское в Афине не смягчает мужское, но экзальтирует и абсолютизирует его. Поэтому родившаяся из головы Зевса, Афина являет собой саму мысль, т. е. божественный Логос, где на сей раз подчеркивается аспект чистоты, девственности, непорочности, незатронутости темными и низменными сторонами мира.
Дике — одна из ор, благих божеств, расчлененного на сезоны времени, богиня справедливости. Она является постоянной спутницей Зевса и надзирает, чтобы все вещи в мире соответствовали высшему закону. Дике иногда выступает в карающей функции: она наказывает тех, кто отклонился от пути справедливости ударом меча или молота. Логос карает тех, кто сходит с его траектории.
Светлые патриархальные боги солнечного вертикального иерархического порядка — прямые предшественники Логоса. Совокупность основных свойств упомянутых греческих божеств описывает структуру Логоса: порядок, вертикальность, свет, чистота, неприкасаемость, сдержанность, собранность, самодостаточность, активность, гармония, кара за отклонение, суд.
Аполлоническая карта
Такую структуру Фридрих Ницше называл «аполлонической» или «аполлоническим началом». Он описывает это так:
«Аполлон как бог всех сил, творящих образами, есть в то же время и бог, вещающий истину, возвещающий грядущее. Он, по корню своему „блещущий“, божество света, царит и над иллюзорным блеском красоты во внутреннем мире фантазии. (…)
Но и та нежная черта, через которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия — ибо тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, — и эта черта необходимо должна присутствовать в образе Аполлона: как полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой бога — творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, должно быть «солнечно»; даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения почиет на нем.
(…) Про Аполлона можно было бы даже сказать, что в нем непоколебимое доверие к этому принципу и спокойная неподвижность охваченного им существа получили свое возвышеннейшее выражение, и Аполлона хотелось бы назвать великолепным божественным образом principii individuationis, в жестах и взорах которого с нами говорит вся великая радость и мудрость «иллюзии», вместе со всей ее красотой»[455].
Аполлоническое начало, будучи возведенным в абсолютную степень, покидает область мифа, вырывается из нее, превращает свою собственную структуру в универсальный закон. Этот закон не принимает неопределенности, двусмысленности, расплывчатости, теней. Он стремится все поме-стить на свет, четко рассмотреть и взвесить, определить меру и масштаб. Аполлон-Логос собирает множественность жизни в строгие формы, придавая ей единство, индивидуацию, переводя безграничность (ἄπειρον) в четкие и строго фиксированные пределы (πέρας).
Аполлон сам по себе еще принадлежит сфере мифа. Поэтому время от времени он срывается в жизненные коллизии с другими богами и богинями и даже со смертными. Но в Логосе эти черты исчезают окончательно.
Логос претендует на свою абсолютную исключительность. Он диктует всему и всем меру, задает образцы и располагает вещи мира в соответствии с их местом в аполлонической карте космоса. Греческая философия и начинает строить такую аполлоническую карту, которая затем приобретает свой окончательный вид у Платона и Аристотеля. Не случайно Платон родился и умер в день праздника Аполлона; некоторые неоплатоники и считали его манифестацией этого бога — бога солярного Логоса.
Ученик философа Диониса
Фридрих Ницше противопоставляет Аполлону и аполлоническому началу начало дионисийское. Тем самым он ставит очень важную проблему — о возможности другого Логоса, другой философии, другой — неаполлонической — структуры мышления. Вначале, в «Рождении Трагедии», Ницше говорит только об эстетических стилях греков, о двух подходах к искусству в духе вагнеровской «артократии», которой Ницше был увлечен в юности.
«Аполлон стоит передо мной как просветляющий гений principii individuationis, при помощи которого только и достигается истинное спасение и освобождение в иллюзии; между тем как при мистическом ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации, и широко открывается дорога к Матерям бытия, к сокровеннейшей сердцевине вещей. Этот чудовищный контраст, раскрывающийся, как пропасть, между аполлоническим пластическим искусством и дионисической музыкой, лишь одному великому мыслителю явился с такой степенью ясности, что он, даже не руководствуясь указанием означенной эллинской символики богов, признал за музыкой другой характер и другое происхождение, чем у всех прочих искусств: она не есть, подобно тем другим, отображение явления, но непо-средственный образ самой воли и, следовательно, представляет по отношению ко всякому физическому началу мира — метафизическое начало, ко всякому явлению — вещь в себе»[456], — пишет он.
При этом Ницше вначале подчеркивает, что аполлоническое и дионисическое начала в греческой культуре дополняют друг друга, действуют сообща, выполняя общую стратегию солнечной экзальтации жизни, начинающейся с глубин и восходящей в дионисийской экстатике к солярной гармонии аполлонизма.
«При этом в сознании человеческого индивида эта основа всяческого существования, это дионисическое подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и преображающей силой, так что оба этих художественных стремления принуждены, по закону вечной справедливости, развивать свои силы в строгом соотношении. Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошел к нам, скрытый в облаке; и грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его роскоши»[457].
Позднее Ницше все более будет концентрироваться именно на дионисийстве как первичном и наиболее ценном для него лично направлении.
Мысль о Дионисе становится главной мыслью Ницше, она проходит, нарастая по всем его работам и достигает кульминации в «Так говорил Заратустра». «Дифирамбы к Дионису» венчают собой этот напряженный путь как раз накануне полного вступления Ницше в зону безумия. Это, впрочем, довольно логично: отправившись на поиски бога безумия, Ницше его обретает.
Огромным значением обладает свидетельство Ницше в его последней неоконченной книге «Ecce homo»: «Я ученик философа Диониса»[458]. Ницше называет Диониса «философом» и, соответственно, определяет свою собст-венную философию как дионисийскую.
Для нас важно следующее: Ницше утверждает возможность дионисий-ской философии, а это подразумевает существование особого дионисийского Логоса, отличного от Логоса, рождающегося из круга солярных божеств и носящего все признаки Аполлона. Логос возникает из мифа. И начинает ему противостоять. То, что отбрасывается Логосом, то и есть миф. Если Логос абсолютизирует аполлонические черты, то было бы закономерно обнаружить концентрацию мифа именно в Дионисе, ведь именно в дионисийском начале мы видим действие сил неупорядоченной жизни, звон хаоса, трагедию и безумие. Действительно, Ницше так и считает, соотнося трагедию и миф. «Дионисическая истина овладевает всей областью мифа как символикой ее познаний и выражает эти последние частью в доступном для всех культе трагедии, частью в таинственных отправлениях драматических празднеств мистерий, но как тут, так и там, под покровом старого мифа»[459]. Аполлону отходит сфера Логоса, Дионису — Мифоса. Пока между ними (соответственно, между аполлоническим и дионисийским началами) сохраняется паритет, мы видим рождение Логоса в процессе. У нас есть Дионис как жизненная матрица, есть олимпийский горизонт его божественности, возведенный в аполлоническую солярность, а оттуда и к Логосу. Ницше полагает, что таково было учение Элевсинских мистерий, где третий Дионис (наряду с первым, Загреем и вторым, Вакхом), Дионис-Йакх, толковался как универсальный принцип. «Из улыбки этого Диониса возникли олимпийские боги, из слез его — люди»[460], — пишет Ницше. Такой универсальный Дионис есть одновременно Аполлон и далее Логос, но вместе с тем и буйство жизни со всеми ее парадоксами. Эту картину можно представить себе как два уровня: пралогос, миф, жизнь (собственно, Дионис) и Логос (Аполлон). Отсюда предание греков о том, что могила Диониса находится под треножником Аполлона в Дельфийском храме. Аполлон вырастает из Диониса, как Логос из Мифоса.
Если бы все сводилось к этому, то Ницше высказал в высшей степени важную и глубокую истину, которая, однако, по своей структуре повторяла бы общий тезис историцизма Нового времени о движении человеческой культуры от смутного к ясному, от иррационального к рациональному, от фантастического и захваченного животными инстинктами к реалистическому и моральному. Но в таком случае Ницше должен был бы заняться мифологией, а философию оставить Сократу и платоникам. Философия оперирует с Логосом как с последней формой абсолютизации олимпийско-аполлонического начала. Но философия не оперирует с Мифосом. Область Диониса может служить прелюдией (например, исторической) к становлению философии и рациональной культуры, сохраняясь на ее периферии в качестве рудиментов и дани «традиции», как «пережиток», «residuo» (как, впрочем, и считали рационалисты и позитивисты).
Почему же Ницше говорит о «философе Дионисе»? Почему он настаивает именно на занятиях философией, на том, что сам он также философ и это является его высшей и последней идентичностью? Мифос относится к до-философии. Но Ницше утверждает, что философом является Дионис и намекает, что его собственная философия — это также «философия Диониса». Не мифология. И относится она не прошлому, а скорее к будущему, к грядущему. Значит, мы можем поставить вопрос: что такое философия Диониса и какова структура дионисийского Логоса?
Дионис и измерение глубины
Дионисийский Логос должен находиться ниже Логоса аполлонического. Он теснее связан с землей, жизнью, страстью. С женским началом. Это очевидно у Ницше, который говорит о «дионисическом подполье мира». Дионис связан с нижними мирами, с «подпольем». Эта связь и составляет особенности его фигуры. Дионис, будучи олимпийским божеством, богом в полном смысле этого слова, пребывает чаще всего в двух измерениях — в подземном мире (как Загрей) и в человеческом мире (Вакх). С этим связана структура триатерий — особого дионисийского календаря, когда один год считается годом вместе с Дионисом, когда происходит его эпифания, а другой год без Диониса, когда он отсутствует, остается сокрытым, пребывает во чреве земли, в мире Титанов (афонизмия). Оба эти мира находятся ниже приоритетной зоны Аполлона и солярных божеств Логоса. Поэтому Дионис является «негнушающимся богом», богом, не устраняющимся от всего земного и подземного, но пронизывающим земное и подземное острием своей играющей божественности.
Особенность Диониса состоит в том, что он не несет в себе ничего человеческого или человеческого. Это не подземный хтонический бог, подобный Плутону, и не владыка океанических стихий, подобно Посейдону. Но он и не Гермес, вечно путешествующий между мирами и уровнями бытия. Дионис — олимпийский бог, связанный с нижними слоями мироздания особым образом. Он не посланец верха вниз и не рывок низа вверх. Он что-то еще, что-то другое…
Но, быть может, для того, чтобы лучше понять Диониса и, соответственно, приблизиться к его философии, к его Логосу, нам следует вначале измерить ту глубину, куда он проникает и откуда он поднимается к людям; лимит Вселенной, противоположный небесной сфере олимпийских богов.
Гераклит говорит: «Дионис и Гадес одно и то же». Так это или нет, сейчас не столь принципиально. Стоит начать с вопроса, что такое ад?
Излечение Великой Матерью
Тут вновь нам может указать путь Ницше, так говоривший о Дионисе в уже приводившемся нами отрывке из «Рождения трагедии»: «При мистиче-ском ликующем зове Диониса разбиваются оковы плена индивидуации, и широко открывается дорога к Матерям бытия, к сокровеннейшей сердцевине вещей». «Оковы плена индивидуации» — это аполлоническая логика тождества, закон А=А. Небо и солнце делают вещи мира тем, что они есть, отмеряя каждой ее место, роль, смысл, содержание. Надо всем неусыпный взгляд оры Дике. «Зов Диониса» зовет вещи и людей прочь от этих мерок, провозглашает конец А=А, здравый рассудок подвешивает свою мощь. Открываются двери вниз. Ницше говорит о «дороге к Матерям бытия». Это ключевое выражение. То, что обнаруживает Дионис в контрасте с Аполлоном, о чем визжит флейта сатира — это Великая Мать. Связь Диониса с Великой Матерью, пребывающей на том конце мироздания от Зевса и Аполлона, делает его врагом Геры, женственности покоренной, усмиренной, включенной в солнечный патриархальный порядок. Великая Мать — вот это настоящая антитеза Логосу как эксклюзивной упорядочивающей мужской вертикальной силе. Это платоновская хора или гесиодовский хаос. Это зона ночи, куда Аполлон не вступает. Но Дионис именуется «солнцем полуночи»: он свободно идет туда, куда боги обычно не ходят. Более того, он имеет с Великой Матерью какую-то не до конца проясненную связь.
Мы знаем, что Великая Мать (Magna Mater, Рея, Кибела) излечивает его от безумия. Дионис — бог, сочетающий противоположности: он приносит в жертву и приносится в жертву, он разрывает и оказывается разорванным, он насылает безумия и сам становится безумным. Важно, однако, что от безумия он излечивается не Аполлоном или Асклепием, т. е. не исцеляющим Логосом, но той инстанцией, которая максимально далека от света, неба, мужского начала и разума; той инстанцией, которой приносят свой пол мужские жрецы, «галлы», ритуально оскопляющие себя во имя Матери в темном экстазе. Это проливает свет на разум Диониса, на его Логос: он, будучи мужским и божественным, сопряжен с солярным разумом Аполлона. Но вместе с тем у него есть другая сторона, связанная с глубинами Великой Матери, с подпольем хаоса, с хорой. Эта сторона делает его Логос темным, т. е. амбивалентным, переплетенным с безумием, окрашенным одновременно в золото Зевса и мрак ада. Логос Диониса не светлый и не черный. Он именно темный, тьмяной. Свое безумие Дионис исцеляет непроглядной мощью богини черного камня. И от этого предельно густого мрака свет его божественного сознания озаряется с новой силой.
Открытый Логос и топос безумия
Чтобы передать эту двойственность в ином контексте, Сохраварди говорит о «Пурпурном Архангеле», с одним белоснежным, а другим глубоко черным крылом, стоящем строго между землей и небом, между низшей и высшей точками, Ангеле-Посвятителе. Но этот Ангел у Сохраварди отождествляется с 10-м интеллектом, т. е. также считается Логосом. Поэтому мы не далеко ушли от рассматриваемой нами темы. Дионис — это другой Логос. Другой по отношению к тому аполлоническому, который лежит в основе философии. Значит, Дионис — философ, но только другой философ. Возможно, его философия относится к другому Началу.
Этот Логос связан с философией, превосходящей логику тождества, обходящей закон А=А, а также оба других закона Аристотеля. Это Логос, открытый во всех направлениях, он свободно развертывается ввысь и сидит на Олимпийском троне справа от Зевса. Он играет, как дитя, в кости и, играя, обосновывает царство. Можно предположить, что фрагмент Гераклита об играющем ребенке относится именно к Дионису, которого орфики считали «царем будущего века», которому суждено сменить Зевса. С Зевсом и Аполлоном обменивается Дионис атрибутами и символами. В определенных ситуациях он свободно и масштабно обнаруживает свою божественность: он воскресает, возвращается, восстает после того, как, казалось бы, его больше не может быть. Он есть всегда, но всегда особым, трагическим образом — через боль, пафос, безумие, восторг, энтузиазм, через отдаленный и внезапно доносящийся ниоткуда зов, слыша который менады, преданные Дионису, немедленно бросают все дела и бегут в дикие леса, рощи, на склоны Парнаса, в поля и пустоши встречать своего Жениха, свое выношенное в глубине глубин Дитя.
Но он бывает и другим. Жестоким, терзающим, неумолимым, разрывающим людей и зверей на сотни кусков, бешеным, несправедливым, взламывающим все границы и нормы, убийственным, хохочущим, трусливым, мстительным, похотливым, насылающим самые чудовищные и извращенные пытки на людей, оказавшихся к нему в оппозиции. В нем живет и дышит черный ужас нижней границы, в его венах пульсирует ад, его хватка мертва и неотвратима, как пасть верных ему пантер. Он — мощь другой стороны мира, не менее отдаленной от людей, чем небо, противонеба в кровавых молниях ужаса и боли.
Логос Диониса открыт в обе стороны, не поочередно, но одновременно. Дионис не действует фазами, он предлагает двигаться по пути, ведущему вверх/вниз одновременно, в ритме энантиодромии. Его Логос — это Логос безумия, законы которого постигаются только внутри его захватывающей стихии. Это Логос в движении, он никогда ни в один момент не тождественен самому себе. Он никогда не там, где мы ожидаем его встретить, но иногда и именно там. Им невозможно обладать, это он обладает нами. Не случайно мы можем говорить «у меня есть идея» или «у меня есть мысль». Конечно, для того, чтобы такие выражения стали возможными, платоновская топика должна была пройти множество иссушающих ее трансформаций: идея должна была превратиться в μορφή Аристотеля, затем в ens creatum схоластов, пока через номинализм и Локка она не стала атрибутом мыслящего человеческого субъекта. Но все же мы можем считать (пусть и наивно) разум тем, что нам принадлежит, а его содержание — нашей собственностью. Но когда заходит речь о безумии, мы никогда не решимся сказать нечто аналогичное. Напротив, мы говорим об «одержимости», possession, Ergriffenheit, т. е. о том, что в безумии нами кто-то обладает, похищает, присваивает себе помимо нашей воли. Мысли еще могут считаться нашими. Безумие заведомо срывает саму возможность принадлежности кому бы то ни было. Безумие не имеет субъекта и объекта: тот, кто знаком с этим опытом, знают — самое страшное в нем то, что при впадении в безумие сам мир становится безумным, нет больше внутри и вне, я и не-я, все смешивается — остается только безумие, не принадлежащее никому, но охватывающее в свой режущий вортекс всех и все.
Показательно, что будучи «богом безумия», сам Дионис от него страдает. Безумие не его собственность, он им не распоряжается. Это его стихия, его топос. Искать Диониса надо где-то в этом направлении.
Геометрия Диониса — огива и сердце
Логос Диониса — это Логос рождающийся. Логос Аполлона — Логос родившийся (и возмужавший). Поэтому Дионис — ребенок по преимуществу, божественное дитя. Хотя он выступает и как молодой юноша, и как старик, детскость в нем превалирует — он играет всегда, даже если его игры приобретают жестокий характер, как, например, в истории с Пенфеем, отказавшимся примкнуть к культу Диониса, за что тот покарал его, наслав безумие и сделав жертвой своей же матери, разорвавшей его на части в вакхическом помрачении. Психологи давно заметили, что дети жестоки, поэтому в самых чудовищных своих действиях Дионис всегда остается маленьким быкоголовым рогатым Загреем, резвящимся рядом с троном своего отца Зевса в беспечном ожидании измазавших свои черные лица известью Титанов, уже ползущих на Олимп, чтобы его разорвать, раздробить, сварить и пожрать — так, что от него останется лишь сердце, вечно живое сердце Диониса, не подвластное никому и способное только из самого себя воссоздать всего бога заново. Дионис — сердечный бог, по одному из преданий Зевс воссоздает его как юношу Вакха, добавляя к сердцу по очереди все другие органы, кости, вены, мышцы, пальцы, глаза…
Дионис все время рождается. В нем тайна вечного рождения, становления, твердого и гибкого одновременно, упругого движения в сторону солнца. В этом его Логос, Логос мира феноменов, не мира идей.
Аполлон и тем более последующий за ним философский Логос Платона и Аристотеля утверждают божественное, высшее, небесное, изначальное как созвездие сущностей (ουσία, essentia), остающихся всегда неизменными и вечными. Этот Логос фиксирует парадигмы как свое основное содержание. Аристотель тяготеет к тому, чтобы толковать парадигмы в каузальной системе: одно всегда является причиной для другого. Причины, эссенции и формы (μορφή) составляют небесный аспект Вселенной, в центре которой недвижимый двигатель. Поэтому вся философия строится после какого-то момента как приведение бурных и переменчивых явлений к этим фиксированным осям координат — парадигмальным, эссенциальным, каузальным.
Хайдеггер в книге «Бытие и истина»[461] показывает, что в платонической философии истиной (или ее антитезой, ложью) становится отношение, установленное между мыслящим и мыслимым, видящим и видимым (Платон называет это ζυγόν, «ярмо», соединяющее дугой два полюса), которое, в свою очередь, есть проявление эссенции, идеи. Мир явлений всегда сопрягает друг с другом мыслящего и мыслимое, но само сопряжение, упряжь, ярмо, дуга не произвольны, а зависят от небесного образца, который сам себя проецирует в становлении на два полюса — активный и пассивный. Так упряжь становится линией пересечения не двух моментов, а трех, поскольку истина определяется не просто соотношением мыслящего и мыслимого, но отношением этого соотношения к миру вечных идей. Свет идеи нисходит на покатую дугу, выстроенную между человеком и миром в срезе феноменов, и стекает по ней в двух направлениях, подвергаясь искажениям, колебаниям, сбоям, возмущениям, шумам и т. д.
Так строится аполлонический «взрослый» Логос в своем наичистейшем виде. По мере того как он будет «стареть», все отношения будут отвердевать. В Новое время проблематичными станут верхние регионы, расположенные выше «ярма» (ζυγόν). Эссенция, истина и благо будут помещены на один из полюсов этого «ярма» (субъект/объектная топика Декарта), пока, наконец, оба (субъект и объект) не будут поставлены под вопрос и останется только само «ярмо» (от трансцендентального разума Канта до постмодернистской ризомы Делеза). «Бог», смерть которого провозгласил Ницше, был в конечном счете Аполлоном, но только Аполлоном в глубокой старости.
Логос Диониса изначально структурирован совершенно иначе. Он строится по другой геометрии.
В центре этой фигуры — пульсирующее живое сердце Диониса. Оно толкает кровь жизни во всех трех направлениях — вверх, к высотам священной горы, к миру богов и героев, к Аполлону и Зевсу, к небесному трону. И сила этого сердца такова, что она достигает высшей точки. Но она же, по закону циркуляции жизни, срывается с горной вершины и растекается по огиве на людей и мир, превращаясь в вино и слезы, пронизывая мир божественной дрожью, рождая зов Диониса. В такой дионисийской геометрии нет ни одного из аполлонических (платонических) полюсов — нет ни парадигм, ни мыслящего, ни мыслимого; нет и солнца, глаза и зрелища. Есть только необъяснимое и пронзительное присутствие темного (в сравнении с ярким дневным Аполлоном), черно-белого (как его леопарды и пантеры) бога жизни (ζωή); есть солнце полуночи, которое само по себе есть и глаз и зрелище, видение без видящего и видимого (дзэн-буддизма), черный полдень (суфиев). Этот Логос расположен между (Inzwischen Хайдеггера), строго посередине, а это и есть «сердце», то, что пребывает в середине.
Об этой геометрии нам повествует миф о сердце Диониса и о том, что он был воссоздан вокруг этого сердца. Значит, быть посредине (Zwischen) здесь приобретает иной смысл, нежели в том «ярме», которое обязательно соединяет собой одно и другое. Ζυγόν и καρδιά — абсолютные антитезы. Сердце ничего не соединяет, не посредничает между одним и другим, оно одно и другое конституирует, порождает, а потом, играя, снимает, чтобы сделать что-то еще. Отсюда метаморфозы Диониса (и мальчика Загрея, и юноши Вакха, и элевсинского колосса Йакха). Пластичность Диониса и его свиты, никогда не остающейся надолго фиксированной, постоянно превращающейся, меняющей облик, выдающей себя за что-то иное вплоть до полной утраты идентичности, это — свойство «быть между», быть в центре, откуда движение может распространиться в любом направлении и по любой траектории. Это свойство вечного начала.
Что такое философия?
Но здесь встает вопрос: а имеем ли мы дело с Логосом? Может ли мышление иметь такую структуру и такую геометрию? И если да, то будет ли по-строенное на ней здание философией?
Видимо, нам не удастся обойти вопрос «Что такое философия?» Без этого наш замысел поиска темного Логоса окажется подвешенным и неясным. Здесь придется эксплицитно изложить ряд позиций, которые, так или иначе, проступали в тех или иных фрагментах этой книги.
Мы знаем только одну философию. Западную, греческую, аполлониче-скую. Мы знаем, как она начиналась и чем она закончилась. Ее история совершенна в том смысле, что завершена, и мы можем окинуть ее взглядом всю с начала и до конца. Вопрос «Что такое философия?», строго говоря, сегодня следует задавать так: «Чем таким была философия?» И вот на этот вопрос вполне можно дать внятный ответ: она была историей систематического мышления, основанного на принципе радикального разделения (дифференциации) и столь же радикальной эксклюзии. Откуда взялась первая молния, породившая базовый импульс к философии, мы рассматривать не будем, это не имеет отношение к вопросу «Чем таким была философия?», т. к. заставляет нас посмотреть туда, где она еще ничем таким не была и только стала тем, чем стала. Достаточно того, что она стала такой в Греции VI века до нашей эры, состоялась как таковая в Платоне и Аристотеле, полностью предопределила христианское Средневековье, продолжала быть таковой, но в сильно урезанном и препарированном виде в Новое время, и пришла к полному исчерпанию своего фасцинативного аполлонического потенциала в ХХ веке, выдвинув на первый план последний результат своей более чем двухтысячелетней работы духа — концепт ничто, нигилизм, завершивший весь процесс радикального разделения и радикальной эксклюзии. Вначале разделение бытия и ничто. Потом эксклюзия ничто как ничто. Затем обратная симметричная эксклюзия бытия и утверждение ничто (под различными масками — у плохих философов или вообще без них — у хороших). Вот чем таким была философия как западная философия. И вот чего больше нет, хотя результат этой философии, ее пост-философские последствия[462] мы имеем как то единственное, что имеем.
Если принять, что только это и можно было называть философией, то тогда Дионис не философ, не философ также Ницше как «ученик философа Диониса», не философ Хайдеггер, говорящий о «другом Начале», не философы все те, кто не попадают в четкие и внятные критерии того, чем была западная философия — в частности, мыслители и системы Востока, мистики, духовидцы, романтики, философствующие пророки, теурги, гностики. Все они начинают и заканчивают логикой, которая обходит жесткую модель дифференциации, διαίρεσις и эсклюзии («А=А, а не-А не равно А», «либо А, либо не-А»). Значит, они отклоняются от главной оси Логоса, от его жесткой вертикальной топики, от его «абсолютных» и «универсальных» (такими их провозглашает западная философия) законов и правил, от его структурных и системообразующих норм. Таким образом, вопрос о философе Дионисе имеет принципиальный характер: если Дионис — философ, то наряду с доминантной европейской аполлонической философии есть и может быть иная философия или даже иные философии, основанные на иных предпосылках и методах, изначально конфигурирующие структуру Логоса иначе. Основные принципы такой философии Диониса довольно легко вывести из отрицания философии Аполлона: разделение (дифференциация) осуществляется не радикально и так же нерадикальна эксклюзия. А раз так, то аристотелевские принципы логики корректируются: А=А, но не равно А; не-А не обязательно исключает А полностью, частично это А или какое-то конкретное и онтологически нагруженное В; А может быть одновременно и А и не-А.
На первый взгляд, может показаться, что мы имеем дело в таком случае не с альтернативным Логосом, но просто с нечетким и предварительным выражением «единственно возможного» аполлонического Логоса, еще не освободившегося от помех, не вошедшего в фокус, размытого, где на месте разрыва стоит максимальное напряжение, а рассеченное надвое еще сохраняет в некоторых местах былую связь. Но такой подход содержит в себе априорную уверенность в том, что та траектория, по которой последовало основное развитие западной философии, была единственно возможной, а все развилки, по которым от нее отходили в стороны побочные тенденции, были случайными аберрациями. Одним словом, такой взгляд предполагает, что, если и можно говорить о дионисийской философии и строить ее топику, то лишь как о предварительном этапе философии подлинной, как о пра-Логосе, о пралогике, о пред-философии[463].
На уровне антропологии об этом вели спор два выдающихся этнолога и социолога Люсьен Леви-Брюль[464] и Клод Леви-Стросс[465]. Первый утверждал, что примитивные племена не знают логического мышления и понимают мир и себя самих на основе «мистического соучастия», тогда как второй доказывал, что примитивы имеют логику, но европейские наблюдатели не воспринимают ее именно как логику, потому, что она иная, хотя и сводится к набору дуальных пар, как и полноценная логическая система таксономий.
Но если мы отбросим такой линейный эволюционизм, то вполне можем рассмотреть общую структуру дионисийской философии как параллельное направление, которое установилось вместе с аполлонической философией, и развивалось с ней в интенсивном диалоге. Может быть, она и предшествовала Логосу в его окончательном виде и, может быть, она предвосхищалась Ницше как философия «грядущих», а Хайдеггером как философия другого Начала. Но это не принципиально, т. к. она существовала не только в Начале и Конце, но на всем протяжении историко-философского процесса на Западе и на Востоке при том, что на Западе она уступала приоритет аполлонизму, тогда как на Востоке, напротив, преобладала и доминировала.
Приняв такую версию, мы подходим к диалектике, которую сам Ницше старался жестко отличить от дионисийства, но которая, если рассмотреть ее с точки зрения структурной типологии, полностью отвечает требованиям дионисийской философии. Сама структура рассуждений платоновского «Парменида», и особенно развитые модели неоплатоников, на самом деле и представляют собой ярчайший пример дионисийской философии, где апофатическое единство, ἕν, предустанавливающее бытие, само бытием не является, а есть ничто. Но если бы оно как Первопринцип было строго ничто и небытием, то о нем нельзя было бы говорить, и никакого влияния оно на бытие оказать бы не могло, а тем более не могло бы вызвать бытие к наличию. Будучи строго тождественным самому себе, такое единство не могло бы иметь к себе ничего причастного в виде «генады», а следовательно, рушилась бы вся неоплатоническая структура. Диалектика, таким образом, уже сама по себе есть дионисийская форма мысли, а ее соучастие в развитии философских систем Античности и Нового времени неоспоримо.
Таким образом, мы можем говорить о том, что есть две философии. Одна из них — доминантная на Западе, претендующая на универсализм и абсолютность, оперирующая с радикальной дифференциацией и эксклюзией — имела строго аполлонический характер, родилась, развивалась, достигла апогея, затем вступила в фазу помутнения и рухнула. Вот чем «таким была философия». Но это только одна философия. Другая философия развивалась параллельно и на периферии первой, хотя подчас вторгалась в ее область и пыталась (например, в диалектике Шеллинга или Гегеля) установить свои правила как приоритетные нормативы философствования. Эта вторая философия может быть названа дионисийской в широком смысле этого слова.
Также можно говорить о двух типах Логоса — о Логосе аполлоническом и Логосе дионисийском. Первый является закрытым, т. к. оперирует с идентичностями (principum individuationis), классической логикой и эксклюзивностью. Он основан на привативных парах и доводит принцип есть/нет, один/ноль до максимального предела. Именно в нем мы получаем «бытие» и «ничто» как две абсолютно несводимые антитезы: парменидовское бытие, которое есть, и небытие, которого нет. В «Софисте» Платона мы встречаем другое небытие — небытие, которое есть, а значит, там мы находимся в присутствии иной философии, диалектической, дионисийской. Эта философия оперирует с иным Логосом, темным Логосом, который является открытым, экстатическим. Его экстатичность в том, что он выходит за свои пределы, нарушает principum individuationis, открывает вещам и сущностям путь метаморфоз, выход за свои границы. Это освободительный Логос, который не ввергает вещь в самотождество, в раз и навсегда заданную форму (μορφή Аристотеля), но позволяет ей принимать разные формы.
Дионисийский Логос не боится противоречий, он строится на парадоксах, антиномиях и апориях, причем не спешит их разрешать. Показательно, что у неоплатоника Дамаския разделы философских произведений так и называются «апориями» (ἀπορία), «тупиками», которые он всесторонне осмысливает и разбирает, довольствуясь этим.
Открытый Логос позволяет говорить об «открытой философии», чья судьба менее однозначна, нежели философии как таковой, аполлонической и доминирующей. Если та завершена и совершенна, то об «открытой философии» такого со всей однозначностью сказать нельзя: она не была снята даже тогда, когда эксклюзивный Логос самодержавно распоряжался сферой мышления на Западе. Она не получила столь полного выражения и столь ясной систематизации, как «закрытая философия». Более того, само ее сущест-вование не столь очевидно, раз приходится доказывать и обосновывать, что все это имеет отношение к философии и что речь идет именно о Логосе, а не о подступах к нему.
Хайдеггеровская модель истории философии будет нам чрезвычайно полезна в том, чтобы распознать контуры этой «открытой философии». Хайдеггер видит ее следы у досократиков, в той фазе становления философии, которая предшествует тому, что Хайдеггер называет «Конец в рамках Первого Начала». Далее идет закрытая философия — от Платона до Ницше и Гегеля. И в перспективе построения фундаменталь-онтологии и учреждения Dasein’а Хайдеггер предлагает приступить к ней в контексте другого Начала. Дионисийскую подоплеку хайдеггеровского Dasein’а и, соответственно, его фундаменталь-онтологии довольно легко обнаружить, зная, как внимательно читал и глубоко продумывал Хайдеггер своего любимого философа Ницше, и какое значение он придавал Гельдерлину, для которого Дионис был важнейшей фигурой духовного пантеона. Заря и проект будущего «открытой философии» описаны Хайдеггером доказательно и верно. Но он (впрочем, почти как и Ницше) полностью упустил из виду (или сделал вид, что полностью упустил) «открытую философию», какой она была в своем параллельном течении в той фазе, когда западноевропейский аполлониче-ский Логос, вертикальная топика платонизма, торжествовали. Открытый платонизм «Парменида», парадоксальные структуры неоплатоников, апофатическое богословие, герметизм, христианская мистика, наконец, теологиче-ская диалектика Шеллинга и Гегеля либо игнорировались Хайдеггером, либо трактовались пристрастно и на периферии его внимания. Точно так же дело обстояло и с восточными философиями (исламский эзотеризм, адвайта-ведантизм, тантризм, дзэн-буддизм, даосизм и т. д.), которые Хайдеггер эксплицитно отказывался всерьез рассматривать. Для него то, что не совпадало с аполлоническим Логосом, было поэзией, областью сакрального и иррацио-нального; он отказывал этому не в своем интересе или глубинной симпатии (напротив, это как раз было), но в статусе философии. Если мы обобщим все это, то получим приблизительно то, что принято называть Philosophia Perennis и ключом к чему могут служить работы Рене Генона и Анри Корбена. Значение последнего в том, что он исследует Philosophia Perennis, будучи глубоко увлеченным Хайдеггером и прекрасно знакомым с его основными идеями.
Корбен не просто толкователь и переводчик классиков исламского эзотеризма; он — самобытный и самостоятельный философ, ярчайший представитель «открытого платонизма». Если учесть, какое значение фигуре Диониса придавали психоаналитики, занимавшиеся «психологией глубин» и группировавшиеся вокруг К.Г. Юнга, и вспомнить, что Корбен играл важную роль в юнгианском семинаре «Эранос», где участвовали мыслители, философы и религиозные деятели разных культур и конфессий, Запада и Востока, то мы вправе обнаружить у Корбена все признаки дионисийской философии. И следовательно, мы подходим к очень деликатной теме: не является ли таковой вся Philosophia Perennis? Ведь ее основные свойства в том, что она основывается как раз на топике открытого Логоса, сердечное знание в ней ставится всегда заведомо выше головного, недуальность отношения Бога и мира является отправным принципом, а парадокс и апория, символизм и мистериальность — излюбленными методами передачи и освоения.
Если принять эту гипотезу, то получается, что Хайдеггер также наметил «открытую философию» в Первом и Втором Началах, предложив объединить их кривой линией, на которой аполлонический Логос взлетал и падал, и постижения структуры которой должно — по обратной аналогии — привести нас к пониманию того, чем не был этот закрытый Логос, закончившийся западным нигилизмом. При этом, помимо операции, сопряженной с эксклюзивным выделением доминантной на Западе философской традиции (закрытой философии), мы можем, уже за пределами хайдеггерианства, рассмотреть структуру «параллельной философии», Philosophia Perennis, которая существовала и между Первым и Вторым Началами на Западе, и в эти и иные периоды вне Запада, в частности, на Востоке. Так мы получаем типологию двух Логосов — закрытого, аполлонического, и открытого, дионисийского. Первый соответствует тому, что мы знаем, как «классическая западноевропейская философия», а второй — Philosophia Perennis.
При этом их можно противопоставлять друг другу, а можно (как Ницше поступал с анализом аполлонического и дионисийского начал в эстетике) заметить их взаимодополняемость. Но тогда мы придем к следующему выводу: конец старого аполлонического Логоса произошел потому, что он оторвался от «параллельного Логоса», от открытого Логоса дионисийства, от экстатической жизни свободного духа, от стихии хорошо темперированного безумия, от глубинной страсти трагедии. Формулу «Бог умер» Ницше можно толковать и таким образом: «Бог умер» в тот момент, когда окончательно отделил себя от стихии вселенской жизни. Но обращение к ней может и должно его воскресить.
Мать и/или материя
Будем считать, что в самых общих чертах мы описали ту область, которую можно понимать под «альтернативной философией», «параллельной философией» и, соответственно, под вторым Логосом, открытым Логосом, Логосом Диониса. Мы назвали его «темным», призывая отличать не только от светлого и солнечного Логоса Аполлона (который находится в стадии заката, Untergang), но и от той черной зоны, где пребывает Великая Мать. Впрочем, поставив вопрос о том, что такое ад, мы пока не дали на него ответ.
Логос Диониса расположен между небесным светом и внешним пределом мира, великим мраком Матери (материи). Небесный Логос нам известен; более того, он почти единственный Логос, который нам известен. Логос Диониса находится между ним и темной периферией Вселенной. Он «темный», открытый, парадоксальный, диалектический, ускользающий, жизненный, экстатический. Его структуры суть структуры организованного божественного безумия. Будем считать, что мы наметили горизонты этого второго Логоса, а указание на Philosophia Perennis и все, что может иметь к ней хотя бы какое-то отношение на Западе и на Востоке, существенно расширяет и конкретизирует наши представления. Логос Диониса находится между небом и адом, Гадесом, Реей-Кибелой, между Логосом неба и…
Здесь, казалось бы, очевидно, что больше о Логосе говорить нельзя ни в коем случае. Логос Диониса находится между Логосом и не-Логосом. Поэтому он «темный» — он частично Логос, а частично нет. Следовательно, мы предполагаем, что мир Матерей уже точно не является Логосом ни в каком смысле — ни в первом, ни во втором. И на первый взгляд, это абсолютно верно, т. к. в материи мы достигаем нижнего предела объектного полюса, где нет ни тел, ни стихий. Это зона апофатики снизу, стерильного, ничего не рождающего ничто, ничто множественного, противоположного ничто единого, способного и желающего в силу своей благости производить все, изливаясь за свои границы, учреждая бытие, мышление, душу и телесный космос.
Но приглядимся к этой зоне более внимательно. В первую очередь, обратим внимание, что зона Великой Матери отождествляется с материей как абсолютной неинтеллигибельной привацией только с позиций структур аполлонического Логоса. Смотря с небес вниз, от себя самого, Логос видит феноменальный мир как «свое другое», как свою копию, икону, свое инобытие. Смотря вниз, Аполлон видит Диониса. То, что находится еще ниже и еще дальше вовне от небесного Логоса, скрыто; он судит об этом по аналогии и логически: на дальнем пределе от него, который есть все, нет ничего. Отсюда постепенно складывается представление о платоновской χώρα и об аристотелевской ύλή, materia prima. Это, на самом деле, внешняя и нижняя граница мира, но видимая сверху, из небесного центра. Небесный Логос полагает этот внешний предел как радикальный не-Логос, не имеющий в себе ничего от Логоса. Предела такая «чистка» достигает в философии, освобождающейся от мифа. Великая Мать — фигура мифа. Материя — фигура философии. Закрытая философия идентичности (аполлоническая) превращает Мать в материю, Хаос в хору. Мифологический объем снимается в пользу плоского ноэтического конструкта. Мужской взгляд на женщину как на свою антитезу достигает наивысшей кульминации. Здесь женщины больше нет — как в крайних аскетических и монашеских практиках. Нет вообще.
Но темный Логос Диониса находится в ином отношении с внешней границей Вселенной, с миром Матерей. Для него мифологический объем фигуры Великой Матери еще сохраняет свое значение. Логос Диониса чуток к мифу, он видит в его нарративах самого себя. Конечно, становясь философией, дионисийство рефлектирует само себя, развивает путеводительные методы, т. е. перестает быть только мифом. Но, выходя из мифа, Логос Диониса в отличие от Логоса Аполлона никогда не порывает с ним связи окончательно. Не потому, что он еще не стал до конца философией, а потому, что он стал другой философией, сакральной, живой, открытой, организованной совершенно иным способом, философией, включающей в себя миф, а не исключающей его.
Когда Логос Диониса спускается в царство матерей, он видит там нечто иное, нежели хору или материю в качестве радикальной антитезы Логосу (Логосу Аполлона). Да, Дионис в аду понимает, что он не ад, не Гадес, не Кибела, не Персефона (его мать в первом рождении). Но… Для Диониса нет радикального «нет»: понимая, что «не», он понимает, что одновременно и «да»… И он рвется своим неукротимым духом открытости к воплощению этого парадокса в философском и жизненном одновременно жесте. Дионис проходит посвящение в мистерии Кибелы, становится адептом Великой Матери. Исследуя последнюю глубину мира, он спускается в ад, он становится адом, он получает посвящение в ад.
Посвящение в жрецы Кибелы предполагало ритуальную кастрацию. В истории с Аттисом, возлюбленным Кибелы, этому предшествовало впадение Аттиса в безумие. Безумия/кастрация/смерть — логическая цепочка действий того, кто любит Великую Мать и любим ею. Так и поступали жрецы этого культа, «галлы», приносящие свое мужское начало на алтарь богини в экстатическом трансе. Так они умирали. Но Аттис был воскрешен Кибелой в форме вечнозеленой пихты или фиалки. Так и жрецы-галлы получали от Великой Матери взамен своей жертвы что-то очень важное.
Кибела излечивает Диониса от безумия и посвящает в свои таинства. Это вполне можно понять как указание на кастрацию Диониса. Далее следует его излечение — воскрешение. Дионис проходит аналогичные ситуации неоднократно, и сам его культ есть трагическое расчленение и новая жизнь. Но в случае с Кибелой, в этом постоянно повторяющемся в дионисийстве сценарии, есть одна особенность: кастрация есть отказ от мужского начала, т. е. символически от Логоса. Проходя посвящение в мистерии Черной Матери, Дионис приносит в жертву свой Логос. То есть он исследует пределы философии, границы ее открытости. Он совершает важнейшее действие: переступает черту Вселенной снизу, делает бросок от философии в не-философию, в то, что лежит сущностно ниже ее нижней границы. Аналогичное действие невозможно и бессмысленно для аполлонического Логоса: в мире неинтеллигибельной материи нет Логоса, а значит, там некуда посвящаться, это будет простое и чистое отрицание, а значит, мистерии материи просто не может быть. С точки зрения аристотелевской логики и даже с точки зрения классического платонизма (и отчасти неоплатонизма), посвящение в культ Великой Матери не может содержать в себе ничего философского. Оно может быть, но его нет для Логоса.
Дионис считает иначе и проникает ниже нижней черты. В контексте открытой (дионисийской) философии соблазнительно рассмотреть это как мифологическую метафору какого-то философского процесса, связанного с более внимательным и чутким изучением материи, нежели в случае аполлонического светового радикализма.
Но, может быть, пойти дальше и задаться вопросом: чем становится Логос Диониса, будучи посвященным в мистерии Кибелы? На первый взгляд, ответ очевиден: не-Логосом. Здесь в черной бездне Великой Матери исчезают все признаки Логоса — и первого, и второго. Значит, Дионис получает опыт того, что не есть Логос вообще. Но… вспомним, что для дионисийской логики «нет» всегда содержит в себе «да». Погружаясь в абсолютный не-Логос, Дионис, во-первых, остается Логосом сам, а во-вторых, открывает тайну Великой Матери, формулу Хаоса. Тайна в том, что и это тоже Логос, третий Логос, черный Логос, отличный и от первого и от второго, но первому не доступный вообще, а второму — открывающийся в ходе героической инициации в глубину глубин. Черный Логос отличен как от светлого (это очевидно), так и от «темного»; это не Логос Диониса, это нечто иное, обнаруженное там, куда Дионис опускается, достигая дна Вселенной.
Черный Логос Великой Матери: третья философия
Следуя за открытой философией Диониса, мы подошли к еще одной инстанции — к «черному Логосу», к Логосу чисто женского Начала, к Логосу земли. И здесь мы можем высказать совсем отважное предположение: не существует ли помимо «второй философии» Диониса — «третьей философии», относящейся к «царству матерей», которое искал доктор Фауст в своих опасных экспериментах с Мефистофелем.
Все, что мы знаем о стихии Великой Матери, свидетельствует, что нет ничего более далекого от философии и более близкого к мифу, причем в его хтонических, бездонных корнях. Так оно и есть, если смотреть с позиции первого Логоса. Но с позиции второго Логоса все вообще становится совершенно иным. Раз «не» есть заведомо в чем-то (отчасти) «да», то «не-философия» должна быть в чем-то (отчасти) «философией», к этому приводит диалектика. А раз это так, то философию, Логос можно найти и в аду, с которым у Диониса прочные связи.
Почему и как мы можем говорить о третьем Логосе, на сей раз однозначно «черном» («а не темном»)? Аналогию можно увидеть в самом сценарии по-священия в культ Великой Матери. Жрецы этого культа, галлы — мужчины. То есть символические носители Логоса. Как в мужчинах в них наличествует аполлоническое и дионисийское начала. Они как минимум способны к философии, а Дионис, по Ницше, и сам философ. Когда мужчины/«философы» осуществляют ритуальное оскопление, они делают тем самым философский жест. Отказываясь от философии и Логоса, они конституируют радикально иной Логос, своего рода анти-Логос, черный дубль Логоса, построенный на полном переворачивании аполлонизма. Это именно философия, это продукт мужского начала, это Логос. Но… его структура состоит в радикальном неразличении и столь же радикальной инклюзии. На самом деле, мы имеем дело именно с логикой, но логикой женского типа, с радикально женской, материнской философией. Однако это не просто женское, а радикально жен-ское, женское, уходящее корнями в бездну женственности, такое женское, которое закрыто от самих женщин и доступно (в исключительных случаях) только мужчинам, превращающимся в женщин, галлам, жрецам Великой Матери, которые и есть Великая Мать, конструируемая ими в философском жесте оскопления.
Что значит, «радикальное неразличение» и «радикальная инклюзия»? Это вполне формализуемые положения: А не равно А, никогда, ни в чем, ни при каких обстоятельствах, но равно только не-А, т. е. В; и все, что только есть и может быть, и даже то, чего не может быть, заведомо есть и может быть даже в том случае, если одно взаимоисключает другое — вместо «или-или» действует закон «и, и, и, и» … и так в периоде. В риторике мы встречаемся неоднократно с приемами такой «женской» философии — например, в фигурах антифразы, катахрезы, эвфемизма и т. д.[466].
Логос Великой Матери есть Логос автономной женственности, не соприкасающейся с мужским началом никак — ни в качестве зачатого во чреве дитя, ни в качестве мужа или возлюбленного. Мать просто не знает Логоса, он является для нее столь же абсолютно другим, как сама материя/хора для мира идей. Мужское начало абсолютно в Аполлоне и переменчиво в Дионисе, выражаясь там через вечное рождение, экстатическое ощущение зачатия бога в природе. В Кибеле мужского начала нет вообще. Оно есть абсолютно иное для нее, не присутствующее ни полностью, ни частично. Отсюда рождаются такие явления, как «обратная привация» или «матриархальная трансцендентность». Так как Мать не знает мужчины вообще, то она не знает, что ей чего-то не хватает, у нее нет точки для сравнения себя с не-собой. Ее присутствие абсолютно и не предполагает другого. Ей всего хватает, хотя у нее нет ничего. Ее привативность зажглась бы как пронзительный ужас недостаточности, ностальгии, нехватки, только если бы она смогла схватить пусть далекий, но отблеск мужского начала. Пока же она не имеет и этого, она не подозревает о том, что она не полна. Ее абсолютная нищета становится ее изобилием, полнотой, самодостаточностью.
При этом Великая Мать теоретически может помыслить иное, нежели она. Иным для хаоса будет Логос. Но этот Логос будет мыслиться Великой Матерью как нечто радикально другое, нежели он сама, как радикальная трансцендентность. В эту зону чистой трансцендентности, не компенсированной никакой имманентностью, попадает философия. И нельзя исключить, что первые интуиции радикального креационизма и, соответственно, чистого монотеизма ведут свое начало именно из философии Великой Матери, из недр ее черного Логоса. Интуиция Матери — это мир, где бог отсутствует, и это отсутствие нагнетается до такой степени, что возводит материальность в высший принцип, экзальтирует ее небытие и ничтожность до статуса онтологического абсолюта, а растворяющий телесность божественный Логос выносится радикально за пределы зоны ее матриархального бытия. Лишь Логос Диониса в поисках онтологических пределов мира проникает в Кибелу, даруя ей нить спасения, озаряя ее возможностью иной (своей, дионисийской) философии, освобождая ее от бездны ее жалкого и жестокого невежества. Дионис в такой роли есть Λύσιος, Liber, Освобождающий, Бог-Освободитель. Он не просто делает черный Логос темным (то есть самим собой), но сообщает черному Логосу великое знание — знание о том, что тот тоже Логос, а не просто абсолютная тьма.
Поэтому в мирах Великой Матери мы имеем дело именно с философией, с систематизированной наукой мыслить и со своеобразной рефлексией на то, как мы мыслим. Это — третья философия, философия хоры, философия хаоса, в которую нас вводит бесстрашный и готовый к любым неожиданностям Логос Диониса. При этом сам он остается самим собой и исследует в своих превращениях лишь крайние пределы — аполлонический Логос, с одной стороны, и его полную антитезу — пояс Матери-материи, с другой.
Игра Диониса с небом и адом
Итак, благодаря Дионису и его философии мы получаем сразу три Логоса, три логики, модели систематизированного мышления, вместо одной.
Здесь, однако, следует обратить внимание на одно обстоятельство: когда Дионис доходит до верхнего и нижнего пределов и посвящается в соответ-ствующие мистерии (на примере мистерии Кибелы можно допустить и симметричную инициацию в Логос Аполлона — тем более что Дионис пребывает в Дельфах), то переходит ли он полностью под влияние солнечного Логоса в одном случае и черного материнского Логоса в другом? Если бы в его логике была жесткая идентификация А=А, то мы должны были бы допустить, что переходит. По Лейбницу, согласно его principium indiscernibilium, «не могут существовать две вещи совершенно сходные в качественном и количественном отношениях, ибо такое сходство было бы ни чем иным, как тождеством». Другими словами, приходя в зону Логоса Аполлона или черного Логоса Кибелы, «проходя посвящение в их культы», Дионис становился бы ими. Но вся логика Диониса строится иначе. В ней любое отождествление предполагает сохранение различий, и любое различие сохраняет невидимые связи. Так Дионис, достигая пределов Вселенной сверху и снизу, осуществляет чрезвычайно важную операцию с теми Логосами, которые управляют этими онтологическими и гносеологическими горизонтами: он открывает их, добавляет тонкий дионисийский экстатический момент в их основательные и тяжеловесные структуры. Так он привносит в аполлонический Логос диалектику.
Это наглядно видно в неоплатонизме. Дионисийский дух мы замечаем здесь на самом верхнем этаже неоплатонической картины: там, где над бытием утверждается апофатическое единое. Этот жест мгновенно меняет логику тождества на логику нетождества, превращает всю строгую конструкцию платонизма в ожившую динамичную гераклитовскую игру. Что в этом случае делает Логос Диониса? Доходя до высшей точки вертикальной солнечной топики, туда, где самое высшее равно самому высшему, а значит, ничего превысшего нет, Он делает божественный жест и превращает равен-ство в неравенство, а «нет» в «есть». Есть нечто выше высшего. Предел не есть предел. «За ним ничего нет» превращается в «за ним ничто есть». И это-то как раз то самое, что важнее всего: «Не высокое, — смеется Дионис, — но выше высокого…» А это значит, первое есть второе, а главное — подчиненное. А значит, есть нечто, что ускользает от нас на самой высоте платониче-ского созерцания.
Диалог «Парменид», где, кстати, последовательно и обстоятельно опровергаются воззрения исторического философа Парменида, скорее всего, продиктовал Платону Дионис. Вскрывая платонизм сверху, дионисийский Логос полностью трансформирует его дух, делает его пластичным, парадоксальным, никогда не тождественным самому себе.
Надо сказать, что такое дионисийское вторжение в неоплатонизме затрагивает только верхние уровни философской системы; Дионис остается здесь преимущественно на территории Аполлона. Нижние этажи космоса неоплатоники описывали, прибегая к философской топике Аристотеля. В неоплатонизме Дионис в эти регионы не спускается, и общее толкование материи, стихий и тел дает чисто мужское видение материи как привации, как логического предела градуального сокращения эйдетического содержания в вещах: от богов, к ангелам, демонам, героям, душам, животным, растениям, камням, телам и стихиям — вплоть до низшей черты, материи. Это взгляд сверху. Здесь проходит граница, которую Дионис в неоплатонизме не вскрыл. Единственно, что вызывает определенные интересные ассоциации, это та симметрия, которая прослеживается между двумя апофатическими началами — «ничто» высшего единого, ἕν, и «ничто» материи, ὕλή. Но то, что Дионис был посвящен в мистерии Кибелы, позволяет предположить, что он способен открыть вертикальную топику и снизу, обнаружив, вместо плоской хоры, плотный и насыщенный, кипящий бытием хаос.
Теперь зайдем с другого конца и посмотрим, как соотносится Логос Диониса с черным Логосом Великой Матери, если мы признали, что, вторгаясь в сферы иных Логосов, дионисийское начало остается самим собой, даже в том случае, если полностью принимает их форму. Переходя в область радикального неразличения и абсолютной инклюзии, Дионис сохраняет то, чем он был до того, как прошел посвящение. Более того, поскольку все в Дионисе обратимо, — и жизнь, и смерть, и безумие, и мудрость, и страдание, и жестокость, — можно представить его вечно проходящим посвящение Кибелы, т. е. вечно оскопляющимся. Вечно оскопляющийся бог никогда не бывает уже оскопившимся, т. е. принятым полностью в объятья Великой Матери. Его оскопление не может быть завершено, т. к. в Дионисе ничто не завершено. Поэтому он, вступая в зону черного Логоса, остается отличным от этой зоны. А значит, он что-то различает в радикальном неразличении хаоса, сохраняет определенную эксклюзивность в царстве радикальной инклюзии. Превращая Кибелу в Логос, Дионис делает хаос чреватым. В каком-то смысле он оплодотворяет его и от него же рождается. Фаллос Диониса (иногда толковавшийся как сердце Диониса) Кибела (Гипта, Рея) несет в корзине на своей голове. Так, он назван в орфическом гимне «божественной колючкой подземной царицы»; «колючка» — в данном случае традиционный эквивалент фаллоса.
Поэтому Дионис является «спускающимся» (Untergehende), т. е. тем, кто погружается в ночь (Διόνυσος Νυκτέλιος), но сохраняет свою божественную идентичность, становясь ночью сам и не становясь ею в то же время. Множественные связи Диониса с подземными миром (так, он был рожден как Загрей Персефоной, царицей подземного мира) и его эпитет καταχτόνιος подчеркивают зону его исследований на нижней границе мира.
К Дионису!
Очевидно, что, когда мы говорим «Дионис», мы понимаем под этим не только конкретного персонажа греческих культов, празднеств, мифов и трагедий. Мы имеем в виду определенный принцип, определенную фигуру, которая может носить в разных религиозных, мифологических, культурных и философских контекстах различные имена и иметь различные атрибуты. В своей работе о Дионисе Карл Кереньи[467] довольно подробно описывает мифологические фигуры дионисийского типа в иных средиземноморских мифологиях. То, что связано с опьянением, расчленением, хаотическими плясками, духовыми и ударными инструментами (флейтами, тимпанам, бубнами и т. д.), фаллофорными процессиями, циклами метаморфоз в различных животных, с масками и сакральными представлениями, жертвоприношениями козлов и быков, с безумием и оргиями, с обрядами прихода (эпифании) богов, смертью и воскресением — одним словом, со стихией бурной, раскрепощенной, активной, экстатической, еще не упорядоченной, но уже божественной жизни, может входить в дионисийский круг символов, жестов, образов, ситуаций. Там, где встречаются все эти вещи, под теми или иными именами и в тех или иных сочетаниях, расположена территория, которая вполне может иметь отношение к дионисийской философии, к «темному Логосу» — пусть в ее самой латентной форме. Даже если второй Логос еще не проявлен, на основе прослеженных нами закономерностей, мы всегда можем попытаться предположить, что он при определенных обстоятельствах может проявиться и что, скорее всего, в латентной форме этот Логос так или иначе присутствует. Поэтому в различных традиционных обществах, где наличествуют эти элементы (а они есть так или иначе в большинстве сакральных обществ), мы могли бы предположить, что при необходимости построения философских моделей на глубоких и самобытных культурных основаниях эта «будущая» или «возможная» философия, скорее всего, будет развертываться именно вокруг и дионисийского Логоса. К. Кереньи предполагает, что теология орфиков начинает складываться тогда, когда в культ Диониса, кроме традиционно участвовавших в нем женщин-менад, фиад, вакханок, стали более свободно и массово посвящать мужчин. То, что посвященные жрицы Диониса переживали непосредственно, мужчины начали выражать в упорядоченной, мифологической, теологической, религиозной и протофилософской форме. От орфиков можно проследить этот след к пифагорейцам и Гераклиту и далее — к диалектике Платона и особенно неоплатоников. К неоплатонизму в той или иной версии приходили носители и иных локальных культов, сходных структурно с дионисийскими, но носивших иные названия. При этом сами дионисийские общины К. Кереньи считает версией еще более архаичных мифологических и обрядовых комплексов, уходящих корнями как в крито-минойскую цивилизацию, так в древнюю Анатолию, Ассирию, Египет и весь ареал Ближнего Востока.
Если мы настолько расширили область понимания Диониса — от архаических культов, не носящих его имени, до философских методик, также свободных от прямых мифологических коннотаций,- — мы, по-видимому, сможем говорить о дионисийском Логосе там, где нет в строгом смысле ни Диониса, ни Логоса, но есть определенная культурная парадигма, обладающая вполне конкретными чертами и характеристиками.
И наконец, мы можем совершить и еще одно действие, распространив территорию «темного» Логоса не только на область жизни, феноменов, на зону, находящуюся всегда в середине, в центре, в сердце мироздания и расходящуюся оттуда во все стороны лучами-сосудами, но и на удаленные от нее области верха и низа Вселенной, в нормальном случае управляемые иными мифологическими и философскими порядками — Аполлоном и Кибелой. Дионис проникает повсюду и повсюду привносит с собой дыхание божественности и жизни, жест парадокса, улыбку царственной игры. Поднимаясь на высшие этажи солярного созерцания, Логос Диониса обнаруживает по ту сторону солнца «тьму превысшую света», апофатическое ничто, ἕν, таинство божественной ностальгии. Тем самым он привносит темную точку в бездну света и освещает предонтологическую тьму. Тем самым он открывает первый Логос, делает его живым, а если тот рухнул под тяжестью своей закрытости, превратившись в логику, затем в рассудочность, и наконец в ничто, то он воскрешает его, дает ему другое Начало. Дионис не против Аполлона. Будучи принципиально другим, он солидарен с ним и в какой-то момент вспышки события — тождественен ему.
Вместе с тем проникает «темный» Логос и в зону абсолютного мрака ада, в материю и вечную стерильную саму по себе женственность и лишенность. И здесь, в самой последней тьме, на ступень ниже ее самой нижней границы Он (для Диониса нет границ), Дионис «спускающийся», зажигает свой свет, пробуждает материнское лоно фасцинацией своей мужской божественности — ребенка, возлюбленного, отца. Тьма загорается, оживает, начинает двигаться, дрожать и творить. И здесь Логос Диониса открывает свет, который скрыт под самой последней границей абсолютного мрака — свет, о существовании которого не подозревает ни одна стройная и строгая мужская мифология, теология, философия. Дионис достигает дна бездны и обнаруживает смысл ее бездонности. Плоская и лишенная онтологического объема хора начинает дышать, превращается в бесконечное богатство духовных потенций (становится «абсолютным местом», «басе» у Нишиды или «духовным пространством», «богом» — «spissitudo spiritualis» у кэмбриджского неоплатоника Генри Мора). Так «тьма превысшая света», обнаруженная выше высшего предела небес, и «пылающий мрак», оживший ниже низшего предела Матери-материи, оказываются двумя дарами дионисийского Логоса. Но любое «два» у Диониса «не-два». Поэтому именно второй Логос, темный Логос, Логос Диониса может совместить в единой картине всю карту космической, гиперкосмической и гиппокосмической жизни, всю карту открытой онтологии, включая в себя в тонком и игровом недуальном балансе и радикальную эксклюзивность Аполлона и радикальную инклюзивность Magna Mater. Дионис — это радикальное сердце мира. Поэтому орфики считали его царем будущего века. Это загадочный «будущий Бог» Шеллинга. Ему суждено сменить на троне Олимпа Зевса (это и было тайной Прометея, знавшего имя того, кто низвергнет в конце времен отца богов, но сохранившего молчание). Дионис — «победитель Бога и ничто», укротитель тигров, пантер и леопардов, друг Аполлона, тайный конфидент Великой Матери. Вечно умирающий, вечно воскресающий, вечно зачинающий, вечно оскопляющийся, безумный бог. Играющий царственный ребенок.
Последний Бог.
Сноски
[1] Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 549.
[2] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии. М.: Академический проект, 2011.
[3] «Thick description».
[4] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2011.
[5] Колесов В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова.
[6] Трубецкой так описывает их: « Принципы классификации при этом связаны с системой фонем в целом: одномерность или многомерность оппозиции зависит от того, свой-ственно ли то, что является общим у членов данной оппозиции. (…) Принимая во внимание отношения, существующие между членами оппозиций, последние можно подразделить на три типа:
а) Привативными называются оппозиции, один член которых характеризуется наличием, а другой — отсутствием признака, например «звонкий — незвонкий», «назализованный — неназализованный», «лабиализованный — нелабиализованный» и т. д. Член оппозиции, который характеризуется наличием признака, называется «маркированным», а член оппозиции, у которого признак отсутствует — «немаркированным». Этот тип оппозиций исключительно важен для фонологии.
б) Градуальными (ступенчатыми) называются оппозиции, члены которых характеризуются различной степенью или градацией одного и того же признака; например, оппозиция между двумя различными степенями раствора у гласных (ср. нем. u — о, ü — ö, i — е) или между различными степенями высоты тона. Член оппозиции, которому присуще наличие крайней (минимальной или максимальной) степени данного признака, называется крайним или внешним; прочие члены являются средними. Градуальные оппозиции сравнительно редки и не столь важны, как привативные.
в) «Эквиполентными (равнозначными) называются такие оппозиции, оба члена которых логически равноправны, т. е. не являются ни двумя ступенями какого-либо признака, ни утверждением или отрицанием признака. Таковы, например, немецкие р — t, f — k и т. д. Эквиполентные оппозиции — самые частые оппозиции в любом языке». Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987.
[7] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С. 195.
[8] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С. 188–189.
[9] Там же. С. 189.
[10] Показательно, что лингвист и структуралист Н. Трубецкой строит свою фонологическую теорию языка на выделении таких эквиполентных звуковых/семантических пар — фонем.
[11] Очень показателен философский прием Мартина Хайдеггера, вводящего в свое повествование Geviert, Четверицу, состоящую из двух перекрестных и четко эквиполентных пар (ось люди/боги и ось мир (небо)/земля) вместо любых тринитарных симметрий, что полностью соответствует его критике платонизма. Из этого замечания можно было бы извлечь колоссальные выводы, в том числе и в отношении специфики русской ментальности. См.: Дугин А. Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии.
[12] Неклен — дерево семейства кленовых.
[13] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С. 297.
[14] Энантиосемия — слово, содержащее в себе два противоположных смысла или взаимообратимый смысл.
[15] Синкрета — слово или знак, содержащие в себе несколько смыслов или нерасчленимый комплекс.
[16] Дугин А. Социология воображения. М.: Академический проект, 2011.
[17] Дугин А. Социология русского общества. М.: Академический проект, 2011.
[18] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С. 197.
[19] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С. 202.
[20] Дугин А. Социология воображения.
[21] Greimas J.-A. Semantique structurale. P: Larousse, 1986
[22] Souriau E. Deux Cent Mille Situations dramatiques. P.: Flammarion, 1950.
[23] У Д. Греймаса фигура «помощника» как позитивного медиатора (adjuvant) симметрично связывается с фигурой «противника» (opposant) как негативного медиатора, который чинит препятствия главному герою. Но обоих Д. Греймас называет «причастниками», т. к. их французские названия — «причастия». См.: Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: ИГ Прогресс, 2000. Это соответствует тройственной грамматической схеме, приводимой В.В. Колесовым, где причастие соотносится с тем, «что посредне». Этьен Сурио соотносит «помощника» с Луной, а «противника» с Марсом, что напоминает нам отдаленно «Театр памяти» Камилло. См.: Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.: Университетская книга, 1997.
[24] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С. 119.
[25] Дугин А. Социология воображения.
[26] Дугин А.Г. Археомодерн. М.: Международное Евразийское Движение, 2010.
[27] Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
[28] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии. М.: Академический проект, 2010.
[29] Дугин А. Археомодерн.
[30] Через Византию православная греческая традиция уходила напрямую в греко-римскую Античность со всем ее содержанием, так или иначе транслировавшимся недавно христианизированным восточным славянам.
[31] Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова.
[32] Основы Евразийства. М.: Арктогея-центр, 2002; Вернадский Г.В. Московское царство. М.: Аграф, 2000; Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.:Аграф, 1999; Дугин А. Геополитика России. М.: Академический проект, 2011.
[33] В церковном искусстве партесное пение и «фряжское» письмо (перспектива) окончательно вытесняют знаменный (унисонный) распев и византийский стиль иконописи (отсутствие перспективы).
[34] Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Традиция, 1997.
[35] Соловьев В.С. Русская идея. Три силы. М.: Директ-Медиа, 2010.
[36] Идея того, что в православной традиции образ «совершенного человека» дается в лице Женщины, Девы Богородицы, излагается нами в работе «Метафизика Благой Вести». См.: Дугин А. Метафизика Благой Вести // Дугин А. Абсолютная Родина. М.: Арктогея-Цнтр, 1999.
[37] См.: Дугин А. Этносоциология.
[38] Raghavendrachar H.N. Dvaita Philosophy and Its Place in the Veda nta. Mysore, 1941; Sharma B.N. (Krishnamurti). A History of Dvaita School of Veda nta and Its Literature. Bombay, 1960–1961. 2 vol.; Shanbhag D.N. Some Problems in Dvaita Philosophy and Their Dialectical Setting. Dharwad, 1982; Puthiadam I. Visnu, the Ever Free: A Study of the Madhva Concept of God. Madurai, 1985.
[39] Sohravardi. L’Archange Empourpré. P.: Fayard, 1976.
[40] Ibidem.
[41] Corbin H. Le Livre du Glorieux de Jâbir ibn Hayyân (alchimie et archétypes) // Eranos-Jahrbuch, XVIII/1950, Zurich: Rhein-Verlag, 1950.
[42] Corbin H. L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ’Arabî. Paris: Flammarion, 1958.
[43] Goethe. Werke, I. Teil, Gedichte. Berlin: Elibron Klassik, 2002.
[44] Йейтс Франсис. Розенкрейцеровское просвещение. М.: Алетейа; Энигма, 1999.
[45] Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992.
[46] Sohravardi. L’Archange Empourpré. P.: Fayard, 1976.
[47] Dumont L. Essais sur l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’ideologie moderne. P.: Editions de Seuil, Paris, 1983.
[48] Corbin H. Au pays de l’imam caché // Eranos, 1963.
[49] Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение.
[50] Sedgwick M. Against the Modern World: traditionalism and the secret intellectual history of the Twentieth century. Oxford: Oxford University Press, 2004.
[51] Nasr H. Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy. L., 1956.
[52] Heidegger M. Phénoménologie de la mort, fin § 52 et § 53 in: Sein und Zeit (L’être et le temps). Halle am Saale, M. Niemeyer, 1927.
[53] Heidegger M. Über den Humanismus. Brief an J. Beaufretю Paris; Bern (Francke) б 1954.
[54] Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб.: Б. С.К., 1996.
[55] Плотин. Эннеада VI. 4. СПб, 2010. «Итак, это единое сущее всегда пребывает в себе как нераздельное, несмотря на то, что многие существа стремятся к единению с ним. Они стремятся обладать им во всей целости, а не разделять его между собой, и если достигают участия в нем, то участвуют в нем, как в едином целом, насколько бывают к тому способны. Но участвуя в нем, они и не участвуют в том смысле, что оно не становится никогда собственностью ни одного из них. Только таким образом единое истинно-сущее и в себе самом пребывает всецело и во всех тех вещах, в которых открывается его сила; напротив если бы оно не было всегда нераздельным целым, тогда оно не было бы бытием в себе и для себя, тогда и вещи не участвовали бы в его истинном бытии, которого все и всегда жаждут, а участвовали бы в чем-то другом, чего они совсем не желают. (…). Теперь же, если бы то единое существо/мировая душа/ делилось на множество таких существ, из которых каждое вмещало бы в себе всю целость его существа, тогда получалось бы множество /таких же, как оно само/ первых существ, ибо каждое из них порознь было бы в таком разе первым. (…) следует представлять себе положение дела не так, что душа /мировая/ частью в самой себе пребывает, а частью находится в телах, а так, что она всецело пребывает в самой себе и в то же время отражает свой образ во множестве тел /подобно тому, как предмет отражается в зеркале или в воде/: все новое и новое тело, вследствие непосредственной близости повсюду души, получает от нее жизнь, которая доселе в нем не была дана, и обладает этой жизнью точно так же, как обладало ею прежде другое тело /в котором она была/, ибо вовсе не такой создана природа души /мировой/, чтобы такая-то часть ее помещалась в определенном месте и ждала тут тела, в которое ей нужно войти, но эта часть ее, о которой обыкновенно говорится, что она вошла в тело, как прежде этого существовала до вселенной, т. е., в самой себе, так продолжает существовать и теперь после того, как она видимо появилась вот здесь — в этом теле. (…). Конечно, душа /мировая/ сообщает жизнь каждому живому существу и содержит в себе все души и всех духов; она есть бытие единое и вместе бесконечное, она есть сразу и имеет все /живое/; в ней каждое живое существо, будучи от нее отличным, не имеет однако отдельного от нее существования, ибо иначе как она могла бы быть бесконечной? Она содержит в себе все вместе — все жизни, все души, всех духов, но так, что они не отделяются друг от друга границами и очертаниями и вследствие этого представляют одно целое единство. Она обладает жизнью не единичной /в себе замыкающейся/, а бесконечной и вместе единой — единой в том смысле, что она объемлет собой все жизни, которые однако, не смешиваются в ней в одно неразличное единство, хотя истекши из нее, остаются там же, откуда истекли; впрочем правильнее сказать, что они даже не истекали из нее, а всегда в ней пребывают, ибо она не подвержена процессу бывания, рождения, разделения; кажется она разделенной лишь в том, что ее воспринимает, между тем как в ней все от вечности остается одним и тем же; /не она к рождающемуся, а/ все рождающееся к ней приближается, с ней соединяется и ей подчиняется. Но, мы-то, что такое мы сами? Составляем ли мы саму душу /мировую/, или представляем собой лишь то, что приближается к ней и происходит во времени /т. е. тела/? Конечно, нет: прежде, чем последовало это происхождение /телесного/, мы существовали там: одни из нас как человеки, другие как боги, т. е., как чистые души и разумные духи в лоне чистого всеобъемлющего бытия, мы составляли из себя части самого сверхчувственного мира — но части не выделенные, не объемлемые, слитые в одно с единым целым.
[56] Прокл. Платоновская теология / Пер. с древнегреч., сост., статья, примечания, указатели, словарь Л. Ю. Лукомского. СПб.: РХГИ, Летний сад, 2001.
[57] Guénon R. La grande Triade. P., Gallimard, 1957.
[58] Guénon R. L'Homme et son devenir selon le Vêdânta. P.:Editions Traditionnelles, 1925.
[59] Gehlen A. Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt. Junker und Dünnhaupt. Berlin 1940.
[60] Dumont L. Essais sur l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’ideologie moderne. Op. cit.
[61] Mandeville B. The Fable of the Bees: or, Private Vices, Public Benefits. Oxford, 1924.
[62] Штирнер М. Единственный и его собственность. СПб.: Азбука, 2001.
[63] Луман, Н. Общество общества. Часть V. Самоописания. М.: Логос / Гнозис, 2009.
[64] Фигура и функции Ангела в религиозных и мистических традициях (в первую очередь, в иранском шиизме, суфизме, Ишраке и зороастризме) обстоятельно изучена в трудах Анри Корбена, уделявшего этой теме и градуальной системе оппозиций в целом огромное внимание. К этому же относится и приоритетный интерес Корбена к mundus imaginalis, «промежуточному миру», «малакут», являющегося главной инстанцией в большинстве мистических и инициатических доктрин. См. например: Corbin H. L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi. Paris: Flammarion, 1958.
[65] Corbin H. Avicenne et le récit visionnaire. Paris: Verdier, 1999.
[66] Пропп В.Я. Русский героический эпос. Лабиринт, 2006. См.: также Дугин А. Этносоциология. М.: Академический проект, 2011.
[67] Дугин А. Социология воображения.
[68] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия Другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
[69] Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1986.
[70] Важнейшее понятие платонизма, описывающее момент соприкосновения с Логосом. Появляется в диалоге Платона «Парменид».
[71] Латинский эквивалент этого понятия «manere», откуда «имманентный», «имманентность», т. е. дословно «постоянно остающийся в».
[72] Св. Максим Исповедник пользуется термином «αντιστροφή». Слово «στροφή» означает «перевод», «поворот», «изгиб».
[73] May G. Schopfung aus Nichts: die Entstehung der Lehre von der ceratio ex nihilo. Berlin-NY: de Gruyter, 1978; Whittaker J. ‘Basilides on the Ineffability of God’, Harv. Theol. Rev. 62 (1969). Р. 367–371.
[74] Ιππόλυτος (Hippolytus). Φιλοσοφούμενα ή κατά πασών αιρέεων έλεγχος. (Philosophumena sive omnium haeresium refutation).
[75] Йонас Г. Гностицизм (гностическая религия). СПб.: Лань, 1998.
[76] Деяния Вселенских Соборов. Изд. в русск. пер. при Казанской Духовной Академии. Казань, 1875.
[77] Лосев А.Ф. Очерки Античного символизма и мифологии.
[78] Успенский Ф. Синодик в неделю Православия. Сводный текст с приложениями. Одесса, 1893.
[79] Лосев А.Ф. Очерки Античного символизма и мифологии. М.: Мысль, 1993.
[80] Там же.
[81] Лосев А.Ф. Очерки Античного символизма и мифологии.
[82] Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение. М.: Алетейа; Энигма, 1999; Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
[83] «Зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения». Блаженный Августин. Исповедь, книга 3, 7:36. М., 1992.
[84] Ириней Лионский. Творения. М.: Паломник; Благовест, 1996.
[85] Афанасий Александрийский. Творения. Слово о Воплощении. 54. М., 1851–1854.
[86] Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. М., 1991.
[87] Плотин. Эннеады. К.: УЦИММ-ПРЕСС, 1995–1996.
[88] Творенiя иже во святыхъ отца нашего Василiя Великаго, Архiепископа Кесарiи Каппадокiйскiя. Томъ II. СПб.: Книгоиздательство П.П. Сойкина, 1911.
[89] Cheetham T. Corbin & Platonism. [http://henrycorbinproject. blogspot. com/2009/02/corbin-platonism. html]
[90] Corbin H. Le livre du Glorieux de Jabir ibn Hayyan//Eranos Jahrbuch, 1950.
[91] Корбен А. История исламской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
[92] Там же.
[93] Там же.
[94] Corbin H. L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi. P.: Flammarion, 1958.
[95] Ibidem.
[96] Corbin H. L’imagination creatrice et priere creatrice dans le soufisme d’ibn Arabi // Eranos Jahrbuch, 1956. С. 142.
[97] Chittik W.С. Wahdat al-Wujud in India / Ишрак № 3, 2012.
[98] Али, Хасан, Хусейн, Али Зайнул-Абидин, Муххамад Бакир, Джафр Садык, Исмаил (он же Ка’им, Воскреситель).
[99] Али, Хасан, Хусейн, Али Зайнул-Абидин, Муххамад Бакир, Джафр Садык, Муса Казем, Али Реза, Мухаммад Таки, Али Наки, Хасан Аскари и Мухаммад аль-Махди (Воскреситель, Вождь, Доказательство Бога, Ожидаемый).
[100] Corbin H. L’imam caché et la rénovation de l’homme en théologie shi’ite/Eranos Jahrbuch, 1959.
[101] Хизр, Khidr, дословно «зеленый», классическая фигура суфийской инициации, загадочный наставник Мусы, о котором иносказательно говорится в «Коране». Отождествляется с Илией, играющем аналогичную роль в инициациях каббалистов.
[102] Sohravardi L’Archange Empourpré. P.: Fayard, 1976.
[103] Толкование по аналогии, аллегореза, символизм.
[104] Утверждение абсолютной единственности Бога, отказ в наличии у него каких-либо атрибутов.
[105] Corbin H. Quiétude et inquiétude de l’âme dans le soufisme de Rûzbehân Baqlî de Shîrâz //Eranos Jahrbuch, 1958. P. 61.
[106] Corbin H. Quiétude et inquiétude de l’âme dans le soufisme de Rûzbehân Baqlî de Shîrâz. Op. cit. C. 85.
[107] Ibid. С. 104.
[108] Scholem G. Origins of the Kabbalah. Princeton: JPS and Princeton University Press, 1987.
[109] Scholem G. Kabbalah. Jerusalem: Keter Printing House, 1974.
[110] Scholem G. Redemtion through the sin/Scholem G. Messianic idea in Judaism. NY: Schoken Books, 1995.
[111] Sedgwick M. Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press, 2004.
[112] Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997; Она же. Розенкрейцеровское Просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999; Она же. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
[113] Alleau R. De Marx à Guénon: d’une critique «radicale» à une critique «principielle» des societés modernes // Les dossiers H. Paris, 1984.
[114] Некоторые аспекты затронуты в: Дугин А. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009.
[115] Corbin H. Le paradoxe du monothéisme. Paris, 1981.
[116] Фестюжьер А-Ж. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб: Наука, 2009.
[117] Порфирий упоминает, что на этом месте уже был когда-то разрушенный в его время город философов, который некоторые идентифицируют как остатки поселения пифагорейцев, а другие видят в нем намеки на школу, основанную Цицероном.
[118] Неплохой обзорной работой является книга: O’Meara D.J. Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity. Oxford: Clarendon Press, 2003.
[119] O’Meara D.J. Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity. Op. cit. P. 83–84.
[120] Платон. Собрание сочинений. Т. 3. М: Мысль, 1994. С. 138–139.
[121] Платон. Собрание сочинений. Т. 3. Часть 2. СПб: Санкт-Петербург, 2007. С. 31.
[122] Там же. С. 184.
[123] Там же. С. 184–185.
[124] Платон. Собрание сочинений. Т. 3. Часть 2. С. 29.
[125] Dumezil G. Mythe et epopee I.II. III. P.: Quarto Gallimard, 1995.
[126] O’Meara D.J. Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity.
[127] Proclus. Platonis Rem publicam commentarii. Lipsea: Teubner, 1901.
[128] Proclus. Commentaire sur le Timee, traduction et notes par A. J. Festugiere, avec le concours de Ch. Mugler et de A. Ph. Segonds. P.: Vrin, 1966–1968, 5 vol.
[129] В политической истории Нового времени это соответствует социальной демократии, социализму и, отчасти, коммунизму.
[130] В политической истории Нового времени это соответствует либеральной демократии или анархизму.
[131] O’Meara D.J. Platonopolis. Platonic Political Philosophy in Late Antiquity. С. 141.
[132] Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского. Ч. 3–5. Киев: Типография И.И. Чолокова, 1905–1910.
[133] Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М.: Labarum. 1998.
[134] Там же.
[135] Иоанн Златоустый. Беседы на Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам.
[136] Творения блаженного Августина, епископа Иппонийского. Ч. 3–5. Гл. V.
[137] Там же.
[138] Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. Алма-Ата, 1973.
[139] Scholem G. The messianic idea in Judaism. NY: Schoken books, 1995.
[140] В данной главе ссылки даны на перевод Г. Шпета по изданию: Гегель. Феноменология Духа / Гегель. Сочинения. Т. IV. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959.
[141] Кереньи К. Дионис. М.: Ладомир, 2007.
[142] Гегель. Феноменология Духа. С. 24–25.
[143] Гегель. Феноменология Духа. С. 57–58.
[144] Гегель. Феноменология Духа. С. 17.
[145] Гегель. Феноменология Духа. С. 17.
[146] Гегель. Феноменология Духа. С. 97.
[147] Фрагмент 53 по Diels–Kranz. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1959.
[148] Гегель. Феноменология Духа. С. 102.
[149] Фрагмент 62 по Diels–Kranz. Op. cit.
[150] Гегель. Феноменология Духа. С. 103.
[151] Джованни Джентиле. Введение в философию / Пер. с итал., вступ. статья, коммент., указатель А.Л. Зорина. СПб.: Алетейя, 2000.
[152] Гегель. Феноменология Духа. Указ. соч. стр. 259.
[153] Гегель. Феноменология Духа. С. 241–242.
[154] Гегель. Феноменология Духа. С. 187–188
[155] Гегель. Феноменология Духа. С. 188.
[156] Там же. С. 189.
[157] Там же. С. 200.
[158] Там же. С. 237.
[159] Там же. С. 237.
[160] Там же. С. 262.
[161] Там же. С. 269–270
[162] Там же. С. 297.
[163] Там же. С. 272
[164] Там же. С. 276–277.
[165] Там же. С. 279.
[166] Там же. С. 280.
[167] Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2006.
[168] Гегель. Феноменология Духа. Указ. соч. Стр. 280–281. В тексте цитата из Дидро «Племяник Рамо».
[169] Там же. С. 281.
[170] Там же. С. 282.
[171] Шмитт К. Планетарная напряженность между Востоком и Западом / Дугин А. Основы Геополитики. М.: Арктогея-Центр, 2001.
[172] См.: Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия Другого Начала. М.: Академический Проект, 2010.
[173] См. Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009; Он же. Постфилософия. М.: Евразийское Движение, 2009; Сперанская Н. На Пути к Новой метафизике. М.: Евразийское Движение, 2012.
[174] Гегель. Феноменология Духа. С. 73.
[175] Karl H. Potter (ed.), Advaita Vedanta up to Sankara and his Pupils: Encyclopedia of Indian Philosophies, vol. 3. Princeton: Princeton University Press, 1981.
[176] Avallon A. Shakti and Shakta. Essays and Adresses on the Tantra Shastra. Madras: Ganesh & Co, 1917.
[177] Guénon R. L'homme et son devenir selon le vêdânta. P.: Chaocrnac, 1936.
[178] Evola J. Cavalcare la Tigre. Milano: Vanni Scheiwiller, 1971.
[179] Avallon A. The Serpent Power. London: Luzak & Co, 1919.
[180] Gonda J. Four studies in the language of the Veda. Delhi: Disputationes Rheno-Traiectinae. 1959.
[181] Хотя иногда его интерпретируют как «не-это» («ma» — не и «ya» — это).
[182] Гегель. Феноменология Духа. С. 75.
[183] О связях Гегеля с эзотерическими организациями см.: Hondt Jacques d'. Hegel secret. Recherches sur les sources cachées de la pensée de Hegel. Paris: Epiméthée, l968. Magee G.A. Hegel and the Hermetic Tradition. Ithaca and London, 2001; Idem. Hegel and Mysticism// The CambridgeCompanion to Hegel and 19th Century Philosophy, ed. F.C. Beiser. CUP, 2008.
[184] Гегель. Феноменология Духа. С. 77.
[185] Гегель. Феноменология Духа. С. 79.
[186] Hopkins J. Mountain Doctrine: Tibet’s Fundamental Treatise on Other-Emptiness and the Buddha Matrix. London: Snow Lion, 2006.
[187] Oldmeadow H. Traditionalism and the Sophia Perennis //Journeys East: 20th Century Western Encounters with Eastern Religious Traditions. NY:World Wosdom, 2004.
[188] Heiser J.D. Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century. L: Repristination Press, 2011.
[189] Гегель. Феноменология Духа. С. 87.
[190] Гегель. Феноменология Духа. С. 88.
[191] Гегель. Феноменология Духа. С. 89.
[192] Гегель. Феноменология Духа. С. 92
[193] Мы опираемся в этой работе на издание трудов Шеллинга: Schelling F.W.J. Sämmtliche Werke. 12 Bande. Munich: Beck, 1927–1954.
[194] Day J. Voegelin, Schelling, and the Philosophy of Historical Existence. Columbia; London: University of Missouri Press, 2003.
[195] Heidegger M. Schelling’s Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1971. Мы пользовались находящимся под рукой англий-ским переводом: Heidegger M. Schelling's Treatise on the Essence of Human Freedom. Athens, Ohio, London: Ohio University Press, 1985.
[196] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала. М.: Академический проект, 2010.
[197] Corbin H. Alone with Alone. Princeton: Princeton University Press, 1997. P. 112–113.
[198] Heidegger M. Schelling’s Treatise on the Essence of Human Freedom.
[199] Heidegger M. Schelling’s Treatise on the Essence of Human Freedom. С. 157.
[200] Corbin H. La Place de Mollâ Ṣadrâ Shîrâzî (OB. 1050/1640) dans la philosophie iranienne // Studia Islamica, No. 18 (1963). pp. 81–113.
[201] Шеллинг. Философия Откровения. Т. 1. СПб.: Наука, 2000. С. 467.
[202] Там же. С. 469.
[203] См.: Дугин А. Сатана и проблема предшествования // Дугин А. Философия традиционализма. М.: Арктогея, 2002.
[204] Шеллинг. Философия Откровения. Т. 1. С. 507.
[205] Там же.
[206] Безумие и его Бог / Сост. Е. Головин. М.: Эннеагон Пресс, 2007.
[207] Шеллинг. Философия Откровения. Т. 1. С. 370–372.
[208] Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999.
[209] См.: Дугин А. Философия Традиционализма. М.: Арктогея, 2002; Он же. Метафизика Благой Вести // Дугин А. Абсолютная Родина. М.: Арктогея-центр, 1998.
[210] Шеллинг. Философия Откровения. Т. 1. С. 362.
[211] Шеллинг. Философия Откровения. Т. 1. С. 345.
[212] Там же.
[213] Там же. С. 361.
[214] Там же. С. 362–363.
[215] Там же. С. 365–366.
[216] Первая причина — предначальная, αἰτία προκταταρκτική, соответствует A=В. Вторая причина — демиургическая, αἰτία δημιουργική, соответствует Сыну, А2.
[217] Третья причина — завершающая/инициатическая, αἰτία τελειωτική, есть А3.
[218] Русские слова «огород» и «город» восходит к тому же индоевропейскому корню и к той же семантической цепочке.
[219] Шеллинг. Философия Откровения. Т. 1. С. 423–424.
[220] Там же. С. 425.
[221] Heidegger M. Schelling’s Treatise on the Essence of Human Freedom. C. 119.
[222] Ibid. С. 429
[223] Seidel G.J. Heidegger’s Last God and the Schelling Connection// Laval théologique et philosophique. V. 55. № 1. 1999. Р. 85–98.
[224] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала.
[225] Heidegger M. Schelling’s Treatise on the Essence of Human Freedom. С. 105.
[226] См. проблематику «диурна» в топике режимов воображения Ж. Дюрана. Дугин А.Г. Социология воображения. М.: Академический проект, 2010.
[227] Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Издательство Логос, 1997.
[228] Gutzwiller Martin. Chaos in Classical and Quantum Mechanics. New York: Springer– Verlag, 1990.
[229] См.: Proclus. Commentaire sur le Timee. Par A.J. Festugiere. t. I. P.:Vrin, 1966.
[230] Guenon René. Les principes du calcul infinitésimal. Paris, Gallimard, 1946.
[231] Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко.
[232] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала. М.:
[233] Heidegger M. Sein und Zeit. Erstes Kapitel §§ 46–53. Tübingen: Niemeyer, 1952.
[234] Синтема, σύνθεμα, технический термин неоплатонической философии, означающий одновременно символ и синтез, соединение в одно двух разноуровневых вещей или явлений.
[235] Дугин А.Г. Социология воображения.
[236] Heidegger M. Beiträge zur Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003.
[237] Heidegger M. Geschichte des Seyns. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1998.
[238] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии.
[239] Там же.
[240] О «диайрезисе» и режиме «диурна», являющихся отличительными признаками работы Логоса, см.: Дугин А. Социология воображения.
[241] Durand G. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris: P.U.F., 1960.
[242] Ibidem.
[243] Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург:
У– Фактория, 2007.
[244] Таково же изначальное значение греческого φύσειν, откуда φύσις, природа.
[245] Fink E. Spiel als Weltsymbol. Stuttgart, 1960.
[246] White D.G. (ed.). Tantra in Practice. Princeton: Princeton University Press, 2000.
[247] Dellios R. Mandala: from sacred origins to sovereign affairs in traditional Southeast Asia. Sidney: Bond University Australia, 2110.
[248] Дугин А.Г. Имманентная революция Тантры // Милый Ангел. 1994. № 2.
[249] Guénon R. Le règne de la quantité et les signes des temps. P.:Gallimard, 1945.
[250] См.: Мамлеев Ю. Судьба бытия // Unio mistica. М., Терра, 1997; Джемаль Г. Ориентация Север // Джемаль Г. Революция пророков. М.:Ультракультура, 2003; Головин Е. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-Центр, 2003; Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009; Он же. Философия традиционализма. М.: Арктогея, 2002; Он же. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009.
[251] Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль.
[252] Дугин А. Постфилософия.
[253] Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. С. 160.
[254] Обычно выделяют 13 направлений японского буддизма: 1) Хоссо-сю (яп. 法fl”宗) — философская школа традиции йогачаров, появилась в период Нара; 2) Кэгон-сю (яп. 華厳宗) — философская школа, рассматривающая мир феноменов как единое целое, происходит от одноимённой китайской школы Хуаянь, появилась в период Нара; 3) Риссю (яп. 律宗) — монашеская школа винаи, появилась в период Нара; 4) Сингон-сю (яп. 真言宗) — тантрическая школаж 5) Риндзай-сю (яп. 臨済宗) — самая старая дзэнская школа, особенно популярная среди самураев, делится на множество подшкол; 6) Сото-сю (яп. 曹‘吝Û) — дзэнская школа, популярная среди широких масс; 7) Обаку-сю (яп. 黄檗宗) — синкретическая школа, сочетающая дзэн и амидаизм; 8) Тэндай-сю (яп. 天台宗) — синкретическая школа, переводится как «опора небес», долгое время лидирующая при дворе, известная также участием в бурных вооружённых конфликтах, сочетающая элементы многих учений и элементы тантризма, дала начало амидаистским школам и Нитирэн-сю; 9) Юдзу-нэмбуцу-сю (яп. 融通“仏뤘Û) — амидаисткая школа, выросшая из Тэндай-сю; 10) Дзёдо-сю (яп. 浄土宗) — самая старая амидаистская школа; 11) Дзёдо-синсю- (яп. 浄土真宗) — наиболее популярная амидаистская школа; 12) Дзисю (яп. 時宗) — амидаистская школа, выросшая из Дзёдо-сю; 13) Нитирэн-сю (яп. 日蓮宗) — школа Лотосовой Сутры, выросшая из Тэндай-сю, очень социально активная, разделённая на много подшкол.
[255] Фестюжьер Ж.-А. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб: Наука, 2009.
[256] Suzuki. An Introduction to Zen Buddhism. Kyoto: Eastern Buddhist Soc., 1934; Idem. The Zen Doctrine of No-Mind. London: Rider & Company, 1949; Idem. Manual of Zen Buddhism. Kyoto: Eastern Buddhist Soc. 1934; Idem. Essays in Zen Buddhism: First Series. New York: Grove Press, 1927; Idem. Essays in Zen Buddhism: Second Series. New York: Samuel Weiser, Inc., 1933; Idem. Essays in Zen Buddhism: Third Series. York Beach, Maine: Samuel Weiser, Inc., 1934.
[257] Nishida K. Last Writings: Nothingness and the Religious Worldview. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987; Idem. Intelligibility and the Philosophy of Nothingness. Honolulu: East-West Center Press, 1958.
[258] Nishida K. Intelligibility and the Philosophy of Nothingness. Honolulu: East-West Center Press, 1958. С. 137.
[259] Nishida K. A religious view of the world // Japanese Philosophy. A sourcebook. Ed. by Heisig W., Kasulis Th., Maraldo J. Honolulu: University of Hawai’I Press, 2011. P. 662.
[260] Ibidem.
[261] Ibidem
[262] Nishida K. A religious view of the world. Op. cit. P. 663.
[263] Ibidem. P. 666.
[264] Ibidem. P. 667.
[265] Ibidem. P. 667.
[266] Ibidem. P. 667.
[267] Heisig J.W. Philosophers of Nothingness: An Essay on the Kyoto School. Honolulu: University of Hawaii Press, 2001. С. 121.
[268] Tanabe H. Philosophy as Metanoetics. Berkeley: University of California Press, 1986.
[269] Nishitani K. The self-overcoming of nihilism. Albany: SUNY Press, 1990.
[270] Nishitani K. Kongen-teki shutaisei no tetsugaku. (The philosophy of Radical Subjectivity). Kyoto, 1938.
[271] Ibidem.
[272] Здесь можно вспомнить коан про монахиню Чийино, уронившую ведро, из которого вылетело дно.
[273] Nishitani Keiji chosakushû [Collected Works of Nishitani Keiji], Tokyo: Sôbunsha, 1986–95. V. XI, C. 243.
[274] См.: Дугин А. Радикальный субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009.
[275] Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское Движение, 2009.
[276] «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни». (Марк 13:20)
[277] Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль.
[278] Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи. М.: Изд. группа «Прогресс» «Бестселлер», 1994.
[279] «А имя Уран, так же, как Урания, прекрасно выражает "взгляд вверх", который Гермоген, по словам людей, изучающих небесные явления, сохраняет в чистоте человеческий ум. По небу и дано правильно имя Урану». Платон. Кратил // Платон. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Мысль, 1994.
[280] Дугин А. Anima stante et non cadente // Эвола Ю. Абстрактное искусство. М.: Евразийское Движение, 2012.
[281] Evola J. Cavalcare la tigre. Milano: Scheiwiller, 1961.
[282] Ibidem.
[283] «Но однажды, в пору более сильную, нежели эта трухлявая, сомневающаяся в себе современность, он-таки придет, человек-искупитель, человек великой любви и презрения, зиждительный дух, чья насущная сила вечно гонит его из всякой посторонности и поту-сторонности, чье одиночество превратно толкуется людьми, словно оно было бы бегством от действительности — тогда как оно есть лишь погружение, захоронение, запропащение в действительность, дабы, выйдя снова на свет, он принес бы с собой искупление этой дей-ствительности: искупление проклятия, наложенного на нее прежним идеалом. Этот человек будущего, который избавит нас как от прежнего идеала, так и от того, что должно было вырасти из него, от великого отвращения, от воли к Ничто, от нигилизма, этот бой полуден-ного часа и великого решения, наново освобождающий волю, возвращающий земле ее цель, а человеку его надежду, этот антихрист и антинигилист, этот победитель Бога и Ничто — он-таки придет однажды». Ницше Ф. К генеалогии морали // Ф. Ницше. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 471.
[284] Evola J. Cavalcare la tigre.
[285] Дугин А. Anima stante et non cadente.
[286] Evola J. (a cura di). Introduzione alla Magia. Roma: Mediterranee, 1971.
[287] В современной поэзии (прежде всего у т. н. «проклятых поэтов», немецких романтиков, Ш. Бодлера, А. Рембо, С. Малларме, Лотреамона, А.Ч. Суинберна, О. Уайльда, Ф. Пессоа, Г. Тракля, Э. Паунда, Г. Бенна и у некоторых других авторов) можно встретить аллюзии на фигуру Радикального Субъекта. Это проявляется в их полном отторжении от окружающей среды, в фундаментальном неприятии «настоящего», но при этом они не призывают ни к улучшению этого мира (прогрессу), ни к возврату в прошлое (к консерватизму). Они пытаются нащупать какую-то иную позицию, не поддающуюся прямолинейному схватыванию и внятной артикуляции. Часто они говорят о ней «косноязычно» — системами сложных и мало понятных им самим образов. Но из этих фрагментов, если подойти к их герменевтике с позиций Новой Метафизики, можно вывести много фундаментальных заключений.
[288] Хайдеггер М. К чему поэты? // Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия Нового Начала.
[289] Там же.
[290] В немонотеистических традициях также можно найти определенные соответствия. Так, в индуизме сходные мотивы мы можем обнаружить в некоторых направлениях тантрического шиваизма — например, в кругах капаликов и агхори, а также в теориях кашмирских абхеда-шайва. Истории об агхори и их практиках (ночевки на кладбищах, поедание человеческих трупов, общение с низшими демонами и т. д.) подчеркивают состояния радикальных аскетов, нисходящих ко дну проявления для демонстрации полной бесстрастности и непричастности ни к чему высшего Начала (Шивы или его Шакти), которое они реализовали в себе, с которым полностью отождествились. Здесь уместно привести высказывание: «чистому все чисто». См.: Послание святого апостола Павла к Титу (1:15).
[291] Сохраварди Ш.Я. Пурпурный Архангел // Милый Ангел. № 2. М., 1995.
[292] Образ Илии-посвятителя поэтически описан в романе Г. Майринка «Зеленый лик» (Густав Майринк. Зеленый лик. Майстер Леонгард. М.: Энигма, 2004). Ю. Эвола высоко ценил книги Майринка, тогда как Рене Генон полагал, что в этом романе происходит «контр-инициатическое» смешение позитивной фигуры ортодоксального эзотеризма Илии с негативной фигурой «вечного жида». В принципе, указанная Геноном двусмысленность характерна для всей серии рискованных сюжетов, так или иначе связанных с фигурой Радикального Субъекта. По этому поводу подробнее см.: Дугин А. Радикальный Субъект и его дубль.
[293] Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-центр, 2003.
[294] Головин Е.В. Веселая наука (протоколы совещаний). М.: Эннеагон, 2006.
[295] Головин Е.В. Серебряная рапсодия. М.: Эннеагон Пресс, 2008.
[296] Головин Е.В. Мифомания. СПб.: Амфора, 2010.
[297] Головин Е.В. Там. СПб.: Амфора, 2011.
[298] Головин Е.В. Туманы черных лилий. М.: Эннеагон Пресс, 2007.
[299] Головин Е.В. Сумрачный каприз. М.: Эннеагон Пресс, 2008.
[300] Все эти материалы собраны на сайте Фонда Е. Головина и находятся в открытом доступе. http://golovinfond.ru
[301] Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008.
[302] Головин Е.В. Артюр Рембо и неоплатоническая традиция / Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. С. 309.
[303] Там же. С. 310.
[304] Там же.
[305] Е. Головин придерживался порядка гипотез, на котором настаивал А. Лосев и который состоял из 8 гипотез — первые четыре относились к утвержденному единому, вторые четыре — ко многому.
[306] Головин Е.В. Человек и люди // Элементы. 1996. № 8.
[307] Головин Е.В. Мир сдается под ключ // Вторжение, 1999.
[308] Это термин Головин понимает радикально иначе, нежели А. Бергсон и тем более К. Поппер, т. к. неоплатоническая, аристократическая и антипрогрессистская философия Головина не имеет ничего общего с либерализмом Поппера, равно как и с эгалитаристской «горизонтальной» мистикой эволюциониста Бергсона.
[309] Головин Е.В. Человек и люди. С. 85.
[310] Головин Е.В. Проблема восхода солнца / Головин Е.В. Веселая наука. С. 179–195.
[311] Головин Е.В. Чеснок доблестный воитель / Вербена. № 3, 2002.
[312] Головин Е.В. Зверобой неприметный и неизвестный / Вербена. № 2, 2001.
[313] Головин Е.В. Калина: бешенство любви и смерти / Головин Е.В. Мифомания. С. 244–255.
[314] Головин Е.В. Мак / Завтра. № 40 (776), 2008.
[315] Головин Е.В. Камень. [http://golovinfond.ru/content/kamen].
[316] Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. С. 17–32.
[317] Riviera Cesare Della. Il mondo magico degli heroi. Roma: Edizioni Mediterranee, 1986.
[318] Головин Е.В. Запад как предвестие Востока / Головин Е.В. Веселая наука (протоколы совещаний). С. 167.
[319] Bachelard G. La psychanalyse du feu. P.: Gallimard,1988.
[320] Головин Е.В.. Утопленник // Головин Е.В. Сумрачный каприз. C. 24.
[321] Головин Е.В. Дионис-2 (лекция в Новом Университете). [http://golovinfond.ru/content/dionis–2]
[322] Головин Е.В. Трехстопный анапест // Головин Е.В. Туманы черных лилий. С. 21.
[323] Головин Е.В. Учитесь плавать / Головин Е.В. Сумрачный каприз. С. 15.
[324] Намек на то, что находится на дальнем пределе «философского плавания», на том конце режима воды, дан в известной песне Евгения Головина, насыщенной символизмом философского золота в сочетании с разнообразными водными мотивами:
«Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо.
И всего только надо
Опустить паруса.
Здесь мы в блаженной истоме утонем;
Подставляя ладони
Золотому дождю».
Головин Е.В. Голубой Эльдорадо // Головин Е.В. Сумрачный каприз. С. 16.
[325] Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение. М.: Алетейа, Энигма, 1999.
[326] Corbin H. L'Alchimie Comme Art Hieratique. P.: Herne, 1986.
[327] Неоплатоники использовали термин «синтема», σύνθημα, — «сочетание; нечто, состоящее из двух и более разноуровневых элементов, сведенных в одно» — в том смысле, в каком позднее стал использоваться термин «символ», σύμβολον.
[328] См. Дугин А. Социология воображения. М.: Академический проект, 2010. В этой работе разбираются соотношения между риторическими фигурами речи и режимами воображения на основании теорий Ж. Дюрана.
[329] Головин Е. Артюр Рембо и открытая герметика (две гипотезы) // Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. С. 277–305.
[330] Сочетание «открытая герметика» есть аллюзия на то, что само понятие «герметизм» стало означать «скрытый», «закрытый», «тайный», «недоступный», т. е. нечто прямо противоположное «открытости». В этом же смысле следует понимать название книги известного алхимического автора Иренея Филалета «Открытый вход в закрытый дворец короля», обращаться к которому очень любил Головин. Philalethes Eirenaeus. Introitus Apertus ad Occlusum Regis Palatium // Manget J.J. Bibliotlieca chemica curiosa. Geneva, 1702.
[331] Sohravardî Shihâboddîn Yahyâ. L’Archange empourpré. P.: Fayard, 1976.
[332] Нежели география физическая, политическая, экономическая. В одном разговоре Головин заметил, что магическая география отличается и от сакральной, пояснив, что сакральная география имеет дело с сакральными смыслами и сакральными центрами, которые можно фиксировать на географической карте и встретить в реальном мире, а континенты, моря и острова магической географии — нет.
[333] Головин Е. О магической географии // Головин Е.В. Мифомания. С. 84.
[334] Головин Е. Север и юг // Головин Е.В. Веселая наука (протоколы совещаний). С. 161.
[335] Головин Е.В. О магической географии. С. 84–85.
[336] Там же. С. 93. Фрагмент стихотворения Ж. де Нерваля в переводе Головина.
[337] Головин Е.В. Антарктида синоним бездны. Об Эдгаре По. [http://golovinfond.ru/content/antarktida-sinonim-bezdny-ob-epo]
[338] Philalethes Eirenaeus. Introitus Apertus ad Occlusum Regis Palatium.
[339] Головин Е. Север и юг. С. 160.
[340] Головин приводит пример: В «Путешествии капитана Гаттераса» Жюля Верна, одержимый полюсом герой и его спутники потрясены неистовой жизнью «свободного моря» восьмидесятых широт: «Какая красота, какое разнообразие, какая неистощимая производительность природы! Как удивительно было видеть все это так близко от полюса!» И далее: «Мириады черных, белых, желтых, радужных птиц совершенно затмили небо и осветили море сиянием крыльев». Головин Е. Север и Юг. С. 160–161.
[341] Ницше Ф. Песни Заратустры. Веселая наука. СПб: Азбука, 1997.
[342] Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. М.: Фонд исследований исламской культуры, 2009.
[343] Так называется программная философская работа другого участника Московской школы Новой метафизики Гейдара Джемаля. Джемаль Г. Ориентация — Север / Джемаль Г. Революция пророков. М.: Ультракультура, 2003.
[344] Головин Е.В. Антарктида синоним бездны. Об Эдгаре По.
[345] Там же.
[346] Там же.
[347] Guénon R. Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps. Paris: Gallimard, 1945.
[348] «Вдали от зодиака как злая лесбиянка раскинулась нагая Антарктида». Головин Е.В. Антарктида / Головин Е.В. Сумрачный каприз. С. 23.
[349] Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом / Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
[350] Heidegger M. Schelling’s Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1971.
[351] Немецкий историк цивилизаций и культур Лео Фробениус считал, что такая «захваченность» (Ergriffenheit) является самым важным и изначальным моментом развития культуры (пайдеумы). Frobenius Leo. Probleme der Kultur. 4 B. Berlin: Dümmler, 1899–1901.
[352] Головин Е.В. Дионис-1 (лекция в Новом Университете). [http://golovinfond.ru/content/dionis–1]
[353] Леви-Стросс. К. Мифологики. 4 т. М.: ИД «Флюид», 2006–2007.
[354] Башляр Г. Грезы о воздухе М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999; Он же. Вода и грезы. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998; Он же. Психоанализ огня. Психоанализ огня. М.: Прогресс, 1993.; Он же. Земля и грезы о покое. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2001; Он же. Земля и грезы воли. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2000.
[355] В беседе «О поэзии Ницше» Головин говорит, ссылаясь на Ф. Отто: «…вся беда антич-ников, в свое время накинувшихся на Ницше, и вообще всех европейских мифологов, в том, что они сами не верят в богов… поэтому они, собственно, и не в праве о них писать. Ничего, кроме атеистических книжонок на эту тему, у них не получится. Это дей-ствительно важное обвинение, поскольку почти все известные нам книги по мифологии (египетской, греческой, тюркской) написаны людьми, которые не верят в богов». http://golovinfond.ru/content/o-poezii-nicshe. Из контекста явно следует, что сам Головин к таким людям не относится.
[356] Головин Е. Дионисийские разнообразия // Головин Е.В. Веселая наука (протоколы совещаний). С. 233.
[357] Головин Е. Диана // Головин Е.В. Приближение к Снежной Королеве. С. 83.
[358] Там же.
[359] Головин Е.В. Хаос и Афродита / Головин Е.В. Мифомания. С. 289–290.
[360] Головин Е.В.. Медуза Cianea Floris // Головин Е.В. Веселая наука (протоколы совещаний). С. 109.
[361] Там же. С. 128.
[362] Головин Е.В. Хаос и Афродита. С. 296.
[363] Там же. С. 293.
[364] Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes // Heidegger M. Holzwege. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1963.
[365] Op. cit.
[366] Фридрих Г. Структура современной лирики: От Бодлера до середины двадцатого столетия / Пер. с нем. и коммент. Е. В. Головина. М.: Языки славянских культур, 2010.
[367] Головин Е. Новая лирика. Мера и путь вопроса // Фридрих Г. Структура современной лирики.
[368] Там же.
[369] Там же.
[370] Там же.
[371] Там же.
[372] Дугин А.Г. Радикальный Субъект и его дубль. М.: Евразийское движение, 2009.
[373] Heidegger M. Holzwege. Op. cit.
[374] Генон Р. Кризис современного мира. М.: Арктогея, 1991.
[375] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie (Vom Eraignis). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2003.
[376] Heidegger M. Sein und Zeit (1927). Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2006.
[377] Дугин А. Мартин Хайдеггер: Философия другого Начала.
[378] Дугин А. Мартин Хайдеггер: Философия Другого Начала.
[379] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 27.
[380] Дугин А. Мартин Хайдеггер: Философия другого Начала.
[381] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 78–80.
[382] «Умолчание проистекает из бытийного истока самого языка». Ibidem. S. 79.
[383] См. также: The Later Heidegger and Theology. Edited by James M. Robinson and John B. Cobb, Jr. New York: Harper & Row, 1963.
[384] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 43.
[385] Ibidem. S. 90–91.
[386] Дугин А. Мартин Хайдеггер: Философия другого Начала.
[387] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 139.
[388] Ibidem. S. 397.
[389] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 120.
[390] Ibidem. S. 263.
[391] Ibidem. S. 140–141.
[392] Ibidem. S. 141.
[393] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 171.
[394] Ibidem. S. 185.
[395] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 228–229.
[396] Ibidem. S. 237.
[397] Ibidem. S. 239.
[398] «Яко Ты Господь вышний над всею землею, зело превознеслся еси над всеми боги» (Пс. 96:9). «Бог ста в сонме богов, посреде же боги разсудит». (Пс. 81:1)
[399] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 244.
[400] Ibidem. S. 224.
[401] Это выражение состоит из трех слов Zeit, время, Spiel, игра и Raum, пространство. При этом составное слово Spielraum означает «пространство для маневра», «сцена», а Zeitraum — «промежуток времени». Эти три корня могут поэтому собираться различно: например, «время на сцене» или «сцена для времени»; еще — «время, выделенное для игры», «акт»; наконец, «акт, разыгрываемый на сцене». На русский язык это вообще невозможно никак перевести, чтобы передать немецкую игру слов хотя бы в самом общем приближении.
[402] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 245.
[403] Ibidem. S. 249.
[404] Хайдеггер в 1930-е годы поддерживал тесные связи с японскими философами, глубоко знакомыми с дзэн-буддизмом. Так его учеником был один из главных представителей Киотской школы Кэйдзи Ниситани, который неоднократно посещал Хайдеггера у него дома и обстоятельно информировал его о философии дзэн-буддизма.
[405] Suzuki Daisetsu. The logic of affirmation-in-negation // Japanese Philosophy. A source book. Honolulu:University of Hawai'I Press, 2011. S. 215.
[406] Suzuki Daisetsu. The leap across to other-power. Op. cit. S. 219.
[407] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 243.
[408] Ibidem. S. 293.
[409] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 263.
[410] Ibidem. S. 300.
[411] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 303.
[412] Ibidem. S. 318.
[413] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 319.
[414] Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала.
[415] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 279.
[416] «Эта Европа, в чудовищном ослеплении, в вечном прыжке, готовясь заколоть саму себя, сегодня находится в гигантских клещах между Россией, с одной стороны, и Америкой, с другой. С метафизической точки зрения, Россия и Америка — это одно и то же; это одна и та же предательская мания раскрепощенной техники, одна и та же и беспочвенная организация «нормальных людей»», — пишет Хайдеггер в 1935 в своей программной работе «Введение в метафизику». Heidegger M. Einführung in die Metaphysik. Tübengen: Max Niemeyer Verlag, 1966. S. 28.
[417] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 397.
[418] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 416.
[419] Ibidem. S. 396.
[420] Ibidem. S. 263.
[421] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 437.
[422] Ibidem. S. 438.
[423] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 438–439.
[424] Ibidem. S. 251.
[425] Ibidem. S. 489.
[426] «Здесь не происходит спасения, т. е. по сути, унижения человека, но новое помещение изначальной сущности (Wesen) (основание Da-sein'а) в само Seyn-бытие: признание принадлежности человека к Seyn-бытию через Бога», — поясняет Хайдеггер. Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 413.
[427] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 405.
[428] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 411.
[429] Ibidem. S. 414.
[430] Ibidem. S. 417.
[431] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 510.
[432] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала; Он же. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии.
[433] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии.
[434] Heidegger and Plato. Toward Dialogue. Edited by Catalin Partenie and Tom Rockmore. Evanston Illinois: Northwestern University Press, 2005.
[435] Heidegger and Psychology. Edited by Keith Hoeller. Seattle, Washington//Review of Existential Psychology & Psychiatry, 1988.
[436] Halbfass W. On Being and What There Is. NY:SUNY Press, 1992; Mehta J.L. Heidegger and Vedanta// International Philosophical Quarterly 18 (2),1978. P. 121–149.
[437] Heidegger and Asian Thought. Edited by Graham Parkes. Honolulu: University of Hawaii Press, 1987.
[438] Дугин А. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии.
[439] См. Дугин А. Археомодерн. М.: Евразийское движение, 2010; Он же. Социология
русского общества. М.: Академический Проект, 2011; Он же. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии.
[440] Heidegger M. Beiträgе zur Philosophie. S. 413.
[441] Vernant J.-P. Les Origines de la Pensée grecque. P.:, P.U.F. 1962.
[442] Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. М.; Рефл-бук; АСТ, К.: Ваклер, 1997.
[443] Dorfer J. Vom Mythos zum Logos, Freistadt, 1914.
[444] Hildebrandt K. Platon, Logos und Mythos. Berlin,1959.
[445] Nestle W. Vom Mythos zum Logos. Stuttgart, 1942.
[446] Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000.
[447] Snell B. Gleichnis, Vergleich, Metapher, Analogie. Die Entwicklung vom mythischen zum logischen Denken/ Snell B. Die Entdeckung des Geistes. Hamburg, 1955.
[448] Kelber W. Die Logoslehre von Heraklit bis Origenes. Stuttgart, 1958.
[449] Леви-Стросс К. Мифологики: В 4 т. М.: ИД «Флюид», 2007.
[450] Durand G. Les Structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: P.U.F., 1960.
[451] Кессиди Ф. От мифа к логосу. Становление греческой философии. СПб.: Алетейя, 2003.
[452] См. также: Дугин А. Логос и мифос. М.: Академический проект, 2010; Он же. Социология воображение. М.: Академический проект, 2010, где анализируются, в частности, идеи К.Г. Юнга и Ж. Дюрана о типах и структурах мифа.
[453] Bultmann R. Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung/ Bartsch H.-W. (Hg.): Kerygma und Mythos, Band 1. Berlin, 1948.
[454] Фрагмент 32 по Diels–Kranz. Ibidem.
[455] Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 60–61.
[456] Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 117.
[457] Там же. С. 156.
[458] Ницше Ф. Ecce homo // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 694.
[459] Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 95.
[460] Там же. С. 95.
[461] Heidegger M. Being and truth. Bloomington, Indianopolis: Indiana University Press, 2010. P. 150.
[462] Дугин А. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009.
[463] Характерный эпизод рассказывает Анри Корбен о том, как он послал протестантскому теологу Карлу Барту свой перевод трактата Сохраварди «Шелест крыл Архангела Гавриила», на что тот ответил высокомерно: «натуралистская теология». Corbin H. From Heidegger to Suhravardi: An interview with Philippe Nemo. Biographical Post-Scriptum to a Philosophical Interview. [http://www. amiscorbin. com/textes/anglais/interviewnemo. htm#ps]
[464] Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М: Изд-во МГУ, 1980.
[465] Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1994.
[466] Дугин А. Социология воображения. М.: Академический проект, 2010.
[467] Кереньи К. Дионис. Прообраз неиссякаемой жизни. СПб.: Ладомир, 2007.