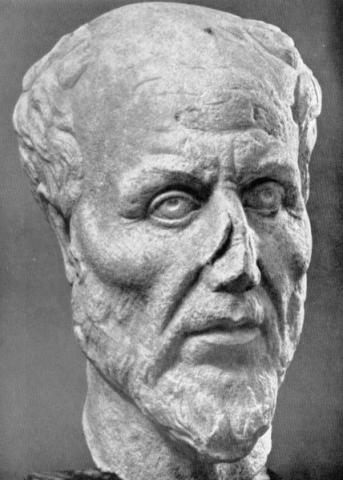
Сидаш Т.Г.
Неоплатонизм и христианство
(Раздел I)
Поскольку познавать не в последнюю очередь значит сравнивать, т. е. отождествлять и различать, постольку в качестве обобщающей работы к этому изданию мы решили опубликовать сравнительный анализ двух крупнейших богословских систем поздней античности — неоплатонизма и каппадокийского богословия, ставшего официальной доктриной Восточных Православных Церквей.
ЧАСТЬ I. Предпосылки богословия
Введение
В этой части работы мы рассмотрим некоторые вопросы, имеющие значительное богословское значение, однако же стоящие вне того, что в наши дни называется догматическим богословием. Поскольку, сравнивая систему Плотина с православной догматикой, мы стремимся достигнуть возможной полноты в понимании как сходств, так и различий этих богословских систем, мы не можем не затронуть и сопредельные с богословием области.
Само собой ясно, что за тысячу лет развития византийского богословия на одни и те же вопросы различными писателями давались различные ответы. Большая часть этих ответов восходит еще к эллинистической философской традиции, что сами эти писатели, возможно, и сознавали, но в чем, как правило, сами не сознавались. Это было обусловлено, с одной стороны, слабым (сравнительно с нашим временем) развитием исторического сознания и исторической науки в Византии, с другой стороны, идеологической невозможностью афишировать такие заимствования и связи (вспомним, что до Палеологов — последней династии византийских императоров — слово «эллинское» употреблялось главным образом как бранное, что-то вроде славянского «поганое», т. е. языческое). И наконец, в-третьих, из-за какого-то внутреннего нежелания вообще думать на эту тему, инспирированного, вероятно, страхом потери самоидентификации, страхом, так сказать, религиозного или культурного развоплощения (этот феномен следует отличать от предыдущего, ибо он свойствен и многим нашим современникам, живущим совсем в иной историко-культурной ситуации).
Итак, из всего многообразия мнений по интересующим нас вопросам, встречающихся в восточной патристике, мы старались брать наиболее характерные, наиболее часто повторяющиеся, мнения, которые можно встретить не только в старинных трактатах, но и у ныне живущих христиан.
Кроме того, чтобы избежать целого пласта ненужных здесь слов о цельном, жизненном, мистическом или опытном познании Первоначала, я сразу же должен различить термины «богословие» и «боговедение». Нет никаких сомнений в том, что последнее может явиться (а может и не явиться) итогом первого, может стать венцом всякого познания (а может выступить и его предпосылкой), что только оно в собственном смысле и вожделенно само по себе, однако — оно само, а не разговоры о нем. И потому я полностью опускаю все, что можно сказать об этом, ибо как приятна плотская любовь, но отвратительны разговоры о ней, так же и здесь. Вообще говоря, все, что по природе имеет к нам непосредственное отношение, не может обсуждаться, даже теми, к кому оно имеет это отношение; есть что-то профанное и развратное в таких разговорах, что-то ослабляющее, овнешняющее и искажающее как сам их предмет, так и отношение человека к нему. Тайны мистерий не подлежат разглашению, и в этом следует полностью согласиться с древними. Поэтому нескромны и безвкусны все многочисленные апелляции к внутреннему знанию, причастности Традиции и т. д.
Итак, богословием в собственном смысле может быть названо знание о Боге, поскольку Он нами мыслится, и только в этом смысле я и буду употреблять на протяжении статьи этот термин. Меньше всего этими словами мне хочется сказать, что богословием богопознание и ограничивается, но раз уж мы здесь занимаемся именно богословием, то будем заниматься именно им и ничем другим.
I. 1. Источники
Следует сначала разобраться в понятиях «Писание» и «Предание» — двух взаимосвязанных и взаимодополняющих источниках непротестантской христианской догматики.
Почему вообще тот или иной текст мы называем Писанием? Понятно, что все заверения о том, что Писание написано именно Св. Духом, не будут иметь силу даже для иудеев и мусульман, ибо они не принимают Того, что (лучше сказать, Кого) мы называем Св. Духом, хотя некоторые тексты признаются Писанием и у них, и у нас, христиан. Поэтому доказать, что данные тексты суть Писание, невозможно через ссылку на их источник: это не будет доказательством ни для верующих в то, что это так, ни для неверующих, ибо не является доказательством вообще, ибо неизвестное здесь пытаются познать из неизвестного, и то, что требуется доказать, доказывается исходя из того, что само требует доказательств. Точно так же дело обстоит и со ссылкой на традицию, и вообще со всеми историческими аргументами. Следовательно, либо придется предоставить вопрос о Писании вере, и в конечном счете — произволу, либо Писание является таковым в силу того, что в нем мы находим мысли, которые уже признаем истинными. Другого выхода я не вижу.
То, что дело обстоит именно так, особенно хорошо видно на примере споров о каноне священных книг и дальнейшем разделении книг в нем на канонические и учительные. Уже сам факт того, что мы называем Писанием книги, утвержденные в этом качестве церковными соборами, с ясностью указывает не на тот способ, каким отбираются эти книги, но на тот факт, что Писание не существует без Предания и даже является составной частью последнего. Мне могут возразить, что аргументация в пользу признания тех или иных книг Писанием, приводилась, в основном, историческая, от традиции, но я с этим согласен; более того, с точки зрения современной библеистики, местами это была даже ложная аргументация, так что сложившееся положение дел можно истолковывать либо в том смысле, что мы верим в ложь, потому что это ложь наших отцов, либо мы признаем этот тип аргументации лишь не-истинной формой аргументации истинной, либо же мы примыкаем к традиции библейской критики. Но как бы там ни было, в любом из этих случаев Писание называется Писанием только потому, что в нем содержится истина, а не наоборот (даже если эта истина — лишь частичная истина).
Итак, Писание существует в Предании, и в этом случае Предание есть сознание истины: все более частные и технические определения Предания (форма (устная) передачи информации, сборник авторитетных толкований к спорным местам Писания и т. п.), разумеется, редуцируются к этому определению, ибо что иное могло бы еще передаваться от поколения к поколению? Предание представляет собой сознание истины, или Бога, а не сознание культуры или самосознание нации (хотя сознание этих, как, впрочем, и всех остальных вещей имеет источником Предание, т. е. коренится в сознании истины); и все-таки Предание — величина историческая, причем именно как сознание, а не как истина (к этому сводится смысл развития догматики: сознание развивается, истина же пребывает). Поэтому тем, кто учит о двух источниках, следовало бы хорошо подумать, что именно в Предании является источником их учения. Не будем, однако, преувеличивать совершенств православной догматики: она именно такова, как сама о себе говорит, т. е. она опирается на два внешних для формируемого ею сознания источника — Писание и Предание; эти источники дополняют друг друга и, тем самым, рядополагаются, но ни о каком более глубоком понятии их взаимосвязи речь обычно не идет;истина, как правило, у наших догматистов подобна выводу из этих посылок: большей — Писания и меньшей — Предания.
Теперь, если мы посмотрим на Плотина с точки зрения источников его богословия, то мы с удивлением обнаружим полное их тождество источникам православной догматики: это также Писание и Предание. В качестве Писания здесь выступает платоновский корпус текстов, и это у Плотина уже достаточно оформившееся представление: во многих местах он говорит о платоновском тексте даже не как об источнике истины, но как о самой истине, часто цитирует древнего мыслителя с пифагорейскими интонациями «сам сказал» и т. д. Нет никаких оснований сомневаться в том, что Плотин опирался и на Предание, ибо что иное, если не олицетворение этого Предания представляет собой фигура Аммония Саккаса — Предания не только в высоком смысле сознания истины, но и в техническом смысле устной передачи информации и, скорее всего, даже набора определенных толкований? Вместе с этим нужно отметить куда более интимное и внутреннее отношение мыслителя к своим источникам (потом оно повторится у св. Григория Богослова): отсутствие внешней авторитетности отнюдь не лишает философа благоговения, и напротив, последнее не притупляет, а скорее стимулирует его мысль. Больше в этом контексте сказать о Плотине, пожалуй что, и нечего, ибо, во-первых, он был еще слишком внутри традиции, чтобы традиция выступила для него предметом рассмотрения; во-вторых, сама эта традиция была такова, что вопрос исторического преемства имел для нее едва ли сколько-нибудь важное значение: Плотин шел по пути Платона, постигал те содержания, которые описывались Платоном — этого ему, да и его окружению, вполне хватало, чтобы чувствовать и сознавать себя традиционалистом. И действительно, несмотря на значительные новации, нельзя не чувствовать духовной связи этих мыслителей; близость столь велика, что слушая Плотина, порой кажется, что слышишь еще более умудрившегося Платона.
Однако продолжим сравнение методов.
I. 2. Рассуждения об «эпинойе» у св. Василия Великого и о «диалектике» у Плотина
Итак, теория источников формально в этих теологических школах едина. Теперь спрашивается: каким образом формируются нами богословские понятия? Наиболее внятный ответ находим у св. Василия Великого в первой книге Опровержения на защитительную речь злочестивого Евномия (все цитаты будут даны по изданию: Творения св. Василия Великого. М., 1846. Т. III). Этот текст приподнимает завесу над теми гносеологическими предпосылками, которые лежат в основе каппадокийского богословия. Здесь Василий предстает перед нами как чистейшей воды эмпирик и номиналист (как ни сложно очищать от полемической накипи редкие пассажи, обладающие интересующей нас гносеологической всеобщностью, кое-что здесь добыть все-таки можно). Начнем мы с того, что «не за именами следует природа вещей, а наоборот, имена изобретены уже после вещей» (С. 66. Курсив мой. — Т. С.). Это св. Василий говорит буквально о всех вещах, никакой разницы между вещами умопостигаемыми, чувственными и божественными он не делает. Что же называют имена? Имена называют свойства, а не сущности — «имя показывает нам отличительный характер Петра, но не показывают нам его сущности» (Там же). Из этого прямо следует, что сами по себе сущности (ни чувственные, ни божественные) не познаваемы, но познаваемы лишь их свойства или энергии. (Интересно, что, если спросить у Василия Великого, какие же именно свойства называет само имя «сущность», говорим ли мы разные вещи, говоря «непознаваемое» и «сущность», и продолжать далее задавать те вопросы, которые следует задавать эмпирикам?) Каким же образом возникают имена, называющие только лишь свойства? Они возникают в результате «эпинойи» — примышления. Что же это за «примышление»? Это аналитическая деятельность рассудка, разлагающего полученный посредством чувств образ: «Когда при внезапном устремлении ума представляющееся простым и единичным, при подробнейшем исследовании оказывается разнообразным, тогда об этом множественном, удоборазделяемом мыслью, говорится, что оно удоборазделяемо одним примышлением, например, с первого взгляда кажется тело простым, но приходит на помощь разум и показывает, что оно многообразно, примышлением своим разлагая его на входящие в его состав: цвет, очертания, величину и прочее» (С. 22). Можно спросить: в данном случае, тело сложно только по примышлению или же само по себе; имеет ли эта аналитическая деятельность какой-то онтологический коррелят или является лишь «представлением»? Очевидно, онтологическим соответствием примышления являются свойства вещи, которые суть ее энергии. Но почему деятельность примышления постигает что-то объективно сущее, почему образуемые таким образом понятия не являются иллюзией, если вещь абсолютно вне субъекта и его с ней не связывает ничего, кроме чувственного восприятия, которое само по себе сомнительно? На это ответов св. Василий не дает (создается впечатление, что он не замечает разницы между анализом представления о предмете и анализом самого предмета—в этой связи его можно понять близким и буддистам, и Юму). Такой же метод познания применяется св. Василием и к Богу, и тут ситуация становится особенно напряженной, ведь если чувственный предмет дается сознанию в акте чувственного восприятия, то Бог, что очевидно, таким способом не дается. В самом деле, если энергии чувственной сущности аффицируют органы чувств, то что собственно аффицируют божественные энергии? И аффицируют ли? Эти вопросы остаются открытыми. Далее в Боге различаются, как и в чувственной вещи, непознаваемая сущность и познаваемые энергии (ни о каком паламитском мистицизме речи пока не ведется, обсуждаются чисто гносеологические вопросы); эти энергии и есть свойства, которые только мы и можем постигать, и только — примышлением. Опять же, объективно Бог сложен или только по примышлению? Вроде бы, только по примышлению, но тогда, быть может, только по примышлению Он обладает и всеми Своими энергиями? Кроме того, по примышлению или нет мы постигаем Ипостаси, и если да, то чем они отличаются от свойств или энергий? Нет ответов. Таковы сложности, свойственные не только этой, но и любой номиналистской и эмпирической мысли, пытающейся богословствовать. Нам важно здесь подчеркнуть отсутствие понятия не только об онто-гносеологических связях, но отсутствие всякой иерархии познания и познавательных способностей. Так, что и Бог, и всякая вещь мыслятся познающимися одним и тем же способом. Единственное возможное познание — эмпирическое, единственно возможное мышление — рассуждающее.
Методология Плотина, излагавшаяся им отнюдь не только в трактате О диалектике, несколько стройнее, хотя и его построения далеки от совершенства в этом «не античном» вопросе. Если позиция св. Василия Кесарийского может быть охарактеризована как абсолютизация чувственных форм познания, даже до такой степени, что и Бог выступает у него в категории чувственного предмета и анализируется точно так же, как чувственный предмет, то позиция Плотина диаметрально противоположна. Я бы побоялся назвать ее системой крайнего реализма, но то, что постижение именно умопостигаемого является образцовым актом познания, познанием в собственном смысле для Плотина, это совершенно ясно. Чтобы понимать Плотина, нужно ясно осознать ту истину, что поскольку что-то вообще постигается, оно постигается умом и есть так или иначе умопостигаемое, и воспринимаемое внешними чувствами постигается все-таки умом; но есть и то, что собственно умом и воспринимается, и потому постижение собственно умопостигаемого, «умовоспринимаемого», является образцом для любых других постижений, в силу совпадения в таком акте познания формы данности предмета и формы его познания.
Итак, Плотин прежде всего фиксирует сферу бытийного единства знания и бытия — это есть Ум (говоря языком новой философии — субъект-объект), сфера сущего или, лучше сказать, само сущее, которое есть также и само мышление, и самомышление. Захватывает дух от этого равновесия бытия и мышления в Уме: это подлинное «акмэ» (расцвет) бытия и мышления — ничто не довлеет другому. Ум никоим образом не есть «самосознание» новоевропейских систем, хотя и занимает подобное же место в системе Плотина, но это лишь общность статуса. Ум не постигается дискурсивно, в том числе и когда имеет место быть дискурсивное мышление о себе (об этом Плотин пишет во многих местах, например в Enn. V. 3. 4.); можно сказать так, что мы не имеем понятия об Уме — понятия в том смысле, в котором говорит о нем св. Василий, ибо познание об Уме раньше любого анализа и синтеза, и чтобы достигнуть познания Ума, следует как бы отступить в то, что было раньше дискурса. Понятно, что св. Василию, который признавал человека и его душу рожденными во времени, можно было отступать только в область сознанияпренотальных матриц , но для Плотина — вернуться к не дискурсивному состоянию сознания означало также вернуться к истоку не только своей, но и всякой души. Способ постижения Ума Плотин нередко называет «эпиболэ» (например, в Энн. I. 3. 5): буквально это значит «набрасывание», мы же переводим это слово как «интуиция» — непосредственная форма знания, мгновенное овладение сутью вопроса, и совершенно понятно, что такое знание не дискурсивно.
Вслед за сферой тождества бытия и мышления располагается сфера их относительной разделенности — сфера Души; здесь и находятся как дискурсивное познание, так и логосы отдельных вещей (и то, и другое присутствует также в Уме, но там они — лишь возможности); собственно превращение ума в рассудок даже в нас и происходит именно тогда, когда предмет оказывается внешним; так что это одно и то же — рассуждающий ум и ум, имеющий некую внешнюю сферу предметности. Однако, они внешни друг другу только как творческая деятельность и ее смысл или замысел, и то и другое — суть единая психическая сила.
Наконец, выступив в космическое бытие, оба обретают призрачное существование, логос — в виде чувственной вещи, душа — в виде одушевляющего и вразумляющего единичное тело принципа. Понятно, что познание призраком призрака может быть только призрачным (скептицизм относительно познания чувственных вещей является общим для св. Василия и Плотина, хотя, возможно, св. Василий и домысливает за чувственной вещью некую сущность-в-себе, во всяком случае, преп. Максим Исповедник ее домысливал). Впрочем, и согласно Плотину за чувственным предметом стоит некая сущность, благодаря чему он не есть иллюзия в смысле обмана воображения; но эта сущность есть логос — логос, являющий себя в этом чувственном предмете, который, вообще говоря, есть только потому, что так или иначе есть логос. Будучи логосом, эта чувственность умопостигаема, поэтому и изначально на чувственный предмет следует смотреть глазами разума и, скажем даже резче, иным образом смотреть вовсе невозможно. Если принять во внимание, что для христианских перипатетиков сущностью могла быть, опять же, только материя + форма, то и непознаваемая сущность, должно быть, мыслилась ими неким «тонким» живым существом, непостигаемым, по-видимому, именно в силу своей «тонкости». Можно сказать, что даже если бы мы его и постигли, мы вновь столкнулись бы с той же проблемой непознаваемой сущности, и так — до бесконечности.
Нам важно подчеркнуть в гносеологических построениях Плотина полное их соответствие его онтологии и совершенно другой контекст, в который помещается проблема богопознания в его философии. Знание о Боге мыслится Плотином, скорее, не особой областью дискурсивного знания (что происходит у каппадокийцев — там, где они высказывают свои гносеологические положения), но совершенно своеобычным видом познавательной деятельности. Здесь нужно отметить два момента: во-первых, каждому уровню реальности соответствует своеобычный способ познания, и как бессмысленно тем способом, каким мы познаем чувственные вещи, познавать вещи умопостигаемые (в том числе и душевные), так же бессмысленно «умопостигать» Единого, ибо соответствующий Ему способ познания принципиально отличен от способа познания Ума.
Однако, во-вторых, поскольку бытие внутренне однородно, и в Уме суть всё то, что и в Душе, а в Душе — то же, что и во Вселенной, постольку истина является всюду одной и той же, и лишь являет себя по-разному. Понимание этого, с одной стороны, освобождает нас от всякого рода мистических страхов (ибо чего бояться человеку, который жил здесь в согласии с логосом?), а с другой — дает критерий для оценки всех видов религиозного опыта, ибо каждому из онтологических уровней бытия соответствует определенный вид познавательной деятельности, так что и по виду познавательной деятельности мы можем определить уровень познаваемого предмета, и по предмету — соответствующий вид деятельности; в случае же их несоответствия необходимо будет иметь место ложная оценка либо одного, либо другого. Это особенно важно, когда речь идет об оценке тех или иных практик: возьмем, например, классическую исихастскую технику сосредоточения (в Индии она, вероятно, называлась бы самадхи с опорой) — спрашивается, что может быть постигнуто в результате такого упражнения? Если бы здесь постигалось нечто связанное с Единым, то человек должен был бы проходить к Нему через сферу Ума; если же — сам Ум, то это тоже было бы очевидно; следовательно, если речь идет здесь о созерцании света, то этот свет не может быть ничем иным, как содержанием, входящим в сферу Души (в том, что Душа есть Бог, я, в отличие от Варлаама Калабрийского, не сомневаюсь), как и все остальные содержания, постижимые в результате психофизических практик. Скорее всего, это тот «одушевленный свет», о котором пишет Плотин в Энн. IV. 5. Высказанное мною — только гипотеза, однако в данном случае важно то, что такая гносеология вообще позволяет как-то ориентироваться в этой сфере, задает систему координат, позволяющую описывать и соотносить самые разные феномены.
Например, образное явление (неважно чье — Моше, Иисуса или Будды Амиды) не может принадлежать никакой сфере, кроме сферы Души, ибо образ требует места и представления, а в Уме содержания постигаются вне всякого представления. Опытное постижение умопостигаемой Вселенной, всегда сопровождающееся появлением post factum определенного знания и об этом чувственном мире, происходит в моментальном умственном схватывании. Наконец, слияние с Первоединым не предполагает никакой вообще деятельности ума в нас, однако эта остановка умозрения возникает как раз в момент максимального напряжения его. Так что, прежде чем умозрение останавливается (если тут вообще допустимо «прежде»), созерцающий видит Ум.
Теперь, если все те теургические практики, которые начинают работать с дыханием, делают это потому, что дыхание, а равно и биение сердце — последнее, что мешает людям, их практикующим, остановить дискурсивное сознание, то можно предположить, что последнее, что воспринимает движущийся таким путем аскет, это отнюдь не умопостигаемая Вселенная, но собственное сердце или дыхание. Вполне понятно, в таком случае, что речь идет о двух разных видах безмыслия и двух разных типах экстаза. С точки зрения платонизма, вряд ли можно говорить, что останавливающие дискурс (точнее, даже помыслы, читту) таким образом идут в ту же сторону, что и стремящиеся остановить его в восторге перед Красотой. Вероятно, следует предположить, что и небытие имеет некие степени посвящения.
Поражает универсализм этой концепции, заставляющий нас вспомнить, что создавший ее мыслитель жил во время, когда синкретизм достиг такого масштаба, что от человека, следовавшего путем древних философов, требовалась вполне внятная система, позволяющая осмыслить любые феномены религиозного опыта.
Каким же образом постигается истина на уровне рассудка? Она постигается диалектически. Соответственно, диалектика есть такая рассудочная деятельность, которая подводит человека вплотную к границам рассудка. Иными словами, диалектика — это умение видеть сущность предметов, т. е. их умопостигаемые основания. В формальном смысле, диалектика — это логика, в которой изъят закон исключенного третьего. Продемонстрируем это на примере. Говорят: Бог познаваем и непознаваем, и поскольку Он познаваем, Он — сущность, а поскольку непознаваем — энергия. Спрашивается, почему одно и то же не может быть сразу и познаваемым, и непознаваемым? Потому что есть закон исключенного третьего, утверждающий, что одно и то же не может быть чем-то и не быть им в одно и то же время в одном и том же смысле. Что же, спросим мы, Бог подпадает под действие этого закона? А если нет, то к чему предицировать Богу содержания, полученные в результате действия нашей подлежащей этому закону «эпинойи»? Для диалектика тут все просто, ему не нужны дополнительные термины: Бог познаваем и непознаваем в одно и то же время в одном и том же смысле, везде и всегда, в каждом акте познания, и мы, когда познаем это, то познаем умом и не рассуждая. Это столь же мало значит, что Бог есть всецело сущность, сколь и что Он всецело энергия, ибо Он — ни то, ни другое, Он — то третье, которое как раз и исключается тем самым законом, которому рабствуют мыслители, мнящие себя богопросвещенными «антиномистами». В сущности, и введение обременяющих мысль рассудочных различий не может затемнить эту диалектическую истину, однако ведет к продолжительным и бессмысленным спорам, в которых вводящий такие различия вынужден доказывать, что тем самым он не делает Бога сложным, что доказывать весьма проблематично, ибо это требует интеллектуального созерцания, которое лишь латентно присутствует в рассудочном методе, опирающемся на закон исключенного третьего и, следовательно, имеющем сферу применения лишь среди вещей чувственных. Поэтому диалектика — «царский путь», во всяком случае, в рассуждении о вещах божественных, находящихся выше противоположностей, путь, позволяющий отделить сами предметы от «примышлений».
Гносеология Плотина, однако, оставляет открытым вопрос об отношении диалектики к эмпирическому познанию.
I. 3. Космология
Уже затронутые нами вопросы показали необходимость пристальнее взглянуть на всю систему категорий, которые предшествуют богословию и, следовательно, уже подразумеваются, когда человек начинает богословствовать.
Желая отыскать космологические и психологические модели, наиболее характерные для всей патристики, я обратил внимание на книгу И. И. Соколова Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. СПб., 2004. Здесь содержится пересказ воззрений святителя, которые он излагает в сочинении Сто пятьдесят глав естественных, богословских, нравственных и деятельных, исключенном из русской редакции Добротолюбия (М., 1900. Т. 5) по причине того, что в них содержится «очень много трудного для понятия и выражения» (Указ. изд. С. 3). (Об исключенном из русского Добротолюбия тексте Каллиста Катафигиота, который, к счастью, все-таки был переведен и опубликован, мы еще скажем ниже.) Это сочинение, судя по всему, является одним из важнейших памятников святоотеческой письменности, и именно на него мы будем опираться в анализеэтих вопросов.
Мне не хотелось вставлять в этот текст множество цитат из произведений разных авторов в каждом из разделов и без того небольшой работы, и книга проф. И. И. Соколова дала мне возможность избежать бряцания образованностью, всегда уводящего от сути обсуждаемых вопросов к проблемам историческим и филологическим. Впрочем, публикация вышеупомянутых Глав св. Григория Паламы представляется мне делом первой необходимости, поскольку по своему философскому значению это сочинение явно превосходит опубликованные не так давно Триады. Во всяком случае, все ценные для нас фрагменты мы извлекли из пересказа именного этого труда св. Григория.
Итак, пересказанная И. И. Соколовым космология показалась мне настолько типичной, а пересказ — настолько сжатым и точным, что я приведу его здесь почти полностью.
«...мир имеет начало, а оно есть именно то, о котором учит Св. Писание... Но, имея начало, мир имеет и конец... Однако конец этот не сведется к небытию: мир только видоизменится к лучшему в своем существе, соответственно будущему изменения наших тел. Откуда происходит движение неба? — Греческие мудрецы думали, что оно происходит от Мировой души природы. Но если мир имел вообще душу, как движется одно только небо, но не земля и вода и воздух? А с другой стороны, если бы он имел душу, то она разумна или неразумна? Но в первом случае она была бы и свободна, и ее не были бы лишены и вышеназванные стихии. А во втором случае она была бы или естественной, или чувственной. Но такая душа не могла бы двигать неорганические тела, потому что душа есть „энтелехия тела органического“, имеющего жизнь в потенции. Наконец, космическая душа есть создание ума злого и нечестивого. Такая душа, небесная или всемирная, вовсе не существует; есть только разумная душа, человеческая, вышенебесная, разумное существо. Но как движется небесное тело? Оно движется не душевной природой, но теловидной и собственной, как мы видим, что вокруг нас движутся ветры не природой души, но своей собственной природой. И движущееся небесное тело вовсе не идет кверху, но вращается около самого себя. Это не потому, что существует недостаточно места, но потому, что существует тело более тонкое и легкое. Выше же его никакое тело не существует, потому что всякое тело заключается в нем. А если бы мы пожелали представить, что находится что-либо выше неба, то мы должны мыслить это Богом, всё наполняющим и прежде мира, и после него, однако, нельзя, разумеется, отождествлять Бога с каким-либо телом....
Стихий Палама насчитывает пять... Другая Вселенная, кроме нашей, не существует, и только на одной Земле существует единая разумная душа. Живут здесь и другие земные животные» (Соколов И. И. Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. СПб., 2004. С. 108-109).
С большей или меньшей полнотой в этом тексте представлены и основные парадигматические расхождения с мыслью древних, и основные черты сходства. Одним словом, эту картинку можно охарактеризовать как стоицизирующий аристотелизм. От стоиков здесь берется представление о конечности и тленности мира — без стоической цикличности, конечно (хотя, рассуждая о совершенстве мира до грехопадения, его несовершенстве — после, и конечном его восстановлении, пожалуй, можно описать полный круг, однако он будет один; впрочем, такие рассуждения именно св. Григорию не свойственны). Остальной аппарат понятий и сами космологические представления заимствованы у Аристотеля: неодушевленность мира, Бог-Ум, обнимающий мир извне, пять стихий, неподвижная Земля, наконец, определение души, о котором мы будем говорить отдельно. Безусловно оригинальной чертой этого построения является линейность времени, которую, несмотря на все стоические аллюзии, никоим образом нельзя обойти вниманием, и, соответственно, конечность мира во времени (опять же, только этого мира, ибо преображенный мир, очевидно, такой конечности не имеет). В этом фрагменте речь не идет о творении, но и так понятно, что творение мыслится актом божественной воли и разума, и в этом акте вычленяется момент замысла — превечный совет — и момент осуществления. В отличие от нынешних богословов, большая часть богословов древности представляла постадийность шестоднева исключительно художественным приемом, но не реальным положением дел, само творение мыслилось мгновенным (например, у Василия Великого в Беседах на Шестоднев) . Время — категория, понимавшаяся во всей патристике исключительно по-аристотелевски: «время есть продолжение, спротяженное состоянию мира; им измеряется всякое движение...» (Св. Василий Великий. Опровержение... Указ. соч. С. 51) — это, конечно, уже неоднократно обсуждавшееся нами «время — мера движения». Соответственно, вечность понималась в патристике по преимуществу как бесконечное время, никакого более высокого понятия о вечности ни у кого, кроме преп. Максима Исповедника, я не нашел. О пространстве здесь можно говорить, опять же, в аристотелевских категориях места. Соответственно, полемика против стоиков и платоников, учивших об одушевленности космоса, об обусловленности космических движений психическими, производится исключительно с аристотелевской точки зрения.
Мы уже говорили, что Плотинова космология в достаточной степени зависима от аристотелевской. Скажем еще раз, что это за зависимость и сравним построения Плотина с парадигмой, усвоенной византийским богословием.
Следует согласиться с А. Ф. Лосевым в том, что касается космографии: представление о концентрических, постепенно «уплотняющихся» сферах разделяли на закате античности фактически все. Но вот возьмем концепцию неподвижной Земли — это чисто аристотелевская концепция, выдвинутая им в полемике с Платоном. В самом деле, Платон признавал движение Земли вокруг оси мира (Тимей, 40с), Аристотель же считал Землю полностью неподвижной (О Небе II. 14). Почему? Потому что Платон, а за ним и Аристотель (до известной степени) и Плотин считали пространственное движение следствием одушевленности, и вот оказывалось, что Земля у Платона живое существо и бог, а у Аристотеля — отстойник для всего неживого в космосе. Отсюда существенным отличием даже при столь заметных космографических совпадениях оказывалось то, что для перипатетиков Промысл кончался там же, где сфера божественного и пребывающего, а именно — в надлунной сфере, для платоников же простирался повсюду; христиане здесь следовали, конечно, платоникам. Но у платоников это происходило потому, что и Земля была для них богом, и стихий было четыре, а не пять, так что нельзя было сказать, что звезды сделаны из «особого материала»; христиане же отвергали божественность Земли и стихий, вслед за Аристотелем, признавали пять. Однако при полной зависимости в этих своих построениях от Стагирита, они полностью отрицали вечность как мира надлунного, так и космоса в целом. Можно сказать, что платоники распространяли сферу пребывающего вплоть до Земли, христиане же, скорее, расширяли сферу мнимого и становящегося на всю Вселенную, однако и те, и другие учили о вездеприсутствии Промысла и Божества.
Теперь то, что касается знаменитого различия концепций творения из o?k -ntwn и из mx «n. В первую очередь, творение «из не сущих» лишь с большой натяжкой можно назвать собственно библейским взглядом. Ибо, во-первых, выражение это в Ветхом Завете встречается всего один раз (2 Макк. 7, 28), а в Новом Завете оно вообще не присутствует. Во-вторых, встречается там оно в контексте риторическом, а не философском (мать, увещевая сына принять смерть за веру отцов, говорит ему, что мир ничтожен, ибо сотворен из ничего, а потому нечего за него и цепляться), и потому в самом этом тексте, вероятнее всего, представляет риторическую же гиперболу. В-третьих, и это самое главное, книга эта написана в 124 г. до н. э. (спустя более чем 200 лет после Платона и Аристотеля) эллинизированным евреем по имени Ясон, проживавшим на Кирене, написана изначально на греческом языке, для александрийской общины, которая к тому времени уже слабо помнила иврит. Приняв все это в расчет, едва ли можно усомниться в том, что замечательная эта фраза навеяна духом эллинизма, который, разумеется, был синкретичен. В любом случае, мы не видим в Ветхом Завете никакой предыстории этой мысли; так или иначе, сказано было хорошо, и в христианском богословии получил развитие именно этот тезис. Спрашивается, насколько можно противопоставить его платоновскому творению из mx»n?
Теперь, может ли быть вопрос о Промысле отделен от космологических представлений? Для нас, разумеется, да, но для людей того времени — вряд ли. Вопрос о Промысле у Аристотеля прямо увязан со структурой существующего, у платоников — со способом действия Души и сферой ее влияния, да и в ближневосточных традициях дело едва ли обстояло иначе. Так что, принимая ту или иную космологию, любой мыслитель, как тогда, так и сегодня, принимает и способ осуществления Промысла, ибо разве сам космический порядок не является наипервейшим его делом? Я считаю, что только разорванное, шизофреническое сознание современного человека может инспирировать разговоры отдельно о каком-то Промысле и отдельно об устроении мира, у древних же эти вещи находились в теснейшей взаимосвязи.
Для всякого человека, который желает думать над вопросом, а не над текстами, совершенно ясно, что эти два учения не только не могут противопоставляться друг другу, ибо с легкостью согласуемы, но попросту представляют собой одно и то же учение. В самом деле, говоря о творении, христиане различают два момента: момент замысла и момент его осуществления; если под первичным «ничто» подразумевается то состояние не-бога, которое было в первом моменте, то под относительным небытием, платоновским «мэоном», следует подразумевать не-бога во втором моменте. Если же вы скажете, что ничего не было вне Бога до начала Его деятельности, то, тем самым, просто положите не-бога в Боге, назвав его какой-нибудь потенцией или силой; суть того, что происходит с такой потенцией (если вы настаиваете на данном имени), от этого не изменится, однако, вслед за Проклом, вы будете полагать материю божественной силой.
То, что дело обстоит именно так, подтверждается и тем, что у Платона речь о «мэоне» заходит не раньше, чем Демиург начинает творить (мы писали об этом в статье ко второй Эннеаде). Не говоря уже о том, что истолковывать «мэон» как совечную Творцу материю, — это абсолютный абсурд, ибо материей («гюлэ», букв.: «древесиной») называется что-то оформляемое эйдосом. Что же, Бог для платоников — эйдос? А если нет, то и никакая материя не может быть у платоников совечной Богу. Если же Богом следует называть и Ум, и Душу (а это именно так), то, в таком случае, Единое будет уже не вечно, а сверхвечно, если хотите, и ни о какой «со-сверхвечности» все равно говорить будет нельзя. Вообще говоря, относительно не-существующее может хоть как-то существовать (что следует из самого его имени) лишь в качестве члена отношения, но отношения с чем? Конечно же, с сущим. Что же, разве Единое и сущее тождественны в платонизме? Много можно привести доводов против этой клеветы.
Поскольку об умной материи и вообще инаковости в сфере божественного мы будем говорить ниже, этот вопрос здесь рассматриваться более не будет.
Действительно существующее расхождение состоит в том, что христиане усваивают Богу то, что они называют свободой, т. е. такое отношение к творению, при котором одна только воля Творца определяет — быть ему (т. е. творению) или не быть (учение это восходит к св. Афанасию Александрийскому). Тем самым, творение оказывается таким действием, которое не требует ничего кроме воли и здравого смысла, чем-то вроде забивания гвоздя или лепки горшка . Я не знаю, почему этот взгляд должен быть принят как собственно христианский, ведь всякое действие, определяемое таким образом, делается как раз исключительно из необходимости (например, как-то выживать), чего не скажешь, например, о художественной деятельности. Представление о безыскусности творения у платоников опирается именно на эту антропологическую аналогию: представьте себе момент, когда рождаются стихи или песня, когда поэт словно бы одержим, «идет за Ним и не видит спины» — творит, но не знает, как и почему. Анализируя такое состояние, не ясно даже, хочет ли он собственно творить. Художник неизмеримо более свободен, чем ремесленник, однако действует с бесконечно большей необходимостью.
К разнице между этими двумя образами и сводится все различие между христианским и неоплатоническим пониманием творения как процесса. Очень верно сказал где-то Плотин относительно перипатетиков, предицирующих мышление Божеству, что считая мышление самым ценным в себе, они думают наградить им и Бога, ибо без мышления Он им кажется недостаточно внушительной персоной. Так же и здесь — наградили, должно быть, Первоначало тем, что наиболее ценили в себе.
В строгом смысле, в учении о творении нужно отказываться от любых антропоморфизмов: приписывать Богу необходимость — такая же нелепость, как и приписывать Ему свободу, ибо относительно Единого ни та, ни другая категория не имеют никакого значения, кроме аналогического. А по аналогии мы, опять же, будем усматривать в Его действиях сразу же и свободу, и необходимость. То же самое относится и к самому сотворенному: с одной стороны, творение не может ни быть, ни не быть без Творца, с другой стороны — оно свободно в меру своего богоподобия. Это признавали и платоники, и христиане. Возвращение образа к Первообразу понималось и теми, и другими основным смыслом бытия мира. Однако, большая часть христианских богословов до сих пор признавала и признает некоторую специфическую свободу твари, отличную от свободы Бога; для платоников же, тоже принципиально признававших разную степень осуществления свободы в разных чинах космической иерархии, свобода была словом, по преимуществу обозначавшим собственно божественное бытие. Эта разница акцентов (не учений в целом) обусловливается вышеупомянутой разницей акцентов в понимании сотворенного.
Теперь скажем относительно идей, ибо космос божественен благодаря им. Во-первых, несмотря на периодически случавшиеся анафематствования теории идей как таковой (например, на антиоригенистских соборах или на соборах против Иоанна Итала), заменить ее было принципиально нечем, так что лучшие богословы Востока, в том или ином виде, все равно принимали ее, например преп. Максим Исповедник и свт. Григорий Палама. Во-вторых, идеи понимались христианами, в соответствии с вышеупомянутым образом, как замыслы Бога, т. е. то, что еще только должно получить чувственное бытие, а платониками — как сами вещи (прокловскую концепцию идей-богов я здесь не рассматриваю). В-третьих, «местопребывание» этих «замыслов» в Боге не очень понятно, и более ранние богословы, например св. Григорий Богослов и св. Григорий Нисский, полагали непроявленные логосы «предвечного совета» во второй Ипостаси, которая тем самым сразу же приобретала имя Св. Софии, более же позднее паламитское богословие относило их уже к сфере энергий. В платонизме же местопребывание идей — Ум. Таковы основные различия.
В первую очередь следует выяснить, считают ли христианские богословы «мысли Бога» чем-то меньшим и худшим, нежели сотворенные на основании этих мыслей, или ими самими, вещи. Если да, то как может тварное оказаться больше нетварного; если нет, то зачем Богу производить худшее? Во-вторых, если идеи суть замыслы или произволения, а источник энергий — сущность, то выходит, что сущность мыслит и волит, а если это так, то как ее мышление и воление соотносятся с мышлением и волением Ипостасей? Одним словом, как энергия связана с мышлением и волением? В-третьих, если говорится о воле в Боге, то эта воля понимается либо как воля, возникающая из недостатка и желания Его восполнить, либо, если первое абсурдно, это воля, возникающая из избытка. А если это так, если она есть Любовь, то чем она отличается от того, что Плотин называл излиянием Блага? Пока мы не имеем ответов на эти вопросы, а у отцов Церкви мы их не находим, мы не можем и сравнивать христианское понимание идей с платоническим, хотя каппадокийское богословие в этом вопросе, очевидно, почти совпадает с учением Плотина.
Некоторые трудности, я надеюсь, разъяснятся ниже, когда мы будем отдельно рассматривать технику догматического мышления о Сверхсущем. Пока же скажем, что, помещая идеи в Уме, платоники отнюдь не отождествляли творение мира и рождение второй Ипостаси. В самом деле, что может быть общего между происхождением самой сущности — сущности истинно сущего из Сверхсущего, и возникновением подвижного образа этой сущности, ведь в одном случае речь идет о сущем как таковом, а в другом — о его образе? Центральный для Плотиновой теории творения образ отражения абсолютно не приложим к вечному рождению Ума. В чем бы могло отразиться Единое? А ведь мир — это отражение, однако же Ум — само сущее. Так что из того, что Ориген, в некоторых чертах своего учения действительно близкий платоникам, непозволительно сближал эти вещи, не следует, что он делал это из-за увлеченности платонизмом, ведь не иначе мыслил и близкий стоической философии Тертуллиан (о стоицизме Тертуллиана см. напр.: А. А. Столяров Тертуллиан. Эпоха. Жизнь Учение в книге: Тертуллиан Избранные сочинения М 1994 стр.25)
I. 4. Психология познания
Здесь дело обстоит почти таким же образом, как и в космологии: из древней традиции заимствуются, в основном, перипатетические положения; появляются и отдельные оригинальные воззрения, но их сравнительно не много. Вот, например, психология познания того же свт. Григория Паламы в изложении того же И. И Соколова:
«....[1] чувственные образы происходят от тела, но они не суть тела, потому что происходят не просто от тела, но от видов, согласных с телами, но и не суть в то же время самые виды тел, но отображения, и как бы некоторые неотделимые от видов образы. [2] Воображение (фантазия), воспринимая эти отпечатки, отделяет от тел образы видов и, храня их в себе, каждый раз вызывает требуемые образы... Воображение разумных существ есть грань между умом и чувством. [3] От вращения же так возникших образов, отдельно от тел, ум создает мысли и многовидно силлогизирует все разнообразие их — то страстно, то бесстрастно, то умеренно, то ошибочно или безошибочно, а отсюда создаются добродетели и пороки, правильные мнения или зломыслие. При этом не каждая истина или заблуждение, добродетель или порок имеют свое начало в мыслях, возникающих от фантазии, потому что не каждая мысль от этого происходит и относительно этого бывает, но возникает и от других (объектов), не подчиненных чувству, но данных уму мыслью. [4] Наконец, ум, следуя за фантазией и имея через нее общение с чувствами, рождает гнозис от столкновения между собой различных представлений: например, видя отношение и положение Солнца и Луны, он приобретает знание об этих телах...» (Соколов И. И. Указ. соч. С. 109-110).
Все эти, казалось бы, инструментальные, незаметные на фоне монументального учения о божественных энергиях и других смелых богословских истин, положения имеют для нас колоссальную важность, ибо вводят нас в интеллектуальный контекст времени. Те же самые вопросы почти за тысячу лет до Григория обсуждались и Плотином, и почти в тех же терминах, а почти за тысячу лет до Плотина — Платоном и Аристотелем!
Итак, в первую очередь, налицо чисто перипатетическое учение о восприятии, т. е. представление об истечении из предметов неких образов, которые и улавливаются органами чувств. Плотин критикует это учение в трактатах Энн. IV. 6. и упоминает о нем в связи с частным вопросом в трактате Энн. II. 8. Основным предметом споров между платониками, с одной стороны, перипатетиками и стоиками — с другой, было положение об активности или пассивности души в процессе восприятия. Григорий Палама здесь, безусловно, разделяет воззрения античных эмпириков. Органы чувств для него есть что-то подобное трубам или каналам, через которые в разум попадают некие абсолютно объективные чувственные истечения из предметов. В общих чертах это натуралистическое воззрение было свойственно большей части христианских мыслителей. Плотин же, напротив, понимал восприятие как деятельность души, соответственно, и внешний предмет оказывался воспринимаемым не поскольку он был сам деятелен, а поскольку была деятельна именно душа, поскольку она направляла на него свою познавательную энергию, ибо «душа предназначена властвовать, а не быть подвластной» предмету восприятия. Для Плотина не существовало субъект-объектного дуализма, ибо сам чувственный предмет мыслился им энергией Души всего, и в восприятии одна душа энергийно общалась с другой, почему и все восприятия для Плотина были невозможны без симпатической связи. Для античных же эмпириков, к числу которых нужно отнести, в данном случае, и Григория Паламу, такой дуализм существовал; соответственно, и мир представлялся неживым и инородным душе. В своих крайних, «стоических» формах, это представление о пассивности души в восприятиях могло привести, например, к желанию жить в пещере, или завесить окна иконами, или созерцать пуп, чтобы избежать влияния мира, что порою и наблюдалось у подвижников, понятийный аппарат которых весьма зависел от аристотелизма и стоицизма. Невозможно не отметить чрезвычайной устойчивости этих воззрений.
Далее мы встречаемся у св. Григория с учением о фантазии. Здесь он достаточно близок к Плотину: у обоих мыслителей память понимается принадлежащей силе воображения (см.: Энн. IV. 3. 29). Однако для Григория воображение есть как бы некое сито, отделяющее образы от их объективного подлежащего, способность, превращающая нечто данное лишь объективно в нечто мысленное, для Плотина же, поскольку для него вообще не существовало такой трансформации, фантазия, соответственно, трансформировала в мысленный образ безвидную мысль, а не приходящее истечение от предмета (см.: Энн. IV. 3. 30). Можно сказать, что суть различий в понимании фантазии сводится к разнонаправленности, к разным векторам этого преобразующего движения: фантазия для Плотина — это как бы эманативная сила, представляющая чувственному и зависимому от тела сознанию реально существующий безвидный мир мысли; для Григория Паламы же фантазия представлялась как бы «витком эволюции» чувственного предмета, стремящегося извне в сознание и теряющего благодаря фантазии свою внеположность и, до известной степени, чувственность; говоря языком современной психологии, фантазия понималась Паламой как акт интериоризации.
Отделившись от своих «объективных» носителей, мысленные образы попадают во власть рассудка, который соединяет и разделяет эти содержания согласно законам мышления — «силлогизирует», как говорит Григорий Палама. Но откуда появляются в самом рассудке те общие правила, которыми он руководствуется в процессе мышления, из этих построений совершенно неясно. Это просто не объясняется, так что едва ли не самый весомый — гносеологический — аргумент в пользу существования идей просто не рассматривается нашим мыслителем. Не только у свт. Григория, но и у большей части византийских богословов мы наблюдаем какое-то равнодушие к последним основаниям нашего мышления, обусловленное, вероятно, именно их натурализмом, убеждением в том, что собственно существуют именно единичные чувственные вещи. С другой стороны, этому, конечно же, способствовала и убежденность в бесплодности и необязательности «внешних наук» для стремящегося постигнуть истину христианина. Получалось, что устремление к Наивысшему не меняло сознания человека, и он оставался обладателем весьма прозаического, ограниченного взгляда на вещи космические. Весьма характерна оговорка Паламы о том, что фантазия не является единственным источником наших понятий, иными словами, утверждение, что есть и неэмпирические понятия и познания, однако — что они представляют собой и как осуществляется такое познание, остается не ясным. Что мы находим о деятельности рассудка у Плотина? Здесь, конечно, тоже далеко до немецкой обстоятельности и ясности, однако, в первую очередь следует отметить, что Плотин жестко различал наш ум — становящийся и связанный с телом, собственно дискурсивный ум, — и мышление как таковое, разлитое во всей природе; я уже не говорю о том, что и Душа, и Ум есть некое иное Мышление. Итак, что касается нашего рассудка, то, во-первых, Плотин во множестве мест говорит о взаимосвязи рассудка с тем Умом, который не принадлежит нам; в сущности, любое истинное суждение возможно только потому, что рассудок общается с Истиной, которая была, конечно же, и раньше, нежели была постигнута рассудком. Нужно сказать, что это положение не конкретизируется Плотином нигде, кроме его учения о родах, неких не только до-опытных, но и до-индивидуальных содержаниях, благодаря которым только и существует само рассудочное мышление. Таким образом, роды оказывается как бы скрепой, теснейшим образом связывающей рассудок и некое высшее, нежели он, Мышление. В остальном, расхождения между свт. Григорием и Плотином относительно рассудка таковы же, как и относительно фантазии: Палама мыслит рассудок так или иначе производным от плоти, Плотин — эйдолом Ума; для Паламы рассудок — одна из вех низшей небожественной жизни, для Плотина — последний отсвет жизни божественной и т. д. Поэтому для Паламы, например, было вполне естественно говорить о двух истинах (Триады в защиту священнодействующих, 2. 1. 5), однако, что такое сама истина, — ни из одного его рассуждения понять невозможно; напротив, для Плотина первое из положений было принципиально невозможно, в то время как понятие об истине дано у него со сравнительно большей подробностью.
Из всего вышесказанного вполне понятно, что познание для Григория Паламы выступает результатом именно рассудочной деятельности и лишено всякого онтологического статуса, оно существенно познание чувственного и некоторые выводы из него, для Плотина же познание онтологично, оно куда раньше любых познавательных актов человека; познание для Плотина — это, скорее, некое объективное «положение дел», которое постигается в актах общения душ или созерцания душами Ума. В этом смысле, Плотин куда больший реалист и объективист, нежели кто бы то ни было из византийских мыслителей, так что и для русских философов, стремившихся во всю краткую историю существования русской философии уйти от «западного» психологизма и субъективизма, он оказывается куда ближе, чем большая часть византийских богословов.
I. 5. Собственно психология
Пожалуй, самым употребимым определением души было вышеупомянутое определение — души как энтелехии живого тела. Если оно не часто проговаривалось, то уж подразумевалось, во всяком случае, почти всегда. К этому выводу можно прийти, рассмотрев место души в мироздании, как его понимали христианские мыслители. Во-первых, для них не были одушевлены в собственном смысле ни космос, ни другие живые существа: т. е. в космосе и в других живых существах не было собственно души, но лишь ее явление, энергийное осуществление. Во-вторых, душа в христианстве мыслилась не только возникшей вместе с телом, но и в буквальном смысле в теле (только Григорий Нисский, насколько мне известно, не помещал разумную душу в какой-то определенной части тела, главным образом, — в сердце, как другие христианские богословы того времени). Никаких следов платоновского понимания души как того, в чем находится само тело, в христианском богословии Востока нет; скорее, были распространены воззрения о том, что Бог сотворил душу позднее тела (например, у блаж. Феодорита Киррского). Вообще, душа мыслилась настолько взаимосвязанной с телом, что тело становилось причастным как блаженству (например, у Григория Богослова), так и посмертному страданию души.
Остановимся на этих моментах подробнее. Вот учение Григория Паламы о душе животных и человеческой душе в пересказе И. И. Соколова: «Всякая разумная и мыслящая природа имеет своей сущностью жизнь. Природа людей вместе с жизнью имеет и энергию при посредстве тела, а природа ангелов лишена последней в силу отсутствия тела, „дабы получить и животворящую для этого силу“... А душа неразумных животных есть жизнь одушевленного ею тела, и они имеют эту жизнь не как сущность, но как энергию, „существующую в отношении к другому, но не к себе самой“, почему она и разрушается вместе с телом. В противоположность этому, душа человека имеет жизнь не только как энергию, но и как сущность, так как разумная его жизнь отлична от тела и не разрушается вместе с ним, оставаясь бессмертной...» (Соколов И. И. Указ соч. С. 110)
Это классическое феноменологическое рассуждение: что есть жизнь животного (т. е органического тела)? — энергия души животного; что же есть сама душа животного? — энтелехия его тела; а что есть энтелехия органического тела? — его жизнь. Дальше констатации факта, что животное обладает жизнью, это рассуждение не уходит и не стремится уйти. Критика понимания души как энтелехии содержится у Плотина в трактате Энн. IV. 7, и мы о ней в статье к IV Эннеаде уже упоминали. Строго говоря, извлечь из текстов Плотина строгое определение души тоже весьма непросто. Однако нет никаких сомнений, что Плотин следовал здесь Платону полностью, а у Платона душе давалось в точности то же определение, что и Богу, а именно — быть причиной самого себя, иметь свое бытие неотъемлемым и неотмыслимым от своей сущности. С другой стороны, душа если и не связана с телом (ибо, скорее, тело связано с душой), то находится, во всяком случае, в отношении к нему, следовательно, если давать душе определение, то вполне в духе платоновской философии можно было бы определить ее как бога, пекущегося о теле. (Кстати, именно такой Бог был в свое время назван отцами-каппадокийцами Святым Духом, что и позволяет говорить о некотором влиянии неоплатонизма на это богословие.) Определение Григория Нисского человеческой души, очевидно, тоже весьма близко платоникам («душа есть сотворенная сущность, сущность живая, разумная, органическому и чувственному телу сообщающая собою восприемлющую и чувственную силу до тех пор, пока способное к восприятию этого естество оказывается состоятельным» (Св. Григорий Нисский.О душе и воскресении. Диалог с сестрой Макриной, цит. по изд.: Восточные Отцы и учителя Церкви IV века. М., 1999. С. 206). Несомненно непреодолимым расхождением оказывается тварность и нетварность души, иными словами — отношение души к божественному. Здесь христианское богословие, безусловно, будет говорить о том, что душа возникла в результате божественного акта воли. Однако если мы называем Святого Духа Жизнеподателем, то дело только в словах, ибо такой Бог назывался платониками Душой. Получается, что расхождение существует только относительно души человека, и здесь всё опять же упирается в вопрос сущности: если сущность есть эйдос, то душа, дающая жизнь единичному телу, конечно, единовидна Душе, дающей жизнь всем телам и, следовательно, единосущна. Если сущность есть не эйдос, а что-то другое, то единосущия, конечно, не будет. Но если в самой системе Плотина назвать сущностью не эйдос, то единосущия не будет и в ней. Здесь спор, во многом, идет именно о словах.
Остановимся сначала на понятии человеческой души; ситуация здесь складывается, на мой взгляд, следующая: как только христианские богословы начинают говорить о душе в собственно платоническом смысле (в этом случае, она часто называется духом) — как о причине себя (ближайшим образом — как о том, что само определяет образ своей жизни), тут же выясняется и то, что она не сотворена подобно телу из стихий этого мира, что она есть «дыхание», «частичка» Божества, что она существо бессмертное и нетленное (вспомним, что со времен св. Афанасия Великого «нетление» и «божественность» для всего Востока — синонимы), «свет, заключенный в пещере, однако божественный и неугасимый» (св. Григорий Богослов)... — все, что говорится в этом случае, имеет много общего с учением Плотина. И напротив, как только Плотин начинает говорить о низшей душе, отделимой форме тела, душе творящей, он тут же говорит и о суде над ней, и о ее сотворенности, «происшедшести» из высшей Души, относительной неистинности... и во всех этих словах очень много общего с учением христианских богословов, однако же акценты, в основном, ставятся так, что в одной школе термин «душа» закрепляется по преимуществу за одним содержанием, а во второй — за другим. Имеет место как бы разная традиция самоидентификации: и то, и другое содержание ведомо представителям и той, и другой школы, однако собственно собой, тем, что есть «я», платоники называли высшую душу, а христиане — низшую. Эта разница обусловлена как аристотелевской философией, низводившей душу на уровень «энтелехии органического тела» и вводившей термин «ум», чтобы обозначить душу в платоновском смысле, так и ветхозаветной традицией, понимавшей душу, по преимуществу, в смысле некоей эмоциональной сферы в человеке, т. е. говоря языком платоников — животной души. Однако же, эта вечно алчущая и смятенная ветхозаветная душа, обременялась еще и богоизбранностью народа иудейского, так что имела статус несравненно высший, нежели ее действительное содержание. И это удивительно, с каким упорством ветхозаветные люди, чье сознание и ценности по большей части были еще только природны, не желали видеть одушевленности других живых существ! (В более позднем иудаизме (см. книгу Тания) это приведет к возникновению представления о том, что только иудеи одушевлены собственно божественной душой, а остальные люди — некоей низшей душой; как тут не вспомнить слова Плотина, обращенные против гностиков: «Они мнят, что единственные обладают тем, чем они единственные не обладают»!) Это — что касается понятия о душе.
То же самое можно сказать и о других входящих в сферу психологии понятиях: восточному богословию была чужда мысль, что душа есть источник времени; время здесь мыслилось некоей иной, сотворенной Богом средой, в которую помещается душа, так что оно нередко оказывалось куда важнее, властней самой души; то же относится и к пространству, и к этому миру в целом. Кроме того, продолжало бытовать унаследованное от ветхозаветного иудаизма представление о душе, как существе, имеющем извне свою жизнь, познание и бессмертие, что критиковалось Плотином — как гностический взгляд — в Энн. II. 9; к тому же, и учение о реинкарнации не принималось никем, кроме Оригена и его последователей. Одним словом, разница на уровне представлений кажется непреодолимой. Однако, раз уж мы зафиксировали некую общность на уровне понятий, можно попробовать показать, что и непреодолимая разница представлений здесь мнимая. Во-первых, учение о перевоплощении души входит в христианство как неотъемлемая его часть, ибо что иное представляет собой воскресение мертвых, если не вторичное воплощение души? Конечно, если смотреть на этот процесс с точки зрения тела, это будет воскресение тел, но если взглянуть на него с точки зрения души, это будет именно ее перевоплощением. Но что мешает смотреть на этот процесс именно с точки зрения души? Разве что ветхозаветная самоидентификация с телом. Конечно, для тела это действие представляется чем-то внешним, делом, которое должен произвести сам Бог, но так ли это для души? Было бы странным, если бы души, которые достигли синергии с Божеством, души, творящие чудеса в посвященных им храмах, помогающие смертным и в делах познания, и в делах житейских, вообще — те души, что уже сейчас являются сотворцами в мирозиждущем художестве Бога, не участвовали бы никак в этом свершении. Кроме того, ясно, что если воскресение — процесс естественный (а Григорий Нисский считал именно так), то естественно и для души это перевоплощение. Да, этот процесс в христианстве мыслится разовым, не периодическим, однако он, как и в платонизме, увязан с представлением о божественной справедливости и суде. Так что разница здесь хоть и велика, но не беспредельна. Во-вторых, как только в христианстве заходит речь о том, что далеко не все из того, что есть под луною, сотворено Богом, что зло, страдание и смерть положены в этом мире деятельностью души, так начинает уничтожаться представление о внешности души для времени, пространства и мира. У наиболее проницательных богословов, которые понимали, что и зло, и страдание коренятся в самих условиях существования этого мира (например, у преп. Максима Исповедника), падение души volens nolens приобретало космогонический размах; у этого чисто гностического положения была, разумеется, и обратная сторона, ибо сам масштаб произведенных душой отрицательных перемен заставлял думать о душе, как о чем-то большем, нежели энтелехии органического тела. И когда мы встречается с учением о спасении всего мира в человеке и через человека, то сам этот человек или, говоря языком платоников, душа мыслится уже полагающей основы преображенного мироздания, и, тем самым, понимание души или человека в этих сюжетах весьма близко к платоновскому. Есть очень простой признак, по которому можно отследить степень близости психологии того или иного из богословов платонизму: если душа мыслится по-аристотелевски энтелехией органического тела, то поскольку органические тела разделены на полы, — с необходимостью будут разделены на полы и души; если же душа мыслится существом по природе бесполым, имеющим полы лишь в потенции (актуализируемой, например, грехопадением), то такое понимание души, безусловно, очень близко к платоновскому. То же самое следует сказать и о богословах, толковавших «кожаные ризы» как плоть, и наказание за грехопадение — как облачение в тело; в их построениях душа до своего падения мыслится потенцией не только своего нынешнего полубытия, но и иной действительности, не реализованной из-за грехопадения; вообще, можно сказать, что Плотин закрепляет за термином «душа» понятие, которое христиане могли бы назвать «душа-до-грехопадения». И еще, если в этом «облачении в плоть» видят не только месть разъяренного божества (нарочно утрирую), но и акт милосердия, то видят в душе и основания для таких именно действий Бога, а значит — начинают мыслить воздаяние имеющим некоторое основание и в потерпевшем, — тем самым суд перестает, до известной степени, быть внешним душе и начинает пониматься как процесс естественный; то же самое относится и к жизни, познанию и бессмертию — чем более здесь углубляются в само понятие души, тем ближе оказываются к Плотину, и напротив, чем более эмпирический и наблюдательный характер имеет психология того или иного богослова, тем менее этих сходств. В этом нет ничего удивительного, ибо то или иное понятие неразрывно связано с методом, каким оно конструируется. Достаточно об этом.
I. 6. Душа и Святой Дух
Теперь следует сказать о Душе-Ипостаси и Святом Духе не в контексте троического богословия, но в контекстах антропологическом и космологическом. Прежде всего, если типологизировать все высказывавшееся христианскими богословами о Святом Духе в этом контексте, то Святой Дух окажется: во-первых, источником благой жизни, ее сил и даров добродетели, возможно даже — источником жизни как таковой; во-вторых — источником знания вещей божественных для конечных существ, душеводителем, возводящим избранных к участию в божественной жизни и знанию; в-третьих — неким именем для обозначения божественного присутствия вообще, именем Бога, поскольку Он действует и знаем. Все эти аспекты прекрасно укладываются в созданное св. Василием Великим (см. его сочинение О Святом Духе к святому Амфилохию, гл. 16) понятие о Святом Духе как целевой причине творения и вообще всякого действия, причиной которого является Бог. Взятый таким образом Святой Дух оказывается ничем иным, как энтелехией либо Церкви, либо природы как таковой (в зависимости от того, ограничиваем ли мы сферу божественной деятельности Церковью, или нет). В основном, конечно, Святой Дух понимался именно в первом смысле, особенно там, где акценты ставились на положении «вне Церкви нет спасения». В самом деле, и по сию пору я не знаю ни одного значительного сочинения, в котором Святой Дух осмыслялся бы как космосозидающая причина, или хотя бы внятно говорилось о Его действии среди народов, не исповедующих библейские религии, о действии же Св. Духа в Церкви написано неподдающееся учёту количество книг.
Однако, опять же, интересно заметить, что уже в Новом Завете складывается представление о том, что Святой Дух в определенных ситуациях есть как бы особая сила в людях, которой исцеляют, пророчествуют, совершают поклонение и т. д. . Т. е. Святым Духом называют также и то, что мы бы сейчас назвали благодатью, божественным наитием или божественной энергией.
Душа-Ипостась у Плотина, взятая в том же контексте, разумеется, не обозначает ничего другого, а именно — она источник жизни и познания, ближайший к нам, если так можно выразиться, лик Бога; с определением Василия Великого, я думаю, Плотин полностью бы здесь согласился. Тем более близко Плотину новозаветное представление о Духе (на языке Плотина — Душе) как чудотворящей силе, ибо все чудесное, согласно Плотину, происходит в силу всеобщей одушевленности и, в конце концов, — благодаря Душе-Ипостаси. В принципе, в этих аспектах учения я не вижу вообще никакой разницы; кроме того, что Душа понимается Плотином с акцентом на всеобщность ее действия, она по преимуществу есть (если все же возможно здесь говорить аристотелевским языком) энтелехия космоса в целом, и, конечно, не в последнюю очередь, — человека; она еще специальнее души человека, ибо что иное может обозначать слияние с Единым, если не усвоение единичной душой состояния Души-Ипостаси, в противном случае оказалось бы, что слившаяся с Единым душа была бы выше той Души. (Нельзя, впрочем, сказать, чтобы у Плотина этот вопрос был разъяснен со всей ясностью.) Интересно, что Душа-Ипостась столь мало отлична от Ума для Плотина (а Ум Аристотеля столь похож на Душу платоников), что Григорий Богослов, немало потрудившийся ради утверждения почитания Святого Духа Богом и отнюдь не считавший, что язычникам не знакома та реальность, божественность, которую он отстаивает, писал: «Лучшие их богословы... имели представление о Духе... но не соглашались в наименовании, и называли Его Умом мира, Умом внешним и подобно тому» (Слово 31, о богословии пятое, о Святом Духе; цит. по изд.: Святитель Григорий Богослов Собрание творений, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, с. 446).
I. 7. Вселенная и Воплощенный Бог
Нам следует дерзнуть и на такое сравнение, и для всякого внимательного читателя параллели здесь очевидны: ибо чем иным может быть Вселенная у платоников, если не воплощением Ума посредством Души, и что иное представляет собой воплотившийся Бог христианства, если не воплощение второй Ипостаси? Посмотрим, насколько это сходство поверхностно.
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что нам здесь предстоит говорить о весьма деликатных предметах, поэтому заранее прошу прощения у тех, чьи религиозные чувства могут в результате такого рассмотрения пострадать. Однако такое рассмотрение необходимо, ибо мы хотим обнаружить смысловые структуры, лежащие за теми или иными образами, а потому и сами эти образы в известной степени теряют для нас самоценность. Так, когда мы говорим, что в момент жертвоприношения Авраама Исаак был символом Христа, мы тоже до известной степени перестаем интересоваться личностью самого этого юноши; это не означает однако, что Исаак был только символом, или что мы тем самым пренебрежительно к нему относимся; это также верно, как то, что Авраам в этот момент не символизирует собой ни Каиафы, ни Пилата. Я некоим образом не пытаюсь здесь говорить о мистериальной, таинственной стороне подобных образов и сюжетов, но пытаюсь, так сказать, сравнить место и статус этих сюжетов в священных повествованиях.
Итак, начнем с рассмотрения исторического. Насколько творение у платоников представляет собой что-то типологически тождественное непорочному зачатию Богочеловека? Очевидно, действие творящей Души у платоников выполняет те же функции, что и действие Святого Духа у христиан, ибо этим действием нечто неизмеримо более совершенное принимает «зрак раба». Это не поверхностное сходство: речь и в том, и в другом случае идет именно о том, что божественное, по неисповедимой воле Бога, впадает в «кенозис», умаление и истощение. Насколько вообще можно сравнивать творение и воплощение? Это зависит от того, как мы понимаем все те места в Писании, где Христос называется «камнем» (фундаментом, основанием) и «первенцем» (напр.: 1Кор. 1, 31; Кол. 1, 18; Рим. 8, 29 и т. п.) — если для нас это только образы, то такое сравнение невозможно; если же мы видим за этими именованиями смысл, то как не может быть фундамента дома без того, чтобы дом существовал хотя бы в проекте, как нельзя быть «первородным между многими братьями», не имея братьев, так немыслимо и Боговоплощение, если не имеется в виду нового творения, а если нового творения, то и творения вообще. Итак, что служит восприемницей этого творения? На первый взгляд, кощунственно сравнивать Богородицу и какую-нибудь эллинистическую Матерь богов, с которой Плотин сравнивает материю, на первый же взгляд, они представляют собой нечто прямо противоположное, однако, чем напряженнее противоположность в вещах божественных, тем меньше следует этому верить. Не составило бы труда показать, что культ девства, свойственный Богородичному почитанию (возникшему, кстати, достаточно поздно, после IV века, во всяком случае), весьма близок к экстатическому культу эллинистической богини, хотя, конечно, о членовредительстве, свойственном многим экстатическим культам богинь-девственниц, в богородичных культах, там где они находились в русле канонического права, говорить не приходится. Можно было бы показать, как во множестве духовных движений — от гностиков до тантристов — культ святой девственницы и наираспутнейшей из блудниц совмещается в почитании одного предмета. Можно было бы привести множество примеров совмещения девственности в богинях и их покровительства материнству и т. п. — все это были бы прекрасные религиоведческие рассмотрения. Нас, однако, интересует сама типология этого события. Итак, во-первых, есть некий Бог, отличный от воплощающегося (в сфере божественного — именно третий), который производит воплощение, равное кенозису; во-вторых, есть воплощающийся Бог (второй в сфере божественного), и в-третьих — есть начало, воспринимающее кенотическое движение Бога, оно девственно и сохраняет девственность после рождения: это можно сказать и о материи Плотина, и о Богоприемнице у христиан. Не так уж и мало для начала.
Далее, говоря о вечности Вселенной у платоников и о периодической гибели Вселенной, например, у стоиков, нужно понимать, что вечность мыслилась как вечность не единичного и не чувственного, а гибель, опять же, не была гибелью логосов. И у платоников, и у стоиков дело обстояло так, что чувственное должно было погибнуть, чтобы сверхчувственное обрело адекватное своей природе существование. Поэтому строгое учение о платоновском космосе, если бы оно было доведено до логического своего конца, должно было бы учить о постоянной гибели и возрождении всей этой Вселенной. Не иначе дело обстоит и со смертью и воскресеньем Христа: тело тленное должно было погибнуть, чтобы восстало тело нетленное. Однако, именно тело, и именно вот это чувственное тело, — скажут любители находить различия. И с телом Вселенной происходит то же самое в каждой из его единичных частей, ответим мы, ибо все тленное, восходя в Ум, имеет в нем свое нетленное тело, о чем мы уже писал в статье к пятой Эннеаде. Однако, Христос — персона, а Вселенная — нет, но это уже для кого как: Плотин, скажем, видел Вселенную персональнее любой персоны в ней. Но гроб Христа оказался пуст, — опять возразят мне. И гроб Вселенной, если так можно выразиться о материи, вечно оказывается пуст, как и рождающая ее утроба, поскольку Вселенная ежеминутно и вечно рождается, умирает и восстает к высшей жизни. В том то всё и дело, что тело космоса в целом, тело Вселенной, действует точно так же, как и тело Христа, если смотреть на него именно в целом, а не на его части. Скажут: но и части тела Христа стали нетленными, а не перешли в другие части. На это спросим: какие именно части Его тела — те, которые были в Нем, когда Он был положен во гроб? Или так же и те, которые были Им когда-либо так или иначе извергнуты? А если только некоторые из частей всего того целого, которое было Его телом, если брать это тело в его временной протяженности — от Рождества до Воскресения, — то кто может утверждать, что и в космосе как целом не происходит того же? Мы знаем, что тело человека полностью материально изменяется в течение семи лет, так что из более чем четырех тел, которыми обладал в течение Своей земной жизни Христос (если настаивать на этом глупом буквализме), Он воскресил лишь одно, да и то изрядно обескровленное. Так что, я думаю, не стоит настаивать на таких вещах, но следует считаться с фактами: если гроб оказался пуст, это означает только то, что он оказался пуст. Если это новое тело осязалось и проходило через стены, т. е. было умным телом, то только это данный факт и значит. Как сложилась судьба элементов этого тела, я думаю, не знает никто; то же относится и к судьбе космических элементов.
Каким образом происходит это воплощение? Здесь сходство изумительно точное и буквальное. Бог, как известно, не воспринял ни одной человеческой ипостаси, но — человеческую природу в целом; соответственно, и преобразилась не человеческая ипостась, которой не существовало, но природа; с точки зрения Ипостаси, Преображение и Вознесение были лишь явлением этой Ипостаси. Точно так же обстоит дело и с космосом как богом: он представляет собой именно божественную Ипостась, если рассматривается как Ипостась, но такую, которая восприняла человеческую (точнее говоря, космическую) природу.
Итак, таковы сходства, различия же слишком очевидны, чтобы на них останавливаться.
ЧАСТЬ II. Онтология и троическое богословие
А. Троическое богословие каппадокийцев
Всем известна космологичность платонического богословия, всем известно, что всё это богословие отвечает на вопрос, как из Единого возникло многое. Тем не менее, как только речь заходит о сопоставлении неоплатонической и христианской теологии, начинают сравнивать христианскую триадологию, как опять же всем известно, не имеющую никакого отношения к космологии, и триадологию, например, Плотина. Разумеется, находят множество различий, редуцируемых к этому первичному. Но на каком, спрашивается, основании производится такое сравнение, разве не правильнее было бы сравнивать космологическую часть одного учения с космологической частью другого, а учение о Боге «в себе и для себя» — с адекватным же учением другой школы? Такое впечатление, что единственным основанием для таких сравнений выступает сама форма троичности, но это недостаточное основание. Чтобы произвести сравнение учений о Троице, следует, я думаю, показать прежде всего онтологическую базу троического богословия в той и другой системах, а чтобы сравнивать учение о Едином, придется уже не только анализировать понятия, но и пытаться классифицировать формы мистических свидетельств.
В первую очередь, мы рассмотрим частные вопросы, которые могли бы помочь нам охватить единым взглядом всю картину.
А. 1. Субординационизм и равночестность
Поистине, нужен делосский ныряльщик, чтобы объяснить, к какого рода категориям следует отнести понятие равночестности. Вероятно, это категория из сферы философии культа, если даже не чисто психологическая категория; так или иначе, дать ее объективный, независимый от субъекта коррелят весьма и весьма непросто. Термин обозначает воздавание равной чести во вполне светском смысле слова, например, самому императору или его представителю и изображению, как олицетворениям императора. Достаточно трудно понять, в чем ценность для познания этого термина, почему он вообще попал в троическое богословие и с какой интеллектуальной операцией он должен быть соотнесен. Термин «единосущие» в этом смысле куда более определен, однако не покрывает термина равночестности, ибо отнюдь не все единосущное равночестно, во всяком случае, если речь идет о вещах мирских; в случае же вещей божественных, — например, в случае почитания святых или богов, — очень многое, как известно, зависит от склада натуры и умонастроения субъекта, так что никакое признание равночестности или даже низшего статуса своего Ишвары, пожалуй, не удержит истинно увлеченного каким-нибудь священным образом человека от воздаяния ему наивысших почестей. Разве что в вещах умопостигаемых, существующих лишь в мышлении и для мышления, мы наблюдаем полную синонимичность этих понятий; сказать, в каком по преимуществу смысле употреблялось христианами это выражение, я затрудняюсь. В пределах данной работы я буду различать эти термины, ибо любая из триад Плотина, например, единосущна, но не равночестна, да и Св. Троица каппадокийского богословия, будучи единосущной, равночестна только в культово-практическом смысле слова.
Такие же сложности возникают и в том случае, когда в богословие попадает термин «субординация». Не ясно, что он обозначает: психологическую ли подчиненность, подчиненность в силу различия статусов, или же подчиненность логическую, — например, вывода посылкам. И Св. Троица христианства, и неоплатонические триады субординированы в строго логическом смысле слова. Поэтому термин «субординация» я буду употреблять только в последнем смысле этого слова.
То, что дело с равночестностью и единосущием у платоников обстоит именно так, как я говорю, не составит труда заметить всякому, кто обратит внимание, с одной стороны, на то, что мы говорили в статье к четвертой Эннеаде об отличии трех первичных Ипостасей по сущности от внутрикосмических феноменов, а с другой — примет во внимание огромное количество мест, где Плотин говорит о Душе как природе сравнительно худшей Ума, и об Уме — как «худшем» Единого. Равночестность же каппадокийского богословия, не будучи нигде в сочинениях учителей Церкви богословски объяснена, очевидно, обозначает только равенство воздаваемых почестей. Так же нетрудно увидеть и все то, что я говорю о субординации: то, что так дело обстоит у платоников, в пояснениях, видимо, не нуждается. Что же касается христианства, то если Отец есть причина бытия Сына и Духа, то как, спрашивается, они могут быть не подчинены Ему? Для этого жесткого логического (ибо речь о божественных предметах ведется у каппадокийцев именно в категориях формальной логики) подчинения существует даже термин «монархия Отца».
А. 2. Сверхсущностность и простота Первоначала
Нужно специально сказать об этом предмете в христианском богословии. Во-первых, никто из древних богословов, на моей памяти, несмотря на чисто платоническое происхождение этих определений, не сомневался в их истинности; уже даже во времена паламитских споров, когда недоумевающий император вопросил Влахернский собор 1351 г., не исключает ли мысль о наличии несотворенной энергии мысли о простоте Бога, то получил однозначно отрицательный ответ. Во-вторых, никто и никогда, излагая учение о Св. Троице, не мог на Востоке (а строго говоря, и на Западе) доказать или хотя бы показать, как возможно сочетание сверхсущности, простоты и троичности, так что в этих построениях христиан данные определения Первоначала, в лучшем случае, декларируются. И в-третьих, есть области христианского богословия, в которых эти определения как раз вполне мыслимы, а именно — в учении об именах и в учении об энергиях; однако же, как совместить эти учения с учением о Св. Троице, остается (для меня, во всяком случае) не вполне ясным. У платоников же с этим вопросом ясность как раз кристальная. Но об этом мы скажем подробней несколько ниже. Ближайшим предметом нашего рассмотрения будет каппадокийское богословие, ибо догмат о Св. Троице принят Восточной церковью именно в этой редакции.
А. 3. Аристотелизм и христианство
Общие положения Исповедание христианами Бога сущностью есть то базовое положение, которое теснейшим образом связывает аристотелизм и догмат о Св. Троице. Судя по всему, это положение вкралось в христианское учение очень и очень рано (нужно отметить, что нигде в Библии Бог сущностью не называется) . Уже во II-III вв. мы встречаемся с этим термином у Тертуллиана и Павла Самосатского, у гностиков, у Новациана и Дионисия Римского (было бы интересно проследить древнейший его источник). Само слово «сущность», как и огромное большинство философских терминов, во все время существования живого греческого языка имело, наряду с философским, и разговорное значение: имущество, существо дела — базовое, самое главное в чем-либо; я думаю, в этом смысле и нужно понимать все ранние утверждения апологетов о происхождении Сына из сущности Отца и об Их единосущии, отнюдь не лишенные субординационизма. Было и три устойчивых философских словоупотребления: стоики (согласно с общим смыслом своего учения) называли сущностью материю — мы назвали бы это сейчас субстратом или подлежащим, перипатетики — единичный предмет (нечто сложное и составленное из материи и формы — см. об этом у Плотина в соответствующих главах Энн. VI. 1); эти словоупотребления можно назвать, соответственно, натуралистическим и феноменологическим, как и сами учения, в недрах которых это слово, тем или иным способом, определялось. Для платоников сущностью в собственном смысле был эйдос, не смешанный с материей, и не-сущностью — все смешанные, материализовавшиеся эйдосы (аристотелевская сущность), а тем более — сама материя. Поэтому, например, тяготевший к платонизму Ориген просто-напросто избегал слова «сущность» в отношении к духовному, как и другие (хорошо знакомые с гностиками) александрийские богословы до IV в. (например, Дионисий Александрийский, Григорий Чудотворец и др.).
Ко временам Никейского Вселенского собора и бушевавших близ него арианских споров, слово «сущность» уже настолько вошло в богословский лексикон, что без производных от него — единосущия и подобосущия, — смысла тогдашних споров передать невозможно. Однако, так же как при освещении этих событий более всего концентрируют внимание не на том, что в это время христианство роднится с язычеством не только, так сказать, институционально и политически, но и в куда более важной сфере — умозрении, а бесконечно толкуют об имевших внутри самого христианства разногласиях, так и в отношении слов куда большее внимание обращают на йоту, различающую единосущее и подобосущее, нежели на саму сущность. В этом смысле, весьма показательна вторая Сирмийская формула (357 г.), запрещающая говорить о Боге в терминах Никеи и, следовательно, в терминах сущности: помимо того, что в церковно-политическом смысле это были происки ариан, следует видеть, что в данной формуле нашли отражение настроения многих и многих в тогдашней Церкви, не желавших ставить свое богословие в зависимость от небиблейской традиции, что было сочтено православными их современниками «богохульством Осия и Потамия».
Окончательно учение о сущности оформляется в трудах каппадокийских богословов; я бы сказал, что для дальнейшего догматического сознания важны будут исключительно их труды. В Восточной церкви от св. Василия Великого до современных учебников догматики — рукой подать, каппадокийское богословие есть официальная доктрина Восточной церкви уже более полутора тысяч лет. В этом богословии нужно различать два момента: гносео-онтологический и мистико-поэтический, и оба они для нас весьма важны. Однако для того, чтобы лучше понять собственно философский момент этого богословия, лучше обратится к трудам св. Иоанна Дамаскина, который мог позволить себе изложить троическую доктрину каппадокийцев, не сообразуясь, в отличие от ее создателей, с интересами момента, и потому — спокойно и без случайностей. Труды пресвитера Иоанна особенно ценны тем, что, в отличие от каппадокийцев, он не оставил нас в неведении о применявшемся им методе, так что если об аристотелизме каппадокийцев мы можем говорить на основании анализа, произведение которого отняло бы у нас немало времени, то здесь аристотелевская методология открыто провозглашается единственно достоверным методом познания, поэтому в изложении каппадокийского богословия мы будем опираться по преимуществу на редакцию Дамаскина.
А. 4. Попытка объяснения христианского аристотелизма в русской философии
Как ни странно, столь важный факт почти не получил никакого осмысления в отечественной философской и богословской литературе, хотя сказать, что он был здесь неизвестен, невозможно. Никто, однако, не задавался вопросом о причине усвоения христианской догматикой аристотелевского языка, во всяком случае, как необходимой формы его выражения. Насколько я помню, в русской философии лишь единожды давалось объяснение этому событию, а именно, И. В. Киреевский в работе О характере просвещения Европы писал, что церковными авторами того времени из всего многообразного наследия античности было избрано нечто наиболее усредненное, некий common sense, удовлетворяющий сразу же и их научной амбициозности, и их философской недальновидности. С точки зрения И. В. Киреевского, аристотелизм особенно тесно связан с традициями западного богословия, восточное же богословие, по его словам, куда более связано с платонизмом. Вполне понятно, что ни само это объяснение, ни, тем более, попытки «оправдать» христианский Восток не могут быть сейчас признаны удовлетворительными, ибо, во-первых, все византийское богословие — от каппадокийцев до св. Марка Эфесского, от Константинопольского собора (второго вселенского) до Флорентийского — насквозь пропитано аристотелизмом. Во-вторых, даже если признать психологическую убедительность этого объяснения, все равно останется неясна интеллектуальная необходимость усвоения христианством аристотелизма. Следует самим попытаться объяснить этот факт; в прямой связи с этим объяснением находится вопрос огромной значимости: насколько аристотелизм именно необходим для христианской догматики.
А. 5. Отношение к аристотелизму в поздней античности
Здесь, в первую очередь, нужно сказать, что в древней греческой философии ясно не разграничивались не только онтология и теология, но и онтология и гносеология. Это особенно заметно при рассмотрении традиции чтения платоновского Парменидаи аристотелевских Категорий: на наш взгляд, чисто логический трактат Категории критиковался Плотином как онтологическая система, а из чисто онтологического, на наш взгляд, Парменида вся средняя Академия черпала свой гносеологический скептицизм. И это только один из возможных примеров.
Собственно Категории — сочинение, от которого особенно зависит каппадокийское богословие, — понимались в поздней античности почти исключительно как «органон» (хотя никто не благоволил надлежащим образом объяснить, что это значит). Уже ученик Плотина Порфирий, в полную противоположность своему учителю, смотрит на Категории, так сказать, отвлеченно: в своем вступлении к Введению к Категориям Аристотеля он пишет: «Я не буду касаться вопросов о том, существуют ли роды и виды сами по себе или это лишь умопостигаемые категории, а если сами по себе, то обладают ли они отдельным бытием или же — в чувственных предметах». (Цит. по изд.: Плотин. Соч. в 2 тт. Киев, 1996). Этот взгляд на Категории как на некий универсальный аппарат, существующий помимо онтологии Аристотеля, сохранился в основных своих чертах и по сию пору; но для Аристотеля не было никакой формальной логики: каждая из категорий, из фигур силлогизмов имела четкие космологические и теологические соответствия, — именно это и инспирировало жесточайшую критику аристотелевских категорий Плотином. В самом деле, если разум разумен, если не витает в сфере иллюзий, то его ключевым содержаниям и ходам должны соответствовать некие «объективные» предметы и процессы, поэтому не может быть никакой гносеологии без онтологии и наоборот. Однако для широких кругов образованной публики того времени было характерно стремление к универсализации, поискам некоего ars magnum, и на волне этих настроений многие считали аристотелевскую методологию применимой к любой из сфер бытия — будь то бытие божественное, умное, психическое или космическое.
Весьма ярко об этом написано у Дамаскина. Во второй главе Диалектики он пишет о цели своей трилогии: «Цель же эта заключается в том, чтобы начать философией и вкратце предначертать в этой книге, по возможности, всякого рода знания. Поэтому ее должно назвать Источником знания» (Выделение и курсив мои. — Т. С.). Наверное, каждому знакомому с историей философии читателю не может не вспомниться при этом немецкий априоризм, что, конечно же, не случайно, ибо философская традиция Европы неразрывна. Поскольку сам замысел создания некой универсальной науки, исходя из которой и опираясь на которую могли бы существовать науки частные, принадлежит, безусловно, Аристотелю, а наиболее совершенное его осуществление — Гегелю, постольку мы и должны рассматривать Дамаскина именно в этой традиции, как бы это ни показалось неожиданным.
А. 6. Диалектика и догматика у св. Иоанна Дамаскина
Уже в комментарии, принадлежащем, видимо, переводчику Дамаскина Н. И. Сагарде можно прочесть о богословском значенииДиалектики: «В ней мы находим точное, строго логическое объяснение почти всех тех богословских терминов, которые употреблялись восточными отцами как в догматических, так и в их полемических, направленных против еретиков сочинениях» (Цит. по изд.: Диалектика. М., Экклесиа-пресс, 1999). Неплохо было бы задаться вопросом: что это за термины и сколько их? Кроме того, нужно сразу же отметить, что отнюдь не случайно логическое предшествует у Иоанна догматическому; к сожалению, на русском языке нет второго тома его сочинений, в котором опровергаются все известные на тот момент ереси, но надо полагать — опровергаются они на основе терминов, определенных в логике; вероятно, это своего рода «философия природы», осмысление вне-себя-бытия истины; во всяком случае, Точное изложение православной веры — третий том трилогии, — полностью соответствует гегелевской Философии духа, т. е. представляет собой истину, взятую не только отвлеченно в себе, но и для себя, в ее тотальности, как сказали бы немецкие философы. Это нужно уяснить сразу же, чтобы понимать значение Диалектики для всей системы.
Для интересующего нас раздела — троического богословия — принципиально важны определения: сущего, сущности (природы), ипостаси, свойства (акциденции), соединения и разделения. Сначала посмотрим, как они определяются в пределах онтологии, выясним, в каком контексте они употребляются самим Аристотелем, а затем приступим к богословскому их применению в православной догматике.
α) Первая триада
Итак, «сущее есть имя для всего существующего» (гл. 4 Диалектики); это сущее затем мыслится «разделяющимся на субстанцию и акциденцию», при этом сущность (субстанция) определяется как то, «что существует в себе и не нуждается для своего существования в другом», акциденция же, соответственно, оказывается тем, что существует только в другом и через другого.
Нам важно подчеркнуть здесь несколько моментов:
1. Сущее есть имя, а соответственно и разделяться может только на имена; таким образом, все, что касается синонимов, полионимов и т. п., все то, что мы традиционно считаем принадлежащим грамматике, оказывается в сфере онтологии. Дамаскин принимает эту точку зрения с возможным буквализмом: сущее не просто имя, не отвлеченное имя, но и самое что ни на есть конкретное слово, звук, поэтому сущность, например, «есть существенный звук». Поразительное сочетание рационализма и натурализма! Оно станет потом основанием для знаменитого спора реалистов и номиналистов.
2. Во главе этой онтологии поставлено некое единое, а именно — сущее; в этом сущем едином, по мысли Дамаскина, уже и происходят все возможные разделения и соединения. И это как раз принципиально важно для того, чтобы увидеть не просто связь, но тождество с аристотелизмом в самом важном из положений онтологии — в том, что есть начало. Напомню, что, согласно Стагириту, «сущее и единое — одно и то же, и природа у них одна, поскольку они сопутствуют друг другу как начало и причина» (Метафизика, т. 2, 1003b; цит. по изд.: Аристотель, Сочинения в четырех томах, М. 1976). Аристотель склоняется даже к тому, что у них одно определение. Этот вопрос о начале или, другими словами, вопрос о соотношении единого и сущего, есть то ключевое положение, в котором платонизм и аристотелизм примириться никогда и никоим образом не могут; к нему возводятся все остальные различия этих систем. С точки зрения любого из платоников, и аристотелизм вообще, и это вот учение Дамаскина есть, так сказать, инфляционный, сниженныйПарменид — Парменид, начавшийся со второй гипотезы.
?) Богословское применение первой триады
Такое понимание этих первых онтологических категорий открывает дорогу для доказательств бытия Бога. По сути, все эти доказательства следуют из вышеназванных определений с необходимостью; они открывают догматику, так же как определение сущего — онтологию.
Посмотрим поближе, как именно они выглядят: во-первых, из всеобщей изменяемости вещей доказывается необходимость существования чего-то неизменного (в александрийской манере, Иоанн Дамаскин отождествляет изменчивость с сотворенностью и, соответственно, вечность с нетварностью); во-вторых, из наличия космического порядка доказывается необходимость существования Упорядочивателя. Так образуется первичное понятие о Боге — как о ком-то неизменно сущем и космосозидающем, которое потом уже будет лишь уточняться.
Здесь важно отметить следующее:
1. Оба доказательства индуктивны и, по сути, представляют собой одно, а именно — аристотелевское космологическое доказательство; соответственно, и первое понятие о Первоначале получается чисто аристотелевским, т. е. Первоначало с необходимостью выступает здесь как умопостигаемая сущность, имеющая чувственное бытие. В самом деле, если изменяющееся и упорядоченное (говоря онтологическим языком — акцидентальное, т. е. то, что существует благодаря другому) не представляют собой бытия Первоначала, тогда и мысль не может взойти от них именно к Первоначалу, но к тому, чьей акциденцией они являются. У платоников в этом качестве выступала, как мы помним, Душа. У перипатетиков же, признававших душу смертной (говоря языком христиан — сотворенной), в этом качестве выступал Ум, постигаемый, соответственно, «единосущным» ему рассудком, разумной душой.
2. Однако, если для Аристотеля здесь все было просто, и Ум имел видимое глазами бытие, а именно — сферу неподвижных звезд, так что под доказательством бытия Бога разумелось в буквальном смысле мышление «Того, Кто стоит за звездами» (как мы мыслим душу или личность, видя глазами живое человеческое тело), то для Дамаскина такой ход мысли был едва ли возможен; разумеется, он не мог допустить чувственное существование Бога, однако и от доказательств не собирался отказываться.
3. Из этого вопиющего противоречия, которое, однако, едва ли ясно сознавалось, вырастает печальная теория частичной истины, скрытый агностицизм каппадокийского богословия. (Нужно ясно различать апофатизм и агностицизм, ибо первый называет способ познания, а второй — невозможность знания.) Дамаскин утверждает непознаваемость Бога как сущности и познаваемость «в том, что относится к [Его] естеству». Но если Бог не познаваем в сущности, то и доказательство того, что Он есть, не доказывает того, что есть именно Он. Мы видели выше, что именно так у Дамаскина и получается. Таким образом, частичная познаваемость Бога соответственна «частичности» доказательств Его бытия. (Как всё шатко!)
4. На более поздних этапах развития этой доктрины, у св. Григория Паламы, мы встретим уже ясное сознание того, что Бог есть Сущий, «как сущее, а не как сущность», т. е. то, что обнимает собой и сущность, и существование (существующее через сущность — энергию). Здесь сверхсущее будет понято как для-себя-бытие, здесь будет отрицаться интерпретация сверхсущего как в-себе-бытия. Это богословие будет уже ступенью выше каппадокийского, однако троическая проблематика — проблематика сущего — будет ему почти вовсе чужда. Для Дамаскина же Бог пока все еще сущность по преимуществу, как и для более ранней традиции.
?) Вторая и третья онтологические триады. Природа, ипостась, ипостасное свойство. Разность, качество, свойство
Итак, сущее становится сущностью и акциденцией, и собственно существующим оказывается сущность. Но акциденцией она может быть и относительно себя (т. е. сущности), и относительно иного (откуда само это иное, и что оно такое, Дамаскин, как и все перипатетики, умалчивает). С этого момента и сущность, и акциденция начинают самостоятельное смысловое становление.
Что же есть сущность в себе? Понятно, что она есть способ существования, а именно — существование в себе и благодаря себе, ибо делилось-то именно сущее, и сущности противопоставлялся, опять же, иной способ существования — бытие-вне-себя, через другое и для другого — акциденция.
Однако, очевидно, что ни один эмпирик, в силу исходной гносеологической предпосылки, не может признать собственно существующее только всеобщим, какова пока у нас сущность; эмпиризм требует обозначить как-то момент единичности в собственно сущем — как бы то, что можно потрогать. Это единичное и есть ипостась. Можно сказать, что сущность как в себе единичное, как единое, а не сущее, есть ипостась. Но сущность необходимо есть единое сущее и, следовательно, многое сущее (логика Парменида неуничтожима и неотменима), значит, ипостасей много, и они едины и каждая в себе — как ипостась, и в сущности — как в над-личном, над-единичном, над-персональном, если хотите, единстве. Тем самым, учение о сущем едином требует учения о всеедином (но не о триедином!). Но что такое единое, единичное, персональное (мы помним, что, по Аристотелю, у единого и сущего одно определение)? Это то же самое, что сущее!
Именно так и происходит у Дамаскина: тем же самым, чем сущность была относительно акциденций, оказывается ипостась относительно сущности. Скажем об этом словами самого Дамаскина; в гл. 39 Диалектики, соотнося сущность и акциденции, он пишет: «Субстанция есть самосущая вещь, не нуждающаяся для своего существования ни в чем другом»; уже в гл. 42, соотнося сущность и ипостась, он провозглашает: «…субстанция не существует сама по себе… но только ипостаси или индивиды…». У ипостаси оказывается буквально то же определение, что и у сущности: «Ипостась обозначает бытие само по себе, бытие самостоятельное» (Там же). Можно сказать, что сущность в первичном смысле понимается как простое, нерефлективное понятие, ипостась же есть понятие уже рефлективное, отраженное в другом и отражающее другое в себе. Они соотносятся приблизительно так же, как в гегелевской Логике бытие и сущность. Что же, в конце концов, существует само по себе, а что — через другое?
Итак, что же собственно существует и почему именно оно? Прямого ответа нет, но, очевидно, существует именно ипостась, и потому, что воспринимается чувствами. Однако, ипостась имеет то же определение, что и сущность; кроме того, ипостасей много и они могут быть взяты друг относительно друга. Значит, должна быть некая акциденция ипостаси; это и есть ипостасийное свойство.
Можно говорить и о свойствах сущности, предполагая наличие многих и, тем самым, качественно определенных сущностей. В этом случае, т. е. если есть много сущностей, и реально (читай: чувственно) существует ипостась, сущность будет обозначать уже род или вид.
Пока сущность берется вообще, и лишь саморазличается — например, становится моложе или старше себя, — она отлична лишь от неотделимой и отделимой акциденций. Но как только предполагается наличной уже и ипостась, эта сущность в отношении к ипостаси называется природой (как бы уже родившей ипостась сущностью). Таким образом, уже как природа, сущность есть род или вид.
Теперь, момент не-сущностности, на уровне ипостаси, должен иметь самостоятельное развитие. Если он берется как образующий эту новую рефлективную сущность, он называется качеством, если как ставшее ей свойственным — свойством, если в сравнении с другим — разностью. Относительно же предмета это одно и то же (Диалектика, гл. 12). Теперь в этом ином, с которым по необходимости соотнесена ипостась и которое есть ближайшим образом сфера существенного, тоже должен явиться момент не-существенности. Не-существенное должно отражаться в не-существенном же. Соответственно, появляются новые понятия, соотносящие категории, появившиеся в результате развития понятия сущности, — с категориями, появившимися в результате развития понятия акциденции. Обсуждать мы их здесь не будем, как не относящиеся к нашему предмету, точно так же как выше мы не стали разбирать дальнейшее развитие понятия сущности.
Мы изложили онтологию Дамаскина в общих чертах, не входя в различение отделимых и неотделимых, существенных и несущественных свойств и акциденций, родо-видовых делений и проч., ибо нам нужен именно костяк этой системы. Я даже не уверен в безупречности изложения некоторых моментов (слишком велик в этих моих словах гегельянский акцент), но мне не с кем сверить свое понимание, поскольку никто из наших богословов не дал себе труда поставить Диалектику Иоанна Дамаскина в контекст традиции европейской философии. Но я убежден, что идти к пониманию этого богословия следует именно таким путем, так что если богословие Дамаскина, как и византийское богословие вообще, будут в России когда-нибудь поняты с той же ясностью, что и системы греческих или немецких мыслителей, все мои недопонимания естественным путем разъяснятся.
Итак, сейчас следует заметить:
1. Мы видим три триады, одна из которых описывает умопостигаемое, а другие — чувственное (именно их, как бесконечно дробящихся на все новые и новые понятия, мы жесточайшим образом и сократили). Перед нами типически аристотелевский универсум, единое бытие: умопостигаемое — в себе, чувственное — вне себя. Реально существует множество ипостасей, которые возможно познавать и классифицировать, распределять на группы и т. д., пользуясь логическими приемами. Умопостигаемое здесь оказывается именно «универсалиями после вещей», хотя и имеет статус того, что есть «до вещей». Основная ошибка перипатетической философии, которую Плотин с таким жаром критиковал в Энн. VI. 1 и VI. 3, видна здесь как на ладони.
2. Круженье мысли: поскольку имеет место смешение умопостигаемого «до вещей» и умопостигаемого «после вещей», поскольку сочетаются рационализм и натурализм, постольку происходит постоянная подмена терминов — онтологических логическими и наоборот, «первого по природе» — первым по познанию. Например, в познавательном смысле сущность уравнивается с «что» вещи, соответственно, вопрос «что есть сущность?» — звучит как «что есть “что”?» Соответственно, сущность не имеет определения, и на этот вопрос можно ответить лишь жестом: вот это; отсюда следовало, что вторая сущность существует лишь в первой. Таким образом, сущность мыслилась сущностью вещи, но сама вещь оказывалась по природе раньше своей сущности, потому, если на вопрос «что есть вещь?» — следовало указание на сущность, то на вопрос «что есть сущность?» — приходилось опять возвращаться к вещи, как первой по природе.
Опять же, в онтологическом смысле сущность есть то, что существует само по себе, то, через что существуют акциденции, и эта онтологическая сущность есть единичное — ипостась. Как только мы сказали «единичное», так сразу же эта сущность, бывшая основанием всякого бытия или, если хотите, принадлежавшая к высшим его уровням, стала низшим уровнем, она стала тем единичным, которое есть то, что оно есть, только благодаря принадлежности к виду и, затем, к роду. Онтологически большее оказывается логически меньшим, и наоборот. Мысль вертится вокруг себя.
Кроме того, поскольку познание в этой системе есть составление определений, самое важное оказывается именно непознаваемым. Можно сказать, что Аристотель покупал познание частного ценой непознаваемости главного, и прямо наоборот происходило у Платона.
3. Ипостась обозначает факт чувственного бытия, и лишь в последнюю очередь — личность в современном понимании этого слова, и даже не личность, а индивида в некоем молодежном смысле — того, кто сразу бросается в глаза.
Прочитаем внимательно те определения, которые даются ипостаси: «Слово “ипостась” имеет два значения. Взятое в общем смысле, оно обозначает субстанцию вообще. В собственном же смысле “ипостась” означает индивид, а также всякое отдельное лицо» (Диалектика, гл. 29). «Таким образом, ипостасью они называли более частное; более же общее и обнимающее ипостаси они называли природой; наконец, существование вообще они назвали субстанцией…. Равным образом, слова “вид” и “форма” имеют значение, одинаковое со словом “природа”. Единичное же (“мерикон”) [— может быть, правильнее было бы сказать “частичное”. — Т. С.] они назвали индивидом (“атомон”) [а вот здесь именно единичное. — Т. С.], лицом, ипостасью, например, Петра, Павла. Ипостась же должна иметь субстанцию с акциденциями, существовать сама по себе и созерцаться через ощущения, или актуально» (Диалектика, гл. 30). Обратите внимание, как из этого аристотелевского сознания поднимается «через ощущения, или актуально»; здесь «актуально» — объективный коррелят субъективному «через ощущения». Это что касается чувственности.
Теперь что касается содержания этого чувственного факта: «Следует заметить, что святые отцы названиями “ипостась”, “лицо”, “индивид” обозначали одно и то же: именно то, что, состоя из субстанции и акциденций, существует само по себе и самостоятельно, различается числом и выражает известную особь, например, Петра, Павла, определенную лошадь» (Диалектика, гл. 43). И еще: «Лицо есть то, что в своих действиях и свойствах обнаруживается ясным и определенным образом, отличным от способа обнаружения однородных существ… [например] Павел, когда он держал речь на лестнице, был одним из числа людей, но своими свойствами и действиями он выделялся из всех людей» (Там же); но и брыкающаяся лошадь, в этом смысле, будет обладать лицом, выделяясь поведением и свойствами: здесь нет ничего похожего на самобытность, понятую как внутреннее существенное содержание. Читая пресвитера Иоанна, из его собственных определений мы нигде и никогда не найдем понимания ипостаси как личности, ибо личность обозначает для нас, как минимум, для-себя-бытие, т. е. бытие, высшим образом организованное, нежели только сущностное в аристотелевском смысле бытие и, тем более, феноменальное, но понимание этого способа бытия отсутствует не только у Дамаскина, но и во всю византийскую эпоху. Лицо и ипостась в этой традиции обозначают единичный факт предметного бытия — и всё; слово «лицо» показывает этот факт в контексте явленности и, следовательно, отличности от других фактов.
?) Богословское применение второй триады
Итак, было доказано, что есть некое Первоначало; пока оно выступает у нас только как сущность, только как что-то, в чьем бытии мы не сомневаемся, т. е. в чем пока различается только бытие и его субъект.
Посмотрим на те определения, которые Иоанн Дамаскин дает Божеству как сущности, а их не так много, если отбросить прилагательные и синонимы. Божество есть начало, умный свет, сверхсущая сила и — как сверхсущая сила — есть ум, сущность, воление, действие, власть; при этом утверждается, что Божество познается в трех ипостасях (Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, гл. 8, М., 1992).
Вероятно, Иоанн подразумевает, что «познается» здесь — равно «существует»; этот оборот речи избавляет его от вопроса: почему Божество существует именно в трех Ипостасях, т. е. в чем состоит необходимость троичности? Кроме того, поскольку сущность Бога непознаваема, о чем Дамаскин заявляет раньше, чем начинает о ней говорить, то утверждать относительно нее можно все, что угодно; в случае же, если кто-то, поняв все его речи буквально, будет указывать на вопиющие противоречия, всегда наготове агностические оговорки. Казалось бы, это сказано очень грубо, так можно говорить о каком-нибудь ловком дельце от богословия, но так оно и есть, — такова обратная сторона учения о непознаваемости Бога .
Теперь, как вводится в онтологию ипостась? Посредством некоей гносеологической очевидности — с одной стороны, и чувственного восприятия — с другой. С ипостасью в богословском смысле дело обстоит не иначе. С одной стороны, нужно что-то помимо мышления, чтобы она появилась в богословской системе, и еще что-то, чтобы хорошо известный по Писанию Яхве стал ипостасью в аристотелевском смысле слова. Я думаю, следует понимать Писание аналогичным гносеологическому постулату, и веру в него — аналогом самого чувственного ощущения. Я не усматриваю в догматике Иоанна Дамаскина никаких других оснований для введения троичности в единую Сущность, в неизменного Упорядочивателя изменяющегося и становящегося бытия — понятие, которое мы получили в результате доказательств Его бытия.
Здесь нужно сказать хотя бы немного о парадигматическом образе этого богословия. Пролог Евангелия от Иоанна дал последующему богословию толчок такой силы, что уже ко временам Оригена на Востоке не только Сына называли весьма часто Логосом, но и Бога-Отца — Умом, третьей же Ипостаси усваивали чисто библейское имя «Святой Дух». Сама игра слов, каждое из которых ко временам появления христианства имело огромную историю, рисовала образ говорящего: ум, обдумавший и вербализовавший свою мысль, слово, происшедшее из ума и сначала находящееся в нем, а затем изрекаемое, наконец — дух, дыхание, благодаря которому изрекается это слово, и все это вместе — один человек, один образ, один лик. На первых порах этого было больше чем достаточно. И не только на первых порах: уже на закате византийского богословия св. Григорий Палама представляет Отца все также Умом, Логос означает у него уже знание, а Святой Дух — их любовь друг к другу, в антропологическом изводе — любовь ума к знаниям. Мы не стали бы говорить об этом образе вовсе, если бы речь шла здесь лишь об образе, но уже к III в. учение об Уме-Отце перестает быть только образом: первая Ипостась мыслится уже как Ум эллинистической философии, соответственно, и Логос приобретает вполне космологические характеристики (это видно в особенности в ересях христианских интеллектуалов, например, гностиков и ариан, особенно «второго призыва»). Каппадокийское богословие, до известной степени, освобождает эти имена от налета философической риторики того времени. Однако, если мы будем смотреть, например, на поэтику того же Григория Богослова, мы увидим, что Ум, Логос и Дух понимаются у него не только в контексте античной культуры, не просто как более или менее пригодные для выражения истины образы, но что это те же самые божественные содержания, что представали и древним мыслителям, что он связан с ними теснейшим образом, влюблен в них и не мыслит без них ни себя, ни христианства.
Итак, от Писания вводится троичность. После введения ипостасности, как иного принципа, все понятия становятся рефлективными, и Первоначало анализируется в категориях чувственного предмета. Дальше все происходит автоматически. Есть три Ипостаси, которые обнимаются сущностью как родом. Строго говоря, мыслятся именно три Бога; хотя тритеизм и провозглашается заблуждением, никаких рецептов для исправления сознания не предлагается, мышление остается именно тритеистичным. (На этом фоне как-то особенно наивно и трогательно выглядит ересь тетратеистов, т. е. учение о том, что одинаково реально существуют и три божественных Ипостаси, и сущность.) В любом учебнике догматики можно прочитать о трех божественных Персонах, обладающих каждая своей отличительной особенностью, которые есть одно как сущность. Излагать это учение, я думаю, излишне; остановимся на богословских апориях, коррелятивных онтологическим.
1. Поскольку неясно, что именно существует первично — сущность или ипостась, поскольку мышление кружится, и первое по природе вытесняется первым по познанию и наоборот, постольку богословское понятие сущности мыслится то чем-то существующим первично, то чем-то существующим вторично. Как только речь идет об Ипостасях, сущность удаляется в сферу природы — второй сущности, рода, к которому относятся все определения Бога, кроме определения ипостасийных свойств. Напротив, как только Бог соотносится с иным, например, с тварью или первичным ничто, оказывается реальной именно сущность, именно единство Первоначала; точно так же дело обстоит и когда речь заходит о богопознании и т. п. Связать эти два момента невозможно никак, и в этой связи обычно говорится о сверх-мыслимости способа божественного существования. Я думаю, именно это оборотничество понятий не устроило в свое время блаж. Августина и заставило его создать свое оригинальное богословие.
2. Поскольку никто не объясняет, почему сущность существует ипостасийно (как и в онтологии, это считается просто самоочевиднейшим фактом), постольку, говоря о генезисе Божества (несмотря на все оговорки, мыслится именно генезис), каппадокийское богословие образует интереснейшее понятие: Сущность-Отец, и называет Его монархом. Взглянем на это поближе (учение это окончательно оформилось во Флоренции в полемических работах св. Марка Эфесского, но опирается оно, безусловно, именно на традицию каппадокийского богословия). Речь идет о происхождении второй и третьей Ипостаси от Первой. Сколько бы ни говорили о предвечности этих процессов, все равно мыслится первый момент, когда существует только Отец, и второй — когда существует уже Св. Троица. Теперь спрашивается: можем ли мы, опираясь на наличный аппарат понятий, отличить в первом моменте Сущность от Отца? На мой взгляд, нет.
В самом деле, если мыслится сущность, обладающая одной ипостасью, то чем эта ипостась будет отличаться от самой сущности? Конечно, если мыслить при этом, например, Адама до появления Евы и потомства, это будет возможно. Но если речь идет о вещах бестелесных, это невозможно никоим образом. Пусть существует сущность числа и его ипостась — единица, и ничего другого не существует, — чем эта ипостась будет отлична от сущности? Конечно, после появления двоицы (постепенность, конечно, абсурдна, ибо вслед за единым появляются все числа) эта единица будет уже одним из чисел и, тем самым, будет отличаться от природы числа, но при этом и сама наша единица станет другой; та же единица, которая существовала прежде, и была, и будет неразрывной с природой числа, ибо не будь природа числа в себе единой, она просто не существовала бы, и, следовательно, не существовали бы и все числа. Собственно ипостасийность вещей бестелесных, их единичность, не представляет собой ничего иного, нежели единство их сущности, если, конечно, не называть здесь ипостасностью сферу акцидентального.
Иными словами, первый момент божественного становления мыслится, так или иначе, в категориях первой онтологической триады, где еще нет ипостаси, так что и отличаться там может только сущность от акциденций; однако же, там мыслят и первую Ипостась, а если так, то невозможно и отличить ее от сущности.
Появившись, Сущность-Отец начинает вести Себя достаточно, так сказать, агрессивно: так, например, утверждается, что Сын рождается из сущности Отца. А почему, спрашивается, не из Своей сущности, — разве сущность Отца это не сущность Сына? Разумеется, так, но подобное словоупотребление призвано, вероятно, подчеркнуть вторичность Сына, как обладающего этой сущностью. То же самое касается и Святого Духа. Отцу, соответственно, усваивается преимущественное право распоряжаться этой самой сущностью, Он становится существенно монархом.
Однако, вполне ясно, что и сам термин «ипостась» рефлективен, и библейские имена ипостасей являют собой имена отношений, что нет никакого Отца без Сына, так что, опять же, в первом моменте божественного становления не может мыслиться Отец, если только при этом не мыслится, что Он Отец в возможности. Таковы трудности. Мне ближе представлять Св. Троицу распускающимся цветком, нежели огнем, светом и жаром. В любом случае, это богословие просто вопиет о необходимости объяснения, почему сущность существует ипостасийно.
3. Та же самая трудность, если брать ее уже в ставшей Св. Троице, являет себя в том, что Отца называют причиной Сына и Духа; последние с необходимостью оказываются следствиями. Вполне понятно, что едва ли сами писатели, допускающие такое именование Отца, признали бы благочестивым этот необходимый вывод. При этом совершенно неясно, считают ли они, что следствия уже содержатся в причине, или же считают, что они появляются как нечто новое, хотя при таком именовании это нужно прояснить. Вообще, превращение нерожденности в причинность весьма сомнительно, ибо с необходимостью влечет за собой логический субординационизм, о которым выше мы уже говорили. В самом деле, когда мы закрепляем нерожденность не за сущностью Бога, но говорим о ней, как о свойстве Ипостаси, мы показываем, тем самым, что Богу не чужд ни один из видов бытия, что Он существует и как рожденный, и как исшедший, что Он есть именно Всё, а не что-то из всего, и это глубокая и истинная мысль. Но если мы введем в троическое богословие понятие причинности, то мы будем иметь строгий пантеизм, ибо это будет уже указанием на тот способ бытия, который свойственен именно сотворенному. Причинность — слишком резкое, определенное слово. Эти мои рассуждения будут, конечно, не ясны людям, считающим богословие своего рода идеологией или договором.
4. Остальные неясности можно изложить кратко. Непонятно, каким образом присутствует в Св. Троице число, каким образом оно конституирует божественное бытие, и, соответственно, почему три-, а не всеединство; что, применительно к божественному, может обозначать термин «свойство», т. е. насколько вообще возможно говорить о свойствах в связи с Первоначалом; и поскольку, различая сущность и ипостаси, мы занимаемся разделениями и соединениями, то имеется ли в Божестве какой-то объективный коррелят этих действий?
Таково каппадокийское богословие. Мы специально сосредоточили внимание на его связи с онтологией, ибо, я думаю, что сфера мысли едина в себе, даже если мыслящими являемся мы, так что — все во всем, и нет богословских проблем отдельно от онтологических, и наоборот.
Я думаю, после всего сказанного очевидно, что это богословие может сравниваться исключительно с Плотиновым учением об Уме, поскольку сверхсущность Первоначала здесь только провозглашается, но никоим образом не мыслится.
В. Триады Ума у Плотина
В. 1. Триады Ума у Плотина
Основная сложность в высказываниях об Уме состоит в том, что говоря о нем, мы говорим обо Всем, так что и подходить к нему мы можем с любой точки зрения, и получать, соответственно, всякий раз новые и новые имена и определения. Давая истинно сущему имя Ума, мы получаем деление на мыслящего (Ум), мышление (умное) и умопостигаемое; говоря о нем как об истинно сущем, мы фиксируем в нем умопостигаемую материю, эйдосы, всесовершенное Живое Существо и все живые существа; говоря о нем как о первом творении, мы фиксируем, с одной стороны, породительную деятельность Единого, с другой — синергийную первой деятельность самого Ума; взглянув на него как на Творца, мы будем иметь творчество в себе, творение Души и, наконец, присутствие в сотворенном Душой, конституирующее это сотворенное. Это основные определения, которые получает вторая Ипостась у Плотина; если взглянуть на нее еще и с иной точки зрения, можно получить другие результаты. В виде таблицы это будет выглядеть так:
|
Имена второй Ипостаси |
Триадическое раскрытие имен |
|||
|
Ум |
Умопостигаемое |
Умное |
Ум |
|
|
Истинная Вселенная (истинно сущее) |
Эйдос (идея) |
Всесовершенное Живое Существо |
Умопостигаемая материя |
|
|
Творец |
Творение в себе |
Творение Души |
Присутствие в низшем (демиургия, Промысл и т. п.) |
|
|
Творение |
Энергии Единого |
Генады (первое Умопостигаемое) |
Предмышление Ума |
|
Скажем кратко о каждой из этих триад, сразу же заметив, что термин «творение» у Плотина — в богословском контексте — фактически ничем не отличается от термина «порождение», и означает в самом общем смысле происхождение из чего-то предшествовавшего. Для вещей, которые ниже Души, эта разница имеет значение, ибо они происходят уже не только из сущности, но и из не-сущего, но в богословском контексте эти термины могут быть только синонимами.
В. 2. Вторая Ипостась как первое сотворенное
Кратко это учение излагается так: первым из бездны сверхсущего Единого исходят первое умопостигаемое, первое сущее, генады, сущностные числа (о которых нужно говорить отдельно и обстоятельно); это первое сущее в момент своего исхождения «оборачивается» к Единому, но уже не может слиться с Ним; вместо этого оно впервые обретает себя — как не-Единое, т. е. едино-многое; это нахождение себя, инспирированное стремлением в Отчее лоно, и есть то, что Плотин называет пред-мышлением (Энн. V. 3. 11; V. 5. 8; VI. 7. 35), и говорит, что умопостигаемое мыслит иным способом, нежели мыслящий (Энн. V. 4. 2). Мышление и мыслящий суть, скорее, следствия и результаты этого до-мыслительного, бытийного процесса. Обретя себя как не-Единое, умопостигаемое с необходимостью актуализирует все возможные потенции своего не-единства, становясь многим и всем. Такой же процесс происходит и с его порывом к Единому, который, не достигнув своего предмета, становится мышлением. Мышление понимается здесь как остывшая или, скорее, даже несчастная любовь. Возможно, следует считать первыми содержаниями собственно мышления — пять первичных родов; они впервые являются уже собственно мыслящему, и уже мыслящиму собственно себя; это еще не индивидуальные содержания, в которых, однако же, содержится все единичное. Можно сказать, что неудача попытки воссоединения с Единым делает Ум творцом, в первую очередь, самого себя.
Важно отметить, что рассматривая это первое парадигматическое мышление, фиксируя его, так сказать, вынужденность и неуспешность как порыва, Плотин далек от того, чтобы забыть эту мысль. Напротив, прямым выводом является постоянный рефрен в Плотиновых рассуждениях о творении: всякое творчество вынуждено, оно не вызывается ни стремлением собственно к творчеству, ни, тем более, расчетом, или собеседованием с творческим помыслом.
В. 3. Вторая Ипостась как Творец
В процессе развертывания акта самосознания, к обретению которого, еще раз повторю, приводит невозможность слиться с Единым, вторая Ипостась производит уже вторичное умопостигаемое — единичные умы, и в них — живые существа, души и тела. Завершенный акт самосознания-бытия, или Ум как полностью осуществившееся, пребывающее Целое, Плотин часто называет также всесовершенным Живым Существом, истинной Вселенной и т. п. — именами, о которых мы скажем отдельно.
Порождение Души для Ума есть действие его «внешней» энергии, оно происходит как бы во вторую очередь, когда Ум уже оформился как Ум: «Когда Ум действует в себе, сделанное им есть другие умы, но когда он действует из себя, сделанное — Душа» (Энн. VI. 2. 22). Строго говоря, Душа есть сама эта творческая энергия Ума, исходящая из Него и обратившаяся к своему истоку, точно так же как и Ум — относительно Единого. Ум и Душа — как бы водовороты на стремнине, единое истечение из Единого, дважды обращающееся на себя, прежде чем потенция его для-себя-бытия оказывается развернутой. «Будучи подобен Единому, Ум точно так же творит устремляющуюся вперед множественную силу — свой эйдос и подобие, как и то, что было прежде него, излило его вперед. Эта энергия, исходящая из сущности Ума, есть Душа...» (Энн. V. 2. 1).
Теперь, что касается созидающего присутствия Ума в низшем. Если относительно Души — как существа божественного — он есть источник самого ее ипостасийного бытия, то в случае вещей чувственных, смешанных, он — закон их разумного бытия и само их разумное бытие, не будучи источником их ипостаси, как ипостаси смешанного. В этом смысле, Ум является первообразом, парадигмой всего чувственно сущего, ибо оно становится и существует настолько, насколько есть его образ, насколько оно умосообразно и осуществляет хоть как-то все те содержания, что в собственном смысле существуют в Уме. Соответственно, Ум есть Царь всего, Господин мира: «Бог, который пребывает самотождественным, предоставил Своему Сыну управлять Вселенной» (Энн. V. 8. 13) — его власть для мира есть условие бытия мира, ибо мир и существует только как подвластный. Ум господствует и оформляет низшее не потому, что специально действует на него, но потому, что само низшее стремится быть и, следовательно, стремится осуществить в своей жизни умопостигаемые содержания, ибо у него нет другой возможности быть. Образ властелина здесь даже не очень уместен, ибо отношение мира и Ума куда более напоминают отношения супружеские: стремясь быть вместе с Умом, Вселенная исполняет его, Ума, волю, но не как что-то извне ей навязанное, но как то, что поднимается изнутри нее и делает ее собой. Точно так же и человек соотносится и с Умом, и с божественным как таковым — не внешним образом, но изнутри .
Рассмотрев две триады, которые показывают вторую Ипостась, так сказать, в динамике, невольно спрашиваешь себя: насколько серьезно следует относиться к этим построениям, ведь то, что здесь описывается, есть процесс, и как всякий процесс, этот процесс имеет время своей предпосылкой, мы же знаем, что Ум, хоть и заключает в себе свернуто время, вечен? Если принять эти построения буквально, получится что-то весьма похожее на гегелевское движение «от абстрактного к конкретному» (читай: от априорного к эмпирическому); значит, вопрос состоит в том, насколько сам Плотин гипостазирует, полагает реально существующим этот процесс. У нас достаточно оснований, чтобы усомниться в этом. Прежде всего потому, что у Плотина отсутствует постепенность абстракции, т. е. нельзя сказать, что начав с Единого, предельно пустой и всеобщей категории, Плотин продвигается к Душе — как к чему-то существующему наиболее конкретно, как гегелевский Дух. Ничего похожего здесь не происходит: Единое — что-то в высшей степени для Плотина наполненное и конкретное; генады и первичные роды — настолько служебны, что о них приходится говорить постольку-поскольку; Ум, всесовершенное Живое Существо — опять обладает для Плотина собственно религиозной ценностью, так что никакой постепенности, развития здесь, очевидно, не наблюдается. Нужно также заметить, что Душа-Ипостась настолько неразрывно связана с Умом, что даже не всегда ясно, почему она — отдельная Ипостась, поэтому и говорить о том, что она происходит из Ума, следует с большой осторожностью. Душа всего мыслится Плотином уже, так сказать, выступившей из истинной Вселенной, однако Душа-Ипостась не выступает из нее, но есть Жизнь истинной Вселенной, и потому не может мыслиться в отдельности от нее. Так что, поскольку Душа-Ипостась есть, скорее, основание такого выступания низшей души, нежели само выступившее, постольку и говорить о постепенности нисхождения, говоря о трех Ипостасях, возможно только со значительными оговорками.
Поэтому, я думаю, не стоит переоценивать значения этих построений; принадлежа, по существу, рассудку и рассудком же осуществляясь, они полезны, но не более чем метод — то, что еще только должно разрешиться в созерцание. Действительно, категориальный анализ может быть прямо приложим только к рассудку, но благодаря ему постигается всеобщность разумного, а это уже собственно умное содержание; так же и рассмотрение возникновения не может быть рассмотрением возникновения Ума, но продвигаясь в рассудке от последних его оснований к более частным понятиям, мы, безусловно, созерцаем умные силы, ваяющие рассудок, так сказать, на глазах. Сфера Ума, однако же, — не сфера явления этих сил, но сфера их для-себя-бытия, потому и любые рассудочные построения обладают лишь знаковой природой. Можно, конечно, прочитать Плотина и по-другому, объективировать вышеописанный процесс, но тогда придется утверждать, что мысля, скажем, покой или тождество, я уже нахожусь не то что в Уме, но выше Ума, что абсурдно, ибо очевидно, что в этот момент я не выступаю из сферы рассудка; не думаю, что столь чуткий к психологическим вопросам философ, как Плотин, мог бы утверждать что-то подобное. А если это не так, то и весь процесс должен быть истолкован иначе.
Я считаю, что всё, что мы у Плотина можем мыслить как онтологию, а именно — учение о бытийном движении от сверхсущего Единого к генадам, от генад к первичным родам, от первичных родов к единичным умам, вещам и душам, от сотворенной таким образом истинной Вселенной к ее существованию в образе, т. е. к нашей Вселенной, и здесь к истощению образа вплоть до ничто, — все это должно пониматься исключительно в сотериологическом смысле. Для этого есть два основания: во-первых, очевидно, что Плотин не понимает мышления о любой из этих степеней тождественным пребыванию на этой ступени; следовательно, чтобы мы дискурсивно ни мыслили, мы всегда остаемся в рассудке, т. е. в единичной душе. Однако, такое мышление отнюдь не забава для Плотина, не досужее конструирование и не догадки; рассудочное усвоение этих понятий и их взаимоотношений является основанием и для жизни в согласии с логосом в условиях отчуждения души от своего истинного отечества, и для самого умного, или светового, восхождения души. Онтология Плотина, если хотите, «не теория, но руководство к действию», но, однако же, не само действие.
Нам остается рассмотреть еще две триады, описывающие вторую Ипостась как она есть в себе.
В. 4. Вторая Ипостась как Ум. Изложение первое
В первую очередь, следует сказать об историческом контексте учения об Уме. Учение Плотина о второй Ипостаси всецело основано на истолковании второй гипотезы Парменида, в то же время само имя «Ум» восходит к Аристотелю, равно как и все сопряженные с этим именем определения: самомышление, блаженство Ума и т. п. Чтобы понять специфику учения самого Плотина, разберем критику его истолкования второй гипотезы Проклом. Этот философ (вслед за Ямвлихом, Сирианом и другими) не признавал возможности отнести к одному и тому же «предмету» все 14 катафатических предикатов второй гипотезы. В самом деле, они весьма различны: от сущего, которое предицируется Единому вначале, до временности, которая Ему предицируется в конце изложения. Соответственно, каждому из предикатов второй гипотезы Прокл домыслил свой «предмет», получив в итоге свои знаменитые триады богов — ценой разрушения единой ипостаси Ума. Что имел в виду Платон в момент написания Парменида, остается, конечно, известным лишь ему одному, нам же важно вдуматься в смысл двух рассматриваемых построений, как если бы они не были связаны ни с каким текстом. Прокл возражает Плотину, исходя из полнейшего неприятия и непонимания того, что Плотин называет умопостигаемой Вселенной, он возражает против реальности самого принципа «всё во всем», благодаря которому только и возможны одновременная телесность и бестелесность Ума, его временность и вечность, вообще все то, что Плотин пишет об истинно сущем.
Прокл возражает против возможности предикации всего всему в Уме. На каком, собственно, основании? На том основании, что это невозможно помыслить, не впадая в противоречия. Эти противоречия, разумеется, суть противоречия логические. Тем самым, вместе с неприятием учения об Уме, Прокл не принимает и диалектику, умножая своих богов в силу невозможности мыслить диалектическое единство. Я бы сказал, что учение Прокла отрицает самое ценное и чудесное из того, что открылось языческому миру, и в этом смысле Плотин несравненно ближе к христианству, или христианство — к Плотину. Если вспомнить, что Прокл и материю понимал как одну из божественных сил, что являлось, согласно Плотину, явным признаком магической обольщенности миром, то всё становится на свои места. Жесткий пантеистический монизм Прокла представляется сравнительно с диалектическим теизмом Плотина иной системой, не менее отличной от нее, чем, скажем, гностицизм. Можно было бы в качестве эксперимента применить многие антигностические аргументы Плотина к системе Прокла, особенно те из них, которые направлены против безудержного умножения гностиками божественных ипостасей, которые опираются на созерцание божественной жизни Ума.
В. 5. Вторая Ипостась как истинная Вселенная
Как же сам Плотин допускал бытие материи в Уме, и в каком качестве? Следует ли нам мыслить умопостигаемую материю и эйдос началами, соединяющимися во всесовершенное Живое Существо, — аналогично тому, как это происходит и в низших сферах?
Нам нужно исходить из того, что, вообще говоря, материя, или инаковость, понималась платониками как принцип различия, следовательно, там, где фиксировалось хоть что-то помимо абсолютного Единого, вместе с различием усматривалась и материя. В общих чертах эту точку зрения разделял и Плотин; выходило, что насколько Ум внутренне различен, настолько же материален, а поскольку он в высшей степени (куда больше, чем, например, чувственный космос) различен и, опять же, несравненно более един, чем что-либо другое, то он одновременно и более и менее материален, чем всё остальное. Этот вывод требовал истолкования. Кроме того, для Плотина материя, как мы помним, была не только принципом различия, некоей пассивной тьмой, она была также и началом, чем-то злым и активным, поэтому истолковывая материальность Ума, Плотин предпринимает некоторые нетрадиционные для платоников ходы, поскольку не может допустить, чтобы материя была энергией Единого. У него, скажем, можно найти понимание умопостигаемой материи как следствия, а не причины различия движений Ума. Например, в Энн. VI. 7. 12 Плотин говорит, что Ум есть все энергии, а потому он в наибольшей степени сложен. Здесь сложность, как мы видим, увязывается уже не с материей.
Этот момент принципиально важен для нас именно в связи со сравнением Плотинова богословия с христианским, ибо и перед тем, и перед другим учением вставал вопрос: как обосновать возможность различия в Первоначале, не вводя в Него материи (этот вопрос вовсе не стоял перед Проклом)? То, что у Плотина дано неясно и намеками, затем с огромной ясностью будет осознано св. Марком Эфесским.
Не могу не процитировать несколько его строк: «...Материя сама по себе — неразличима: ибо она как бескачественна, так и бесколичественна; а то, что бесколичественно — то неразделимо; а то, что неразделимо, то и — неразличимо; а то, что само по себе неразделимо и неразличимо, как могло бы для иного быть причиной различия? И то, что не допускает различия (ибо всякая материя по отношению ко всякой материи по своему понятию не имеет различия), каким бы образом для иных вещей могло стать причиной того, чтобы они были различными друг в отношении друга?» (Силлогистические главы, 25, Цит. по изд.: Архимандрит Амвросий. Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. М. 1994 С. 259). Привожу эти слова в качестве иллюстрации того, как мыслитель, сохраняя чисто платоновское понятие о материи, старается уйти от неприемлемых для богословия следствий. Такой ясности в осознании проблемы у Плотина, конечно, еще не было.
Однако, даже сказанное Плотином открывало возможность мыслить умопостигаемую материю действительно как иной вид материи, а не как предельно «очищенную» и «сублимированную» материю мира чувственного: эта материя рождается во всесовершенном Живом Существе, но не является его началом; тамошнее сущее находится в другом отношении к материи, нежели здешнее, и потому властвует над ней. Итак, различение на эйдос, материю и составленное имеет в Уме несколько иной смысл, нежели в чувственной Вселенной.
В. 6. Вторая Ипостась как Ум. Изложение второе
Это самое распространенное и, видимо, самое любимое мыслителем имя второй Ипостаси. Уже из того, что мы говорили об Уме выше, ясно, что главенствующее положение в этой триаде занимает умопостигаемое: оно первое по природе — то, что предшествует Мыслящему и мышлению, непосредственный результат действия энергии Единого. Собственно, в сфере умопостигаемого и происходит дальнейшее развитие сущего: появление родов, видов, единичных умов, душ, вещей; как соотносятся логический и онтологический генезис, различаются ли они, и если да, то как — все это понять из Плотина совершенно невозможно. Это развитие всего многообразия сущего из единого сущего, собственно, и представляет собой эманацию, которая совершается только в пределах умопостигаемого. Несмотря на прогрессирующее сущностное многообразие, Мыслящий всегда остается один (этого и не принимал Прокл). Почему же появление многих умов не есть умножение мыслящих? Потому что всё во всем, потому что едино мышление, едино действие, и всё мыслит, и всё является предметом мышления. Почему же, в этом случае, мы говорим об умножении умопостигаемого? Только потому, что конструируем его в рассудке; Ум возникает разом как Всё, поэтому используя «исторический метод» для удобства изложения, мы не должны настаивать на его объективной значимости. Эта эманация, строго говоря, есть моментальное явление Всего в его самобытии. Ничто, впрочем, не мешает умножать с такими же оговорками и мыслящих. Вопрос состоит, скорее, в самом термине «ипостась». Может ли быть ипостась Всего? Ответ, в свою очередь, зависит от того, как понимать различие, что выше мы уже обсуждали. Марк Эфесский предлагал считать его следствием деления (не объясняя, правда, что может обозначать это действие не в логическом, а в богословско-онтологическом смысле); я думаю, такой подход не был чужд и Плотину. Тогда, если деление исходит из того же, что и единение, то вполне понятно, например, что может быть сложная ипостась; если же деление исходит из чего-то иного, то, очевидно, и разделенное оказывается иным друг другу, ибо с необходимостью отчуждаются друг от друга, что не необходимо в первом случае.
Термин «умное» представляет наибольшую сложность для понимания из всей триады. На первый взгляд, он — как прилагательное — должен обозначать некое качество, некую отвлеченную мыслимость. Но прилагательным является и термин «умопостигаемое», хотя и обозначает сферу как раз предметности мышления. Судя по положению в триаде, «умное», опять же, вроде бы не может представлять собой ничего иного, нежели мышление. И пожалуй, это слово в нашем языке наиболее точно передает сферу значений этого слова, однако здесь нужно принять во внимание специфику Плотинова понимания мышления. Когда в статье к четвертой Эннеаде мы занимались Плотиновой психологией, мы видели, что, скорее, не мышление представляется Плотином функцией мыслящего, но мыслящий — одним из производных мышления. Мышление имеет статус некоего внесубъектного процесса, в который оказываются втянутыми субъекты, находящиеся — именно как субъекты — неизмеримо ниже в иерархии сущего. Вот, например, любовь во Вселенной — что это: умное или умопостигаемое? С точки зрения Плотина, это умопостигаемое, т. е. базовое и конституирующее начало — то, без чего невозможен ни какой-либо космический субъект, ни какая-либо его функция. А вот, например, логосы растений и животных — это уже умное, в силу того, видимо, что они уже соотнесены с субъектами жизни, погружены в космосозидающую деятельность (оба примера взяты из Энн. VI. 7. 14). Вообще, термин «умное» всегда называет что-то связанное с той или иной деятельностью или силой — наших ли душ, Души ли Всего, или самого Ума. Так, например, в Энн. IV. 8. 3 говорится об умных силах Ума, в Энн. I. 4. 9 — о том, что мы — умная энергия, там же в гл. 10 — об умной фантазии, в Энн. VI. 5. 10 говорится об умном даянии и т. п. Я думаю, следует понимать этот термин у Плотина в не ноологическом контексте, а скорее как возможность осуществления умопостигаемого содержания, силу, еще только имеющую получить адекватное бытие, в ноологическом же контексте — как само это осуществление. Таким образом, мышление, умность Ума — есть его умная жизнь, т. е. форма для-себя-бытия, полная осуществленность умопостигаемого и завершенная полнота познания Мыслящего. Итак, мы получаем весьма непривычную для нашего глаза картину мышления: умопостигаемое имеет место в-себе-бытия, мыслящий (ум) — вне-себя-бытия, мышление (умное) — для-себя-бытия, если вообще позволительны здесь соотнесения с немецкими идеалистическими триадами.
С. Триады Плотина и Дамаскина. Сравнительный анализ
Для большей наглядности, сведем каппадокийское богословие в таблицы.
|
Имена и понятия |
Триадическое раскрытие имен и понятий |
||
|
Бог, Первоначало |
Сущее (бытие-для-себя) |
Сущность (бытие-в-себе) |
Акциденция (бытие-вне-себя) |
|
Сущность (бытие-в-себе) |
Род, природа (всеобщее) |
Вид (особенное) |
Индивид, ипостась (единичное) |
|
Акциденция (бытие-вне-себя) |
Качество (в отношении к себе) |
Свойство (относительно себя и другого) |
Разность (относительно другого) |
Акциденция существует через сущность и сказывается о сущности, но собственно существующим выступает и сущность, и ипостась. Соответственно, мы имеем:
|
Сущая сущность |
Сущностные качества |
Сущностные свойства |
Сущностные различия |
|
Сущая ипостась |
Ипостасийные качества |
Ипостасийные свойства |
Ипостасийные различия |
Теперь, если мы анализируем подобным образом именно Первоначало, понятие о котором не дедуцируется, а преднаходится, мы получаем следующее:
|
Имена и определения |
Качества |
Свойства |
Различия |
|
Сущность Бога |
Сфера непознаваемого (однако, троичность и единство) |
Положительные определения — через отношение к иному: например, Начало, Творец и т. п. |
Отрицательные определения — через отношение к иному: например, бессмертность, нетленность |
|
Отец |
? |
Рождающий, Изводящий |
Нерожденный, Неисшедший |
|
Сын |
? |
Рождающийся |
Не нерожденный, неисшедший |
|
Св. Дух |
? |
Исходящий |
Нерожденность, не нерожденность |
Примечание: Все вышеуказанные имена и отношения имеют место лишь при внутритроическом рассмотрении Первоначала. Как только Первоначало начинает рассматриваться в отношении к творению, точнее — к своему осуществлению в творении, оно получает уже новые определения. Например, если в троическом богословии говорится об исхождении Святого Духа без участия Сына, то когда речь идет о послании Духа в мир, — говорится уже «при участии Сына»; точно так же и рождение Сына без участия Духа верно только относительно внутритроического конструкта, ибо рождение Сына в мире без Святого Духа невозможно.
С. 1. Ум как сотворенное в каппадокийском богословии
Итак, перед нами возникает ряд вопросов, разрешив которые, мы и выйдем прямо к сравнению. Прежде всего, тождественны ли три Ипостаси друг другу как ипостаси, или они тождественны друг другу только как принадлежащие единой сущности? Очевидно, тождественны именно как ипостаси, иначе могло бы выясниться, что какая-нибудь из них есть, например, энергия или свойство, а не ипостась. Таким образом, мы фиксируем два момента тождественности и единства в Первоначале, описываемом в каппадокийских терминах. Теперь, что значит тождество в сущности? Это значит, что каждая из ипостасей обладает всеми теми сущностными качествами, что и другая, поскольку они единосущны. Но что значит тождество в том, что каждая из ипостасей есть именно ипостась? Это значит только то, что каждая из них есть нечто единое или единичное. Тогда три ипостаси тождественны в том, что каждая из них, говоря языком платоников, есть генада, а отличны в том, что каждая из них есть окачествованная генада, т. е. то, что обладает свойством (относительно себя — качеством, относительно другой ипостаси — разностью). Теперь: 1) предшествует ли (разумеется, не во временном смысле) сущностное единство единству ипостасийному, генадическому? 2) На каком основании говорится, что едина сама сущность, т. е. является ли единство божественной сущности качеством этой сущности или лишь свойством и разностью? Но если оно будет даже лишь свойством, оно должно быть чем-то и в отношении самой сущности (если мы не хотим, конечно, сказать, что те определения, которые Первоначало имеет в отношении к иному, суть относительно Него ничто, и, следовательно, что тварь создает Творца). Однако, если оно есть сущностное качество, и сущность не есть совокупность качеств, то единство сущности либо присутствует в каждой из ипостасей, либо не присутствует. Но если присутствует, то чем оно может отличаться от генадического единства? Очевидно, ничем. А если ничем, то сущность есть единичное в том же смысле, что и ипостась, но это абсурдно, ибо такое единство могло бы быть лишь единством собранного, а такое единство само, в свою очередь, должно опираться на высшее единство. Следовательно, единство сущности должно отличаться от ипостасийного, генадического сущего единства и, значит, должно быть сверхсущим единством и предшествовать генадическому единству ипостасей.
Но, скажут, сущность — не что иное, как общее трем ипостасям, некий всем присущий набор качеств. На это опять следует ответить, что общее существует только благодаря тождественному, а тождественное — благодаря единому, так что даже если сущность существует лишь в ипостасях, из этого не следует, что она не существует как единое, ибо все сущее существует лишь благодаря тому, что оно есть единое, и следовательно, вопрос о единстве сущности остается открытым. Если же вы хотите сказать, что единство сущности есть именно единство соединенного, то кто, собственно, соединяет это соединенное? Похоже, что некому, кроме мыслящего это соединение рассудка (если вы отрицаете существование высшего единства в Первоначале), но тогда это понятие не имеет никакого смысла помимо рассудка, и называет собственно его деятельность. Таковы трудности в вопросе о единстве божественной сущности, обусловленные самим аппаратом каппадокийского богословия.
Нам важно нащупать здесь платоническое понятие генады, скрытое в этом богословии за понятием ипостаси. В самом деле, как бы ни понималось единство сущности — предшествующим или последующим ипостасийному единству, — сама ипостась всегда выступает в качестве генады — единого, единичного сущего. Если это понятно, нетрудно будет обнаружить и два другие момента этой триады Ума. Достаточно спросить: фиксируем ли мы какие-либо изменения в понятии первой ипостаси, когда мыслим ее саму по себе и когда мыслим ее как одну из трех, в качестве источника двух других? Очевидно, разница есть, а именно — только во втором случае эта ипостась мыслится обладающей свойствами, в первом же — это не только не обладающая свойствами, но и безымянная ипостась, ибо даже ее имена называют не что иное, как отношения. Тогда, если Отец в Св. Троице именуется Умом или Мыслящим, то Его мышление в до-троическом бытии будет не чем иным, как предмышлением, ибо в рамках данной системы имен это будет до-логосное мышление. Наконец, мы уже говорили, что в этом первом до-троическом моменте мышления сущностное единство неотличимо от ипостасийного, значит, это такое единство, которое и внутренне никак не различается; следовательно, если во втором моменте такие различия все-таки фиксируются, то они имеют источником то же самое первичное единство; это и есть то, что Плотин называл энергиями Единого, результатом явления которых оказываются положенные генады-ипостаси.
Все вышеприведенные рассуждения, конечно же, отсутствуют в каппадокийском богословии по той причине, что оно не занималось априорным выведением своих категорий. Тем не менее, поскольку мышление не может ни начинаться, ни заканчиваться тремя категориями, как не может быть и трех абсолютных начал, то рефлексия троичности в себе к абсолютному единству и затем вовне к всеединству представляется мне для мысли делом неизбежным. Можно усилием воли остановить эту мысль, но если позволить ей развиться от начала и до конца, результат будет таков. Да, троичность в таких построениях оказывается сводимой к единству и выводимой из него, и это объективный недостаток таких построений, поскольку в вечности нельзя мыслить процессов; однако все до единого богословские построения имеют тот или иной недостаток, так что не будем ни отчаиваться, ни предъявлять к богословию как таковому чересчур строгих требований, ведь и сам Ум кружится вокруг Единого, но не может обнять Его.
С. 2. Умопостигаемое, Умное, Ум и Троица каппадокийского богословия
Если бы мы попытались сравнить происхождение Души из Ума с исхождением Святого Духа, то сразу бы увидели, что такое сравнение невозможно: эти процессы понимаются в платонизме и христианстве различно. Но поскольку мы говорим, что триада каппадокийского богословия — это существенно триада Ума, постольку мы должны понимать Дух аналогом умного, а не Души. И если мы будем сравнивать таким образом, то сразу же увидим буквальное сходство этих концептов. В самом деле, как из умопостигаемого возникают сразу же умное и мыслящий, ибо умопостигаемое, достигая полноты своего бытия, становится самомышлением и, следовательно, актуализируются разом и мышление, и мыслящий, хотя и то, и другое логически позже умопостигаемого и его порыва к Единому, — так же и Отец производит разом Сына и Духа из Своей сущности. В обоих случаях мыслится одна причина и два следствия, в обоих — присутствует строгая логическая субординация. Выше мы уже говорили, что христиане считают первым мыслящего, а платоники — умопостигаемое. Это различие непреодолимо. Однако, если мы примем во внимание, что Душа-Ипостась у Плотина, Душа — как истинная Жизнь истинной Вселенной — неотъемлема от Ума и, следовательно, теснейшим образом связана с категорией умно?го, сходство опять будет значительным.
Вообще говоря, есть три исторически осуществившихся способа строить богословские триады. Первый — эманационный, при котором каждое следующее понятие, так сказать, подчисляется предшествующему; второй — эволюционный, при котором третье понятие есть синтез двух первых; и третий — тот, который мы описали выше и который наблюдается как в ноологии Плотина, так и у каппадокийцев. При этом, Троица Ипостасей у Плотина организована именно по эманативному принципу, и потому не должна соотноситься с Троицей христианства.
С. 3. Ум как Творец и истинная Вселенная у Плотина и соответствующие моменты каппадокийской триадологии
Итак, в троическом богословии Отец занимает в христианской триаде то же место, что и творящий в себе Ум у платоников, но результатом такой деятельности у платоников оказываются все без исключения божественные вещи, в христианстве же первая Ипостась производит лишь две другие Ипостаси. Далее, творящий Ум в неоплатонизме является творцом Души, и мы не знаем, с чем ее сопоставить в христианстве. Таковы трудности. Что же касается деятельности Бога-Ума в небожественном, то она понимается в обеих богословских системах сходным образом. Другой вопрос, что для каппадокийцев Ум оказывается, так сказать, всем Богом, для платоников же — одной из божественных Ипостасей. Однако, что касается деятельного присутствия этой Ипостаси в низшем, то здесь расхождения незначительны. И в том, и в другом случае творчество Ума не сопряжено с насилием, а Его попечение о сотворенном не связано с представлением о предопределении. И в том, и в другом случае результатом такого действия мыслится обожение низшего; другой вопрос, что само это обожение у христиан распространяется лишь на них самих (в лучшем случае, на человечество), для платоников же этот процесс прежде всего относится к космосу в целом. Равно и свобода для большинства христиан обозначала, в первую очередь, свободу выбора (счастливое исключение здесь составляет, прежде всего, св. Максим Исповедник ), для платоников же — жизнь, согласную природе. Фиксируя все эти и многие другие не упоминающиеся здесь различия, мы не должны, однако, забывать, что все они — лишь мировоззренческие различия, а не богословские, и потому — сколь непреодолимые исторически, столь же легко снимающиеся в мышлении. Основное же понятие о причинно определяющем Боге-Уме (мы помним, что у св. Василия Отец — причина творческая, Сын — формальная, Дух — целевая) и разумосообразном бытии творения свойственно как той, такой и другой богословской системе. Можно сказать, что по мере удаления от представления о библейском Боге воинств, по мере превращения свирепого Аллаха пустынь в мудрого Аллаха Севильи и Багдада, богословие народов Книги все более склонялось к мысли о Боге-Уме Аристотеля и Плотина.
Теперь, что касается первых трудностей. Обе они редуцируются к вопросу: мыслится ли Бог истинно сущим в христианстве? Если да, то можно найти и моменты, адекватные платоническим, если же нет, — то не следует и искать. Строго говоря, поскольку от Св. Троицы каппадокийского богословия постоянно требовалось быть еще и простой, и сверхсущей, этот термин — истинно сущее — крайне редко встречается в восточном богословии (в свое время мы скажем об употреблении этого термина Дионисием Ареопагитом) в качестве определения или имени Бога, ибо такое определение сразу же сделало бы Первоначало сущим (впрочем, выше мы уже показали, что Оно оказывалось сущим в этой богословской системе и без этого термина). А раз дело обстоит именно так, то и все, что связано с Душой, в христианском богословии присутствует лишь скрыто, в виде неясных намеков у отдельных писателей. Вообще говоря, в этом богословии место Души Всего достаточно прочно занял мир ангелов, так что и все те феномены, которые Плотин объяснял через мировую симпатию и более частные виды психических взаимосвязей, начали объясняться через вмешательство тех или иных духов; впрочем, то же самое имело место и в неоплатонизме со времен Ямвлиха. В более поздние времена различными мыслителями неоднократно делались более или менее удачные попытки «конвертировать» платоновское учение о Душе в христианство, что привело в том числе и к созданию разнообразных софиологических учений. Я не являюсь сторонником введения новых понятий и, тем более, не разделяю желания «протащить что-либо под полой»: вполне достаточно просто учить об одушевленной Вселенной; с моей точки зрения, следует открыто признать каппадокийское учение в этом вопросе недостаточным, как и аристотелизм, на котором оно основано. Так или иначе, но сравнивать платоническое богословие здесь не с чем.
У этой мысли есть еще один обертон, вслушиваясь в который, можно получить совсем другие результаты. Вопросы: «Есть ли Бог истинно сущее? Происходит ли Душа Всего от истинной Души и истинной Вселенной?» — могут быть редуцированы к вопросу: «Соединено ли космическое бытие ипостасийно с Богом?» Если рассматривать креационистскую доктрину христианства, ответ будет резко отрицательным: оно соединено с Ним, в лучшем случае, энергийно. Однако, если рассматривать учение о Боговоплощении, то мы найдем учение о восприятии в ипостасное единение человеческой природы. Но возможно ли такое соединение одной из космических природ, без воссоединения с космическим целым? Говоря языком русской литературы, был ли Христос для зверей и птиц? И потом, если представлять рай населенным только блаженствующими душами, разве не окажется это скучнейшим местом на белом свете?
Одним словом, есть множество косвенных доказательств того, что говорить об ипостасном соединении космического бытия с бытием божественным возможно и нужно. А если так, то и избавиться от навязчивого библейского историзма ничего не стоит, ибо что значат все эти «было» и «будет», когда речь, как у ап. Павла, идет о присутствии Бога «Всего во всем»: либо такого никогда не было и не будет, либо такое есть, и есть всегда. Что значит Бог будет «всё во всем», можно подумать, что было время, когда он не был таким образом: все изменения могут касаться только твари: проникая и сейчас и всегда этот мир, Господь после грехопадения являет в нем Себя как гнев, суд и огонь для существ отпадших далеко и как роса отдохновения и благодати для приближающихся к Нему — так было всегда и есть, и до боговоплощения и в момент боговоплощения и после него, не вижу никаких оснований считать, что как-то иначе будет. Разворачивание этой темы побудило бы нас к самостоятельному богословскому творчеству, чего данная статья не предполагает.
Заключение
Не без труда мы подошли к завершению двух частей нашей работы, ибо она требовала порой весьма скрупулезного исследования. Проанализировав в первой ее части предпосылки каппадокийского троического богословия и сравнив их с предпосылками аналогичных построений Плотина, мы выяснили, что различия между ними сводятся к хорошо известному различию платонизма и аристотелизма. Мы видели это различие и в самой ткани богословской триадологии, мышления о Сущем Боге. В третьей части нам предстоит разобрать и сравнить мышление о Сверхсущем в той и другой школах.
1 Говорю здесь обобщенно, главным образом о православных интеллектуалах-традиционалистах, правящих бал в духовных школах страны. Разумеется, во-первых, в РПЦ есть и куда более проницательные мыслители, и, во-вторых, едва ли в других христианских конфессиях, а тем более у традиционных иудеев и мусульман, дела обстоят значительно лучше.
2 Мне возразят, что трактат имеет сугубо полемическую направленность. Но разве из этого следует, что он не имеет философского значения? С моей точки зрения, не следует. Если бы св. Василий Великий потрудился изложить свои гносеологические воззрения в отдельной работе, он сильно бы облегчил нам труд, но поскольку этого не произошло, мы вынуждены черпать знания о его методологии из тех сочинений, которые находятся в нашем распоряжении. Если принять во внимание немногочисленность наших источников, почти полное отсутствие следов гносеологической саморефлексии и в античности, и в византийский период, мы должны благодарить судьбу за то, что у нас в руках оказался хотя бы такой текст.
3 Это сказано достаточно резко, но для последовательно проводимого эмпиризма невозможно ни памяти того, что было с тобой до рождения, ни предвидения того, что будет, и если некоторые мыслители, будучи эмпириками, все-таки признавали реальность такого рода знаний, то это с их стороны непоследовательность. Для всех такого рода людей умное состояние души будет сверхестественным, для тех же, кто учит о божественном происхождении души, — естественным. Для всех, кто говорит о человеке как о составленном, все чисто душевное окажется данным свыше и по благодати (это совершенно справедливо в этой системе координат), для тех же, кто считает тело темницей, — родным домом. Поэтому и выступление из дискурсивного состояния сознания для человека, настаивающего на том, что он, человек, есть нечто составленное из души и тела, строго говоря, возможно только в сферу безмыслия, переживания, животной души, выступающей в животную же индивидуацию; для тех же, кто учит, что человек есть душа, должна существовать именно высшая, нежели душа, сфера, куда и попадает душа в случае остановки дискурсивного сознанияЭто сказано достаточно резко, но для последовательно проводимого эмпиризма невозможно ни памяти того, что было с тобой до рождения, ни предвидения того, что будет, и если некоторые мыслители, будучи эмпириками, все-таки признавали реальность такого рода знаний, то это с их стороны непоследовательность. Для всех такого рода людей умное состояние души будет сверхестественным, для тех же, кто учит о божественном происхождении души, — естественным. Для всех, кто говорит о человеке как о составленном, все чисто душевное окажется данным свыше и по благодати (это совершенно справедливо в этой системе координат), для тех же, кто считает тело темницей, — родным домом. Поэтому и выступление из дискурсивного состояния сознания для человека, настаивающего на том, что он, человек, есть нечто составленное из души и тела, строго говоря, возможно только в сферу безмыслия, переживания, животной души, выступающей в животную же индивидуацию; для тех же, кто учит, что человек есть душа, должна существовать именно высшая, нежели душа, сфера, куда и попадает душа в случае остановки дискурсивного сознания
4 «Самадхи с опорой» — разновидность медитации, при которой сосредоточение достигается благодаря концентрации внимания на «опоре» — том или ином предмете (например, медной бляхе, пламени или пупе, как в случае исихастов).
5 В отличие от небесных иерархий Ареопагита, Ум у Плотина играет существеннейшую роль в вопросе богопознания. Во многих местах своих сочинений Плотин свидетельствует о том, что постижение Единого происходит через Ум, посредством Ума, «на гребне движения Ума». Ум у Плотина — это сфера, которую не может минуть тот, кто движется к Единому, как и к Уму нельзя прикоснуться, минуя Душу. Я употребляю здесь топографический язык, как наиболее близкий мыслителю (да, впрочем, и всем, кто понимает свою жизнь как странствие — неважно, Одиссея или Авраама). Ум у Плотина — это в полном смысле Спаситель, как в смысле жизненном, ведь именно в нем и с ним всякая душа обретает вечную жизнь, так и в смысле гносеологическом, ибо помимо Ума невозможно никакое познание вообще, а тем более — познание Единого. Благодаря столь определенному соотношению уровней божественного бытия, стройно выстраиваются и уровни познания, и один отличим от другого.
6 Меня можно бесконечно долго бранить за то, что в качестве источника я использую старую русскую рецензию на еще более старую греческую книгу Папамихаила, но тот, кто знаком с византийской письменностью, прекрасно знает, сколь трудно бывает отыскать в огромных по размеру творениях философски насыщенные фрагменты, которые могли бы дать представление о всей системе того или иного мыслителя, а тем более это тяжело, если речь идет о характерном для традиции в целом. Даже в аскетической письменности дело обстоит именно так: например, крошечное Предание о жительстве скитском преп. Нила Сорского сто?ит всей практической части Добротолюбия, ибо это чистая система аскетики, не разукрашенная ничем посторонним, и мне чрезвычайно приятно отметить, что этот в собственном смысле философский труд принадлежит именно русскому подвижнику. Вообще, Нил Сорский в своей работе с источниками подобен Пифагору: тот ведь тоже пользовался колоссальным количеством вавилонских, а возможно, и египетских сочинений по наблюдательной астрономии; результатом его деятельности, однако, стала первая в древнем мире система Вселенной, в которую вписался весь известный ему материал, утратив вместе с тем и самостоятельное значение.
7 Творение понималось у св. Василия как творение «в начале», т. е. до времени, следовательно, при взгляде из времени это творение мгновенное, не имеющее временного протяжения. Соответственно, и «творение седьмого дня», т. е. не прекращающееся по сию пору развертывание логосов в материи, не говорит о том, что появляются сами логосы, но — что к их восприятию становится готовой материя, не способная вместить ни все время разом, ни все логосы в один и тот же момент, так что это творение обозначает сразу же и покой Бога.
8 Скажут: а как же книга Бытия и огромная традиция ее толкования. Во-первых, насколько мне известно, собственно иудейская традиция толкования оформляется во что-то более или менее определенное лишь к I веку до Р. Х. и, следовательно, не может, пусть даже и опосредованно, не зависеть от эллинистической мысли. Тем более это верно, если речь идет о христианской экзегетической традиции. Во-вторых, и это самое главное, в самой книге Бытия нет никаких намеков на творение из ничто, в том смысле, в каком говорил о ничто Платон, и в каком говорим о нем мы. Описание первичной стихии: «безвидна и пуста» (евр.: «тоху вабоху»), «бездна» (евр.: «техом») — именно в силу древности книги Бытия — принадлежат еще чисто вавилонской системе образов и символизируют водный хаос, нечто вроде вавилонской богини Тиамат или греческого Океана (хотя последний куда менее вреден и куда более покладист), так что авторы комментариев к Брюссельской Библии предлагают толковать эту стихию как действие демонических сил, воспротивившихся творению (см.: Библия, Брюссель, 1989. С. 1853). Как бы там ни было, любые спекуляции о всемогуществе Творца и, следовательно, о творении «из не сущих» являются позднейшими осмыслениями этого, по структуре своей еще чисто мифологического, текста. Библейская космология вообще в достаточной степени зависима от космологических представлений народов, с которыми иудеи входили в плотный контакт, например, в космологии Псалмов остро чувствуется египетское влияние: твердый небесный свод и земля, воды, опоясывающие земно-небесную твердь — по ним в представлении египтян плыли в своей ладье Гор и Озирис; время от времени разверзались «хляби небесные» и на землю проливался небесный Нил. Вообще говоря, мифологический элемент невозможно отделить от ветхозаветной литературы, так что я считаю бессмысленным, возводя теологию к Моисею, навязывать библейскому тексту чуждые древним иудеям формы сознания.
9 Само представление о том, что Бог мог бы и не творить, не подчеркивает Его всемогущества, но бесконечно умаляет Его. Ибо здесь моделируется ситуация свободы выбора, однако выбор как таковой имеет место тогда, когда есть две возможности, но возможности есть исключительно в конечном живом существе, Бог же всецело в действительности. Сказать, что Бог мог бы и не творить мир, все равно что сказать, что было время, когда Он его не творил, т. е. поместить Бога во время. Но раз время было сотворено, то и не было времени, когда Бог не творил, а раз не было такого времени, то не было и никакой возможности, перешедшей в действительность, ибо такой переход необходимо предполагает последовательность и, значит, время, а раз не было никакой возможности, то не было и выбора. Мы не можем смоделировать условия осуществления Богом Своей деятельности, но из этого не следует, что мы имеем право на противоречащие даже здравому смыслу утверждения. Бог выше свободы и необходимости, и усваивать Его деятельности одно из этих определений (все равно, какое) — это абсолютный абсурд.
10 Я далек от мысли отвергать ценность практик сосредоточения: они являются необходимым условием и боговедения, и познания себя, однако интеллектуальный контекст, в котором они появляются, порою весьма различен, так что и бегство от мира для различных людей обозначает разное, хотя бы и выражалось это бегство в одном и том же; об этом убедительно писал Плотин в Энн. II. 9.
Но скажут, причем тут, вообще, подвижничество и тот или иной «понятийный аппарат»? А как, я спрошу, он может быть для подвижника безразличен: если бы даже ему приходилось работать только со своей душой и ее движениями, все равно понятие того, с чем он работает, в этом случае было бы принципиально важным; то же самое касается и знания о добродетелях, и всего того, что так или иначе связано с подвижничеством. С моей точки зрения, именно при анализе аскетических практик, вскрыть их философскую подоплеку является несравненно более важным, нежели определить религиозную принадлежность. Так, например, при анализе восточных практик куда важнее бывает установить йогический или тантрический «понятийный аппарат», стоящий за тем или иным упражнением, нежели констатировать тот факт, что такого рода упражнение практикуется индуистами, буддистами или мусульманами. То же самое касается и христианских аскетических практик: то, что все они христианские, не дает нам никакого понимания, что это за практики, а как только такое понимание приходит, обнажается и та философия, которая конституировала их, хотя, как правило, не она их вдохновляла. Порыв к Богу — единственная истинная причина аскетики; дух, движущий ее и животворящий, с необходимостью локализуется в тех или иных понятиях, которые и определяют, чем станет этот порыв. Так же и любовь к другому человеку необходимо принимает какие-то формы выражения, и от того, что это будут за формы, не в последнюю очередь зависит, будет ли она более или менее долговечна, глубока и т. п.
11 Скажут, а как же чудотворения, дары прозорливости и проч., но все это не является не только философскими явлениями, но даже и религиозными, я, например, сам сталкивался с человеком, далеким тогда еще от всякой религии и тем не менее совершавшим дела, свойственные лишь чудотворцам. Вообще, говоря, об «ограниченности взгляда на вещи космические» я имею в виду целый комплекс явлений, связанных с недоразвитостью, так сказать, средней, душевной части у большей части людей средневековой культуры. Устремление к Богу и — незнание мира; подвиги, воздержание и — отношение к браку, как средству продолжения рода (т.е. абсолютное бесчувствие мистики полов); культура мистериальных переживаний и — абсолютное равнодушие к природе; сострадание Христу и — колонат, а порою и рабовладение, вообще черствость относительно страдания любых других живых существ; стремление к Истине в самом высоком смысле слова и — административные способы доказательства своей правоты; напряженная озабоченность своей душой и — отрицание одушевленности мира и т. д. и т. п. Из этого правила были, конечно же, отдельные светлые исключения, но они не создавали духовного климата той эпохи. Вот, например, свт. Григорий Палама, которому трудно отказать в стремлении к богопознанию, не видит ничего страшного в том, чтобы оклеветать Плотина, причем так мелочно и грязно, что я даже не хочу этого повторять (см.: Св. Григорий Палама. Триады. М., 1995. С. 121-122), причем автор комментариев В. Бибихин не находит ничего лучшего, чем сказать: «Типичная для Паламы и вообще поздневизантийской полемики передержка...». Я далек от такого благодушия.
12 Учение о двойной истине, которое, благодаря свт. Григорию Паламе, в последнее время находит все больше и больше сторонников в России, не является, конечно же, новостью для христианства. На Западе оно даже было соборно осуждено во время борьбы с аввероизмом. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет и в РПЦ. Пока же всех желающих говорить о двух истинах, следует спросить: а почему их не три, например? Может быть, истин три, а те, кто признают лишь две, суть скрытые духоборы? Но если Христос есть путь (по-гречески: «метод») и истина, то одна истина, а не две. Желание отстоять свою точку зрения и неспособность, действуя разумными методами, опровергнуть оппонента побудила Паламу высказаться таким образом. И если ему можно посочувствовать как человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, то ни в коем случае с ним нельзя согласиться как с мыслителем. Кроме того, определяя истину через Христа, мы еще ничего не говорим о том, что есть истина имени, суждения и т. п., в этом смысле я и говорю, что Палама не определяет: что такое истина.
13 См.: Преп. Феодорит Киррский. О природе человека. // Восточные Отцы Церкви V века. М., 2000; Флоровский Г. В. Восточные Отцы Церкви IV века. М., 1992. С. 101.
14 Это заметил уже Г. В. Флоровский. См.: Восточные Отцы Церкви IV века. С. 114.
15 Скажут: христиане мыслят перевоплощение именно в своё тело. Но что вы называете «своим» телом, то тело, которое вы теряете по смерти и которое становится телами других живых существ? Собственно «своим», на мой взгляд, можно назвать не тело, но ту душевную силу, которая его созидает, и созидает по определенному закону, так что и сама эта деятельность затухает, и производимое ею тело в конце концов гибнет. При таком понимании вопроса воскресение тел будет обозначать пробуждение этой деятельности, а поскольку это будут уже тела нетленные, то — пробуждение этой деятельности в новом качестве, руководствуемой другим законом, ибо в горниле бесплотной жизни душа неизбежно изменится и преображенной приступит к новому созиданию. И кто знает, что будут представлять собой «собственные» тела нераскаянных грешников, если уже даже в этой жизни в их телах наблюдается что-то зловещее и патологическое. Это построение, конечно, только догадка, но она нужна здесь, чтобы, освободившись от привычных образов, разбудить мысль и показать, что «воскресение мертвых» — не бессмысленный лозунг, но положение, о котором можно и нужно думать.
16 Этот тест едва ли способен выявить перипатетиков из среды богословов, ибо из этой среды никто, по-моему, не доходил до такого безумия, однако отличить богословов от натуралистически настроенных не-богословов таким образом вполне возможно, ибо все те, кто учит о тонких телах в качестве душ, с необходимостью должны признавать также и половую дифференциацию этих тел. Понятно, что речь здесь идет, главным образом, о мистиках и простонародных «теософах-натуралистах». Для классически же образованной публики есть другой тест: все те, кто не признает ангелов более совершенными существами, нежели люди, необходимо придерживаются аристотелевской психологии, и наоборот. Максим Исповедник, например, полностью принимавший учение о «кожаных ризах», мысливший душу почти по-платоновски, учит о единстве всех тварных разделений во Христе и об уподоблении Христу душ подвижников, вырастающих в ангелов. Душа подвижника, становясь все более собой, снимает разделение полов, равно как и временные, и все остальные разделения, становясь душой бесплотной, всеведущей, ангельской. Напротив, у Паламы, для которого человек оказывается совершенней ангелов именно в силу своей телесности, душа есть именно энтелехия определенного тела. Ангелам, должно быть, не будь они ограничены рамками своей природы, следовало бы стремиться к воплощению в человеческое тело, в том числе и к половой дифференциации. Это, разумеется, абсолютный абсурд, и сам Палама таких выводов, конечно же, не делает, но они следуют из его слов.
17 См.: 1 Кор. 1, 5 или 2 Кор. 12, 12. Эти примеры можно умножить.
18 Умное у Плотина воспринимаемо чувствами (мы об этом писали в статье к пятой Эннеаде), так что никакого противоречия между умностью и осязательностью я здесь не вижу.
19 На первый взгляд кажется, что это противоречит введенному Леонтием Византийским учению о «воипостасности». Но что оказалось во-ипостасным Логосу? Другая ипостась? Если бы это было так, мы бы имели во Христе две природы и две ипостаси, и наше учение ничем не отличалось бы от несторианского. Поскольку же во Христе именно одна Ипостась и одна воля Ипостаси, хотя и две природные воли, постольку воспринята была именно природа человека, а не конкретный «готовый» уже человек, человеческая природа обрела свою «субъектность», свою Ichheit («яйность») в ипостаси Бога. Потому и спасена оказалась собственно сама природа, а не те или иные люди, потому и каждого из нас спасает спасенная во Христе природа: как пишет св. Каллист Катафигиот: «Есть люди, для которых по мере преуспеяния каким-то более возвышенным образом их собственная природа становится и является манною» ( О божественном единении и созерцательной жизни, цит. по изд.: Православный собеседник, Казань 1898, С. 85).
Я прекрасно понимаю, сколь сложен этот вопрос и сам по себе, и в связи со сложившимися религиозными практиками, например, молитвы Иисусовой, поклонения святым, и особенно в связи с протестантской проповедью личного спасения личной верой. Однако с моей точки зрения, если строго следовать логике догмата, получится именно то, о чем я говорю: теория соборного спасения должна крепко укрепиться на космологических, надперсональных основаниях.
Как же, в таком случае, может оставаться бесстрастной божественная Ипостась, ведь мы не можем допустить в Богочеловеке двух «я» и, тем не менее, утверждаем, что Его страдание не было кажущимся? Никак, если мыслить страждущей ипостась как таковую, в том числе и человеческую. Ипостась как таковая не подвержена страданию, и все, что существует ипостасийно, существует бесстрастно; страждет природа и те ложные «я», которые сами являются следствием греха, поэтому если бы Христос, воплотившись, не взял на Себя грех мира, то не пострадал бы и не умер. Но разве воплощение не было восприятием падшей природы и, тем самым, разве автоматически не произошло восприятие греха? Да, так, однако было не только восприятие, но и преодоление этой самой испорченности природы, ведь что такое гефсиманская молитва, если не отвержение «социального я», и что такое крестная смерть, если не отвержение «животного я». Под отвержением я здесь понимаю некое их противоестественное самобытие — такое же, как «я» той или иной страсти, когда уже не знаешь, с человеком ли ты говоришь или с его честолюбием. Потому и проповедовал Христос среди отверженных, что в них меньше было ложной самостности; и потому же страдание может очищать.
20 Знаменитое библейское «Аз есмь сущий» — это далеко не то же самое, что сущность, ибо «сущий» обозначает существующий вообще, а сущность — основание существующего, с неизбежностью отличное от его явленности.
21 Следует согласиться с тем, что у самих каппадокийцев влияние платонизма чувствуется в значительно большей степени, чем у Дамаскина, однако же и они (епископ Нисский в меньшей степени) в главных своих положениях оставались все-таки перипатетиками. Именно это в их богословии и было востребовано позднейшей традицией.
22 В основании этой апории лежит так называемый феноменологизм Аристотеля, так что корни этого учения следует искать более чем за тысячелетие до Дамаскина. Аристотелевский феноменологизм полностью укоренен в замысле создания демонстративной науки о сущем. Разберем это на каком-нибудь примере из Дамаскина, который приводится им для пояснения, что есть сущность, например: «Медь и воск — субстанции, а фигура, форма и цвет — акциденции. Не тело находится в цвете, а цвет в теле, не душа в знании, но знание в душе, не медь и не воск в фигуре, но фигура в воске и меди... Цвет и знание, и фигура изменяются, тело же, душа, воск остаются теми же самыми, так как субстанция не меняется». Вот уж в чём, а в «демонстративности» этим примерам не откажешь — они вполне очевидны. Однако, так ли это на самом деле? Достаточно спросить: что такое тело, душа и воск, чтобы получить вновь внутренние форму, фигуру и цвет, и так до последней из форм, обнимающих собою ничто. Поэтому тело существует через цвет, душа через знание, воск через фигуру: без этого они — ничто, хотя это и не очевидно. Эта, так сказать, наглядность аристотелевского мышления противоположна сократо-платоновскому поиску последних оснований. Суть ее состоит в том, что поиск обрывается в тот момент, когда обнаруживается такое основание, которое нельзя «пощупать», ибо, как выясняется, демонстративность упирается в догматически закрепленное предположение о том, что существует лишь чувственно существующее. Во всех этих построениях, очевидно, предполагается подлинно существующим некая определенная «гюлэ», окачествованное подлежащее, — именно оно называется сущностью. Можно назвать это и материализмом (неважно — христианским, языческим или безбожным), но лучше бессмыслицей — бессмыслицей, насквозь пронизывающей «здравый смысл», являющейся основанием постоянной иллюзии, в которой, как это прекрасно понял Платон, общими усилиями пребывают наши души...
23 Интересно, что Григорий Палама, этот адепт сокрытой и непознаваемой божественной сущности, столкнувшись с последовательно проводимым агностицизмом Варлаама Калабрийского, быстро оценил всю опасность создавшегося положения, ибо вот уж в чем, а в опоре на агностические цитаты из отцов Церкви Варлаам мог себе не отказывать. Интересно также, что гносеология «от Предания» как-то сама собой редуцируется у него к аристотелевской; Палама пишет: «Если Бог есть единое и простое, а доказательства существуют в отношении ко всему простому, то нет препятствий и для доказательства в отношении к Богу» (Соколов И. И. Указ. соч. С. 98).
24 Так обстоит дело не только у такого эллинофила, как Григорий Богослов, но и, скажем, у такого яростного борца с языческой культурой, каков, например, блаж. Феодорит Киррский, только выражено это у него по-другому. Вот, например, его трактат О природе человека: здесь Феодорит с чисто восточной обстоятельностью перебирает и поносит учения всех греческих философов о человеке, не пропустив, по-моему, ни одного сколько-то значимого, и затем... ничего не может сказать о человеке сам, кроме общих мест, почерпнутых им у тех же философов! Это ведь тоже своего рода любовь, во всяком случае, привязанность. Примерам таким в ту эпоху нет числа.
25 Можно задаться вопросом: а почему, собственно, низшее сущее вообще стремится быть? Это хороший вопрос. В системе Плотина на него нет прямого ответа.
26 Такое понимание божественного присутствия может вызвать желание сказать о «пелагианстве» Плотина, ибо спасение здесь будет мыслиться как осуществляемое самим субъектом, Ум же — настолько обращен к Единому, что его господство почти не ощутимо, во всяком случае, не выражено в каких-то особенных действиях. Что же, в самом деле, если бы пелагианство было учением о спасении благодаря жизни, согласной природе, Пелагий мог бы быть назван, в этом отношении, платоником; но учение Пелагия было учением о спасении благодаря личным заслугам — в корне не эллинским учением, а потому и платонизм не должен пониматься через призму пелагианства, ибо чтó у человека могут быть за «заслуги» перед Умом? Чтобы появилось это понятие, нужно представить себе закон и какого-нибудь законника, наподобие сына Сирахова; попробуйте назвать добродетели Сократа или Диогена заслугами, и вы непременно почувствуете некую фальшь, а вот добродетели Августина — уже заслуги, и потому добродетели язычников для него — наряженные пороки, ибо они естественны, а заслуги нет.
27 Напомним эти предикаты: сущее, целостность, бесконечное множество, число, целое и части, фигура, бытие в самом себе и в другом, покой и движение, тождественность и инаковость, подобие и неподобие, соприкосновение и несоприкосновение, равенство и неравенство, время и части времени.
28 Имеется в виду учение преп. Максима Исповедника о воле-выборе, как свободной в меру ее подчиненности воле природы. Мы еще скажем об этом.
29 Т. е. говоря об истории вопроса, мы вынуждены говорить об этих различиях и даже противоречиях, однако если мы будем сами думать над ним, то примирение этих воззрений не составит большой сложности.
(Раздел II)
ЧАСТЬ III. Неоплатонизм и христианство
Мы видели, что в каппадокийской триадологии Бог мыслится Троицей и, вместе с тем, мыслится в категориях сущего; соответственно, мы и сравнивали учение о Сущем Боге в христианстве с учением о сущем Боге у Плотина. Однако, есть ряд христианских мыслителей, которыми Бог мыслится по преимуществу как Сверхсущий; это прежде всего Дионисий Ареопагит и Григорий Палама: этих мыслителей весьма мало заботила троическая проблематика, но учение о Сверхсущем дано у них с огромным напряжением, поэтому правильно сравнивать их учения с учением Плотина о Первоедином.
Логическая схема учений о божественных именах и о божественных энергиях, как у Дионисия, так и у св. Григория, во-первых — едина, во-вторых — предельно проста, в-третьих — возникает в одном и том же интеллектуальном контексте. Действительно, и Дионисий, и Григорий Палама мыслят, во-первых, некую сущность (или сверхсущность) — непознаваемое в-себе-бытие Первоначала (эта сущность уже не есть набор общих для ипостасей свойств, как это было в каппадокийском богословии, но именно бездна Сверхсущего) и, во-вторых, явленность этой сущности, причем у Дионисия это имена, а у Паламы это некие мистические явления (как взаимосвязаны имена и эти явления, пока не ясно); в-третьих, у обоих мыслителей это учение появляется в гносеологическом контексте... Несмотря на чисто аристотелевскую пару понятий (сущность и энергия), принято говорить о связях этих учений, особенно учения Дионисия, с неоплатонизмом. Значит, в первую очередь неплохо было бы обратиться к тексту самого Аристотеля и посмотреть, как работали в его богословии эти понятия. Учение о мирозиждущем Уме излагается Стагиритом в знаменитой XII книге Метафизики. Позволю напомнить основные его положения.
III. 1. УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ О БОГЕ-УМЕ
Итак, в первой же главе этой XII книги философ говорит, что предметом ее рассмотрения будет сущность, а сущности есть неподвижные и чувственно воспринимаемые, причем последние разделяются на вечные и преходящие. Если анализировать сущность чувственно пребывающую или, что то же, изменяющуюся, то мы найдем в ней, с одной стороны, нечто собственно изменяющееся, а с другой стороны — противоположность, т. е. то, из чего и во что происходит изменение; предельно возможная противоположность — это определенная форма и лишенность, а собственно изменяющееся есть материя; таковы мысли второй главы.
Здесь можно спросить: что же есть сама изменяющаяся сущность? Ведь если есть нечто постоянно изменяющееся, то должно быть и нечто постоянно пребывающее, иначе мы не сможем сказать даже то, что изменяется именно эта, а не другая сущность. Исходя из аристотелевских предпосылок, на этот вопрос можно ответить двояко. Во-первых, можно сказать, что собственно пребывающим является противоположность, и тогда вещь будет иметь свою сущность в роде (понятно, что лишенность не может быть определением). При таком ответе мы называем «вещью» то, что Аристотель называл чувственной сущностью, и, следовательно, утверждаем, что есть какая-то сущность сущности — вторая сущность. И, во-вторых, можно сказать, что чувственная сущность есть сама вещь — нечто составленное из материи и формы. Однако мы исходили из того, что сущностью, пусть даже и чувственной, должно быть нечто «постоянное в переменах», как сказал бы Гете, и теперь мы спрашиваем, что же есть это постоянное, ведь, очевидно, что вещь, составленное, — как раз и не может быть постоянным, а вторая сущность, очевидно, не есть сущность чувственная, т. е. не та именно, о которой мы рассуждаем. Таковы трудности в учении о чувственной сущности в системе Аристотеля, и на мой взгляд — неразрешимые: желая спасти существенность единичного и познания с опорой на наблюдение, Аристотель умеет лишь провозгласить это желание, но не осуществить его. Чувственная сущность, как бы ее ни рассматривать, все равно оказывается неким мутным потоком, существующим как что-то определенное только в родах (формах) или в энтелехиях, т. е. осуществленностях этих родов в единичностях. Ясно, что эта точка зрения легко редуцируется к платоновскому учению о вещах и идеях, так что весьма сомнительно, следовало ли вообще вводить новые понятия.
Начиная с шестой главы, Аристотель излагает учение о вечной (неподвижной) сущности: если сущности преходящи, то всё преходяще, но движение и время непреходящи, значит, должна быть и вечная сущность, и, следовательно, именно она есть начало всякого изменения.
Это и есть знаменитое космологическое доказательство бытия Божия. Интересно отметить здесь два момента. Во-первых, наличие вечной сущности доказывается именно из вечности чувственного движения и вечности времени — аргумент совершенно невозможный в креационистских, библейских богословских системах, в которых «вечность» космических движений заменяется, в данном случае, на наличие таковых движений вообще. Но тем самым и аргумент теряет всю свою доказательность и жесткость, ибо из того, что есть движение вообще, следует только то, что есть его причина, и, строго говоря, таких причин может быть много, но все они могут оказаться столь же тленными, как и это «движение вообще». Вся красота и ясность аргумента Аристотеля опирается именно на представление о вечном движении, у которого есть вечный же Источник, — движении, зримо явленном и вечно производящем все частные движения, если хотите, «движение вообще».
Далее, из того, что вечная сущность есть начало вечного же изменения, следует, что она должна быть деятельной, значит, она не должна быть в возможности, и, следовательно, «должно быть такое начало, сущность которого есть энергия» (Метафизика, Л. 6). Это, казалось бы, чисто «метафизическое» положение (в отличие от любых схоластических «доказательств») не имеет у Аристотеля никакой «метафизичности», хотя и содержится именно в Метафизике, так что, казалось бы, ничего «метафизичней» и быть не может.
В той же шестой главе Стагирит поясняет: «Если постоянно чередуется одно и то же, то всегда должно оставаться нечто действующее одним и тем же образом [т. е. сфера неподвижных звезд], а если необходимы возникновение и гибель, то должно быть и что-то другое, что всегда действует по-разному [т. е. Солнце в его годовом вращении через созвездия Зодиака], следовательно, оно должно таким-то образом действовать само по себе [т. е. двигаться по эклиптике], а другим — по отношению к другому [т. е. к сфере неподвижных звезд]». И далее, в седьмой главе: «Есть вечно движущееся непрестанным движением [т. е. первое небо, сфера неподвижных звезд] и есть нечто, что его движет... То, что движется и движет — среднее... То, что только движет, не будучи приведено в движение — вечно есть сущность и энергия» . Как же может двигать то, что само не движется? — Оно движет как предмет желания и мысли.
Нам важно здесь отметить, во-первых, опять же жесткую космологичность этого богословия, акцент, так сказать, на физиологию Духа и, однако же, именно духовность, немеханичность понятия Первоначала. Во-вторых, здесь впервые со всей очевидностью встает вопрос о материальности или нематериальности Первоначала в связи с вопросом о его сущностности и энергийности. С одной стороны, Первоначало именуется вечной сущностью, с другой стороны — это такая сущность, сущность которой (простите за тавтологию) есть чистая энергия, ибо она никоим образом не пребывает в бездействии и возможности, а следовательно, — как никоим образом не изменяющаяся — должна быть лишена всякой материи (об этом Аристотель говорит в Метафизике, Л. 6, 8). Но тогда можно ли назвать Первоначало сущностью? В строгом смысле, нет. Остановимся на этом подробнее.
В Метафизике, Ж. 11 Стагирит пишет: «Некоторая материя имеется у всего, что не есть суть бытия вещи и форма сама по себе», в гл. 8 двенадцатой книги: «Первая суть бытия не имеет материи, ибо она есть полная осуществленность. Значит, первое движущее, будучи неподвижным, одно и то же по определению и числу...» и далее, в главе девятой двенадцатой книги: «Ум не есть составленное, так как не имеет материи». Итак, бытие единым по материи и числу и нематериальность находятся в прямой связи друг с другом. Но тогда можно сказать, что Первоначало есть сущность — в аспекте определения и есть энергия — в аспекте числа, и тогда полная тождественность сущности и энергии это то же самое, что нематериальность.
Почему же платоники, и ближайшим образом Плотин, учили об умопостигаемой материальности Ума, и насколько это учение вообще можно возводить к Аристотелю, который, по-видимому, эту самую материальность в Уме отрицал?
Я думаю, дело здесь обстоит следующим образом: пока Первоначало берется самим Аристотелем как движущее, т. е. только относительно низшего, движимого, мыслитель и в самом деле не ощущает никакой необходимости в понятии умопостигаемой материи для раскрытия понятия Первоначала. Взятое в этом контексте, оно вообще слабо отличается от платоновского Единого. Но там, где он говорит о Первоначале в отношении к себе, там где он говорит, что Ум мыслит себя, блаженствует, живет наилучшей жизнью (Метафизика, Л. 7), он все равно допускает в Первоначале момент различенности, и если брать материю по-платоновски, т. е. как принцип инаковости, мы с необходимостью должны будем говорить об умопостигаемой материальности Первоначала, что и делал Плотин. Почему же этого не происходило у Аристотеля? Потому что материя у него была принципом становления, а не инаковости как таковой, — тем, что изменялось, но не тем, что различало. Это, в свою очередь, опиралось на различные акценты в понимании становления Аристотелем и Платоном. Для Платона становление обозначало небытийствование, т. е. в куда большей степени потерю форм, нежели их обретение, для Аристотеля же — переход из возможного в действительное, и поэтому, скорее, обретение форм, нежели их потерю. Соответственно, и материя в качестве принципа становления одним понималась как принцип небытийственности истинно сущего, вторым — как субъект оформления или даже обожения. Аристотель мог бы спросить Платона: на каком основании ты вводишь инаковость в единое сущее, если оно есть всецело энергия? Платон же, в свою очередь, мог бы спросить Аристотеля: каким образом ты сможешь мыслить единое сущее, не различая единое и сущее? Аристотель мог бы снова вопросить: на каком основании ты отождествляешь инаковость и небытийственность? Платон в ответ мог бы сказать Стагириту: а откуда ты вообще производишь материю, если ее нет в Уме?
Я думаю, это было бы только началом диспута...
Для нашей темы здесь важно следующее: 1) Учение о Первоначале как сущности и энергии, действительно, восходит к Аристотелю, однако, никоим образом нельзя отождествлять само это учение с его более поздними даже неоплатоническими вариантами. 2) Термин «энергия» у Аристотеля называет именно момент единства в Первоначале, а не множественности, момент единого, а не сущего, так что даже не до конца ясно, как совместить положение «Бог есть энергия» (Метафизика, Л. 7) с тем, что говорится о вечной сущности. 3) Несомненно, что в учении Аристотеля заложены и совершенно не-платонические возможности прочтения его учения об Уме, так что и христианские, и мусульманские, и еврейские богословы, я думаю, с полным правом могли основывать свои учения на системе Стагирита. Ибо, вообще говоря, это учение в своем богословском аспекте (в отличие, скажем, от натурфилософского) куда более поставило вопросов, нежели разрешило. 4) Наконец, самое главное: аристотелевское учение об Уме допускало возможность мыслить как Ум, лишенный умопостигаемых различий и материи, — и тогда он мыслился как Сверхсущий, — так и Ум, обладающий материей и различиями, — и тогда он оказывался Сущим и, соответственно, Троицей. Наиболее смелым выводом из этой неопределенности могло бы быть положение «одно и то же Всё и Единое», который и был сделан, однако, уже не античными мыслителями, и который сам требует самых тщательных толкований. И раз уж византийское богословие заложило основания как для новоевропейского гуманизма (что не очевидно, и что мы постараемся показать), так и для богословия Всеединства (являющегося, на мой взгляд, вершиной гуманизма близкой к тому, чтобы совпасть с его основанием), то нашей задачей будет продемонстрировать, каким образом это произошло.
Однако, вернемся назад и еще раз скажем о том, как понятия сущности и энергии работали в философии Плотина.
III. 2. Богословие Единого у Плотина
III. 2. 1. Энергия и сущность в богословии Плотина
Строго говоря, у Плотина есть три понятия, называющие идеальное в его отношении к реальному, а само реальное делится им на чувственное и умопостигаемое. Проще всего представить это в виде следующей таблицы:
|
Группа понятий A |
Группа понятий B |
Группа понятий C |
|
Душа |
Чувственное тело |
Умопостигаемое тело |
|
Идея |
Чувственная вещь |
Умопостигаемая вещь |
|
Энергия |
Чувственная сущность |
Умопостигаемая сущность |
Относительно групп понятий В и С, группа понятий А берется философом в трех отношениях: А до B ; А вместе с В; А после В. То же самое справедливо и относительно А и С. Соответственно, мы имеем две триады, в каждой из которых имеют место свои отношения между ее членами и которые как-то связаны между собой.
Сначала скажем о триаде умопостигаемого. Это чисто эманативная триада, ибо все отношения и действия в ней совершаются внутри одной и той же природы; другими словами, иное пока еще не выступило в самобытие, и потому мыслится только божественное. Соответственно, тело, вещь и сущность в умопостигаемом, не будучи сущностно иными энергии, идее и жизни, не будут представлять из себя чего-то реально различного, но одно и то же будет различаться здесь только по смыслу, но не по факту, ибо все божественное бытие есть один факт.
1. Итак, прежде всего мы обнаруживаем ряд суждений (по схеме А до С), утверждающих, что Единое как чистая энергия раньше всякой сущности и Ума, Ум раньше Души, генады раньше эйдосов и т. п., одним словом, мы обнаруживаем тексты, в которых энергия мыслится порождающей сущность. Плотин пишет об этом, например в Энн. V. 1. 5-7; V. 3. 12; VI. 7. 31; VI. 9. 1 и т. п. Это порождение здесь не есть выход за пределы своей природы, но именно эманация — продвижение вперед, развитие в пределах себя, не встречающее никакого сопротивления и искажения. Хотя высшее и низшее, первое и второе берутся здесь вне времени, так сказать, чисто логически, однако Плотин потому и не является сторонником равночестности, что не считает эту последовательность чем-то исключительно мыслимым нами, но именно реально существующей: раз что-то действительно получает свою ипостась и бытие от другого, то это другое, понятно, обладает бóльшим достоинством, хотя бы и в рамках одной и той же природы.
2. Далее, есть ряд суждений, называющих этот процесс как ставший (по схеме А вместе с С): это все те суждения и имена, которые описывают и именуют божественную жизнь в целом, например: Энн. V. 2. 1-2; VI. 5. 4. Здесь совершенно очевидно, что поскольку С не иносущно А, то А существует в С настолько же, насколько и С существует в А. Это божественная мистерия Всего во Всем.
3. И наконец, есть суждения, в которых божественное действие мыслится выходящим за пределы божественной природы (А после С): или в онтологическом смысле творения и промышления о небожественном сущем, или в гносеологическом смысле явления божественного не-божественному. Строго говоря, в этой части учения, опирающейся на различие энергии внутренней и внешней, у Плотина нет большой ясности, ибо и момент единосущия в самом Божестве дан у Плотина сравнительно нечётко. Тем не менее, мы должны отметить эти суждения, как нередуцирующиеся к другим, например: Энн. V. 1. 12.
Несколько иным образом дело обстоит в случае соотнесения А и В: здесь В есть иная сущность относительно А, соответственно, и ни о какой эманации речь идти не может. Это уже не развитие, но умаление божественного, и логика отношений во второй триаде — чисто кенотическая (если можно здесь воспользоваться христианским термином) логика.
1. Если мы говорим, что А производит С (по схеме А до С), то для А это значит, что оно остается высшей, нежели С действительностью, но если мы говорим, что А производит В, то это значит, что оно оказалось потенцией В — чем-то, что еще только находит свою действительность в В (таким образом мы говорим, например, о способности к обучению в ребенке и действительном знании ученого мужа). Можно сказать, что то, что в пределах первой триады было энергией, становится во второй триаде силой; при этом сам момент этого перехода весьма таинственен. Термин «кенозис» собственно и называет превращение божественной энергии в мирозиждущую силу. Вообще, явленность Божества и восприятие этой явленности иным — это одно и то же (причем в качестве субъекта становления, ибо неизменной компонентой становящегося, позволяющей фиксировать само становление, не может быть само изменяющееся иноеничто иное).
Все такого рода рассуждения у Плотина уже анализировались нами в предшествующих томах — и в связи с его рассуждениями об эйдосе в материи, и в связи с душой, порождающей тело.
2. Но если происходит восприятие божественной явленности иным, то оно приводит, с одной стороны, к усвоению этой явленности низшим и иноприродным, так что само это низшее оказывается вошедшим в формы божественной жизни, с другой же стороны, высшее оказывается «втянутым» в сферу низшей действительности (схема А вместе с В значит, что А становится энергией В): иная сущность начинает обладать А как своим, А отчуждается от себя, существуя вместе с В. Однако же, как в первом моменте, так и во втором А остается собой, т. е. божественной энергией, что и определяет третий момент отношения.
3. «А после В» означает прекращение общения с иносущным, возвращение души, идеи, энергии «в свое истинное отечество», к бытию «Всего во Всем», в некоторых случаях (например, в случае единичного растения) — возвращение к первому моменту (А до В), т. е. потенциирование, слияние с мирозиждущей силой; в случае же разумных душ или единичных умов это вхождение во второй момент первой триады.
Итак, различив эманативное и кенотическое движения, мы, в первую очередь, можем понять те изменения, которые претерпел платонизм под влиянием Прокла. Мы уже говорили прежде, что у Прокла отсутствует учение об Уме; строго говоря, у него отсутствует и учение о двух триадах — он не видел разницы и между вышеописанными видами движений. Для Прокла существовала только эманация, причем эта эманация в использующихся нами терминах должна обозначаться термином «кенозис». В самом деле, у Прокла мы не наблюдаем никакого различия сущностей — божественной и не-божественной; из этого, казалось бы, должно следовать, что он распространит на «тварь» движение, свойственное божественной сущности, но нет, дело обстоит прямо наоборот: божественному в его системе усваивается не-божественное. У Плотина эманационное движение происходит от потустороннего Единого к Уму, следовательно, от в-себе-бытия к для-себя-бытию, и затем к Душе, которую от Ума отличает именно то, что в ней как бы вновь восстанавливается в-себе-бытие, движущееся теперь к вне-себя-бытию. В триаде вне божественного движение происходит от в-себе-бытия (т. е. первичной потенции) к вне-себя-бытию (т. е. реализации этой потенции в чувственной сущности) и потом либо вновь к в-себе-бытию, либо к для-себя-бытию (т. е. к первой божественной триаде). Однако, во-первых, выше мы уже говорили о том, сколь различны первичное в-себе-бытие первой триады и второй, во-вторых, жизнь Ума и жизнь любого из здешних существ отличаются друг от друга как образ и отражение, т. е. то, что у одного правое, у другого левое, и наоборот: если в Уме сущность полагается энергией, то в здешних живых существах энергия — сущностью, и, в-третьих, явленность и демиургия Божества менее всего похожа на разложение тел в первичные элементы или возвращение растительной души к своему истоку, да и возвращение разумных душ в сферу божественного лишь для некоторых из душ обозначает содействие божественной демиургии. Такова разница. У Прокла же мы видим единовидное на всех уровнях внутренне однородного бытия движение от в-себе-бытия к выходу вне-себя и затем возвращение к себе, точнее, даже не так, но поскольку система Прокла глубоко статична, то одно и то же мыслится им сразу же и как простирающееся к высшему, и как порождающее низшее, и только в этом смысле пребывающее собой. В строгом смысле, это и не эманативная, и не кенотическая схема, но — схема, употреблявшаяся Плотином для описания взаимодействия всей иерархии творящих душ и, в конце концов, Души и Ума (не знаю, как уж ее и назвать). Очень важно отметить, что такое построение хотя и свойственно Плотину, однако строго локализовано им в космо-психологической части его системы. Прокл же в этом отношении подобен Гегелю, отвлекшему диалектику Шеллинга от его натурфилософии и сделавшему из нее универсальный инструмент познания, за что он и подвергался неоднократным нападкам со стороны самого Шеллинга. Проклу в этом смысле жилось спокойней.
III. 2. 2. Учение о Едином и воссоединении с Ним у Плотина
Это учение у философа присутствует как одно из центральных, однако же, как и в случае с учением о Душе, при попытке классифицировать суждения мыслителя о Первоначале, сталкиваешься с тем, что, вообще говоря, суждений этих немного, хотя они, как правило, красивы, интуитивно достоверны и весьма часто на разные лады повторяются. Типологизируя эти высказывания, мы свели их в следующую таблицу:
|
Апофатические суждения |
Катафатические суждения |
|
Единый прост и неименуем (не есть ни единое, ни благо, ни вообще что-либо):Энн. V. 1. 5, 9; V. 1. 7; V. 3. 13; V. 4. 1; |
Содержит в Себе всё: Энн. V. 3. 15; V. 5. 15 |
|
Единое не движется, не мыслит, ничем не обладает, не ищет ничего и никоим образом: Энн. V. 1. 6, 11; V. 2. 1; V. 3. 10, 12; V. 3. 10, 13; V. 6. 2, 5, 6; VI. 7. 37; |
Единое рождает всё, властвует над всем, Причина, Начало Себя и всего другого, Господин, Царь, Вседержитель: |
|
Единое — по ту сторону вещей, времени, пространства и вообще всего:Энн. V. 3. 12, 13; V. 4. 2; V. 5. 4; V. 5. 6; VI. 7. 37–42 и т. п. |
Единое созерцается во многих, является целью и дает участвовать в Себе многим: Энн. V. 1. 11; V. 4. 1; V. 6. 6; VI. 4. 11; VI. 5. 10 и т. п. |
Я думаю, комментарии к этой таблице излишни: мы бы сочли все эти высказывания общими местами, если бы не имели дело с источником суждений, ставших теперь привычными. В самом деле, никто и никогда до Плотина не понимал с такой ясностью и не доказывал с такой убедительностью, что Бог «есть все вещи и ни одна из вещей» (Энн. V. 2. 1) — сама категория абсолютного, в том смысле, в каком мы мыслим ее сейчас, была впервые введена в мышление именно Плотином. Понятно, что для рассудка весьма трудно, если не невозможно, совместить вышеприведенные «антиномии», однако, разум их понимает с ясностью; поэтому, ради большего понимания этой части Плотинова учения полезно поразмышлять над изречением, которое словно бы вбирает в себя все: Бог есть «чистая действительность без примеси какого-либо действия» (Энн. V. 6. 6).
Особого внимания заслуживает вопрос познания Единого. Вообще говоря, гносеология Плотина, как и всякая другая античная и средневековая гносеология, всецело основана на принципе подобия. Подобное познается подобным, следовательно, если человек хоть как-то познает Бога, то только потому, что он Ему подобен, и в меру этого уподобления. Это прекрасно понял в свое время св. Григорий Нисский, учивший, что человек есть, скорее, «микротеос», чем микрокосм, и противопоставлявший на этом основании свое учение доктринам древних философов. Хотя сама мысль, безусловно, верна, но противопоставление это, конечно же, не оправдано, ибо противопоставляться здесь могут только учения о космосе. Для платоников быть микрокосмом значило быть причастными не животной, но именно божественной природе, природе Вселенной, в максимальной степени воплотившей в себе Бога, поэтому и термин «микрокосм» обозначал для них то же, что и «микротеос».
Впрочем, ясно, что микрокосмичность в связи с познанием именно Единого не так и важна, ибо речь здесь не идет о познании сущим сущего и сложным — сложного, но о познании сверхсущего и простого. Все дальнейшие рассуждения Плотина можно было бы назвать трагическими: если философия есть предуготовлением к смерти и даже самим умиранием (Федон 64 а, 81 а), то познание Единого и есть сама смерть.
Мы отделены от Единого, но не Оно от нас; Оно существует и в природе, и в нас (Энн. V. 1. 10; VI. 5. 1), присутствует в каждом, кто желает Его (Энн. V. 5. 12); мы возвращаемся к Нему, как к себе, через наши молитвы и созерцания, так что, когда они совершенны, единое молится Единому (Энн. V. 1. 6; VI. 9. 3, 7; VI. 7. 22, 31). Это возвращающееся единое не есть «мы» ни в смысле психического «я», ни в смысле самосознания, равно как и акт воссоединения с Единым не есть ни переживание (Энн. VI. 7. 26-27), ни тем более какое-либо умопостижение. Единственный способ познать это сокровеннейшее свое «я» — это соединить его с Истоком, и единственный способ познать это Начало — значит соединить с Ним себя. Что же есть это «я» и это Единое? Прежде всего, чистое действие, энергия, в которой нет никакой сущности (она появляется позже, как «сделанное», «энергэма»), и эта энергия, это действие есть экстаз. «Я» есть экстаз, а все остальное — самосознание, воление, ощущение — не есть «я». Термин «экстаз», разумеется, лишь одно из возможных слов и образов, называющих это; Плотин говорит и о пророческой боговдохновенности (Энн. V. 3. 14), и об опьянении, и об озарении, видении, подобном прикосновению (Энн. V. 3. 17; VI. 5. 10).
Здесь принципиально важно понять именно энергийность построения Плотина: нет никакого «меня», которому могли бы приписываться те или иные умные деятельности (если бы такое «я» было, это означало бы, что все они приписываются чему-то чувственному), а раз такого субъекта для предикации нет, то сами эти деятельности и есть «я», но этих деятельностей много, и они должны быть собраны в какое-то единство, иначе никакого «меня» не получится. Так вот это единство Плотин как раз и мыслит не статической некоей сущностью, но тоже деятельностью, а именно деятельностью экстатической, выходящей из множественности в абсолютное единство. С этим энергийным пониманием «я», которое не мыслимо вне проблематики познания Единого, прямо связана у Плотина и проблема свободы. Свобода есть власть двигаться к Благу (Энн. VI. 8. 4); достигнув Его, мы более чем свободны и более чем независимы (Энн. VI. 8. 15); но есть ли это какое-либо состояние? Нет, ибо уже нет ничего, что могло бы иметь состояние; это — «мы»; душа достигает совершенства и как бы завершается, как душа, достигнув Блага, а стремление быть собой выбрасывает стремящегося за пределы «себя»; достигший свободы становится не свободным, но — свободой, ибо само Единое есть «Творец свободы».
III. 3. Гносеологический контекст учения о сверхсущей сущности и энергиях в христианском богословии и богословские следствия подобной постановки вопроса
В первой части этой работы мы уже разбирали учение св. Василия Великого об эпинойе, как основном методе его богословия, упоминали и о соответствующей ему доктрине о божественной сущности и энергиях. Здесь нам важно подчеркнуть, что именно у этого автора категории «сущность» и «энергия», имевшие у древних философов чисто онтологическое значение, были помещены в гносеологический контекст. Сущность у св. Василия стала обозначать некую вещь-в-себе, недоступную никакому познанию, энергии же — собственно познаваемое, и познаваемое примышлением. Соответственно, и апории, вытекавшие из этого построения, носили уже чисто гносеологический характер. Перечислю основные:
1. Если сущность действительно никоим образом не познаваема, то на каком основании вообще утверждается, что она существует? А если она не существует, то о чем говорится, когда говорится о сущности?
2. Если сущность действительно никоим образом не познается, то на каком основании энергии отличаются от сущности, отличаются «объективно», а не в связи с нашим познанием? И вообще, существует ли такое отличие?
3. Если сущность действительно никоим образом не познается, то на каком основании одни энергии предицируются одной сущности, а другие — другой?
Должно было пройти почти тысячелетие, прежде чем эта проблематика стала центральной для византийской мысли. Хотя и до того мы встречаемся с размышлениями некоторых богословов на эту тему, но сами эти вопросы остаются периферийными во все время христологических и иконоборческих споров. Только в богословии свт. Григория Паламы они занимают центральное место, поэтому и мы остановимся именно на паламитской редакции ответов на них.
1. На каком основании утверждается, что есть нечто, называемое сущностью или «невыявленной сверхсущностью», и в каком именно смысле оно есть — это, правда, из построений св. Григория понять невозможно. Зато он говорит, что и термин «Бог», и термин «сущность» называют божественные энергии, а не сущность.
2. Энергии отличаются от сущности как выявленное от сокрытого, притом что одно и то же и выявлено, и сокрыто, и такое отличие существует вполне объективно.
3. Поскольку любое наше слово называет только энергии, постольку ничто вообще не может предицироваться сущности; но и сущность сама есть предикат того, что не имеет имени, и что есть и энергия, и сущность разом.
Эти, казалось бы, чисто гносеологические суждения предполагают следующее понятие о Боге: Он и един, и множествен разом, един как сущность и множествен как энергии, явен и сокрыт, познаваем и непознаваем разом по той же причине. К этому, по большому счету, и сводится вся метафизика Паламы. Но что мы получим, взглянув на это построение глазами платоника? Мы получим Ум (а то, что едино и множественно разом, есть именно Ум), которому усваивается сверхсущественность Единого; иными словами, уже в богословии св. Василия Великого были заложены основания учения о сверхсущественности именно Ума, которое и было центральным пунктом всего византийского богословия. Пока это только гипотеза, но посмотрим, не обстоит ли дело таким же образом в богословии «ареопагитик».
Однако, прежде я хотел бы обратить внимание еще на один момент. Во второй части нашей работы мы показали, как в богословии преп. Иоанна Дамаскина, несмотря на все заявления о сверхсущественности божественной сущности, как только дело доходило до мышления Ипостасей, сущность тут же оказывалась все-таки познаваемой и, соответственно, вполне сущей сущностью. Здесь нам будет важно посмотреть, не так же ли обстоит дело у свв. Дионисия и Григория. И самое главное, если уж учение о Первоначале ставится у всех византийских мыслителей в гносеологический контекст, и Ум, традиционно считавшийся у платоников сферой явленности Сверхсущего, сам обретает характеристики Единого, не выходит ли, что сферой явленности Сверхсущего в византийском богословии оказывается ум познающего, т. е. не начинает ли занимать у византийских богословов ум познающего то место, которое занимает Ум у платоников? На это предположение наталкивает и тот факт, что космологические и онто-психологические проблемы, насколько можно понять, столь мало занимали этих богословов, поскольку явленность Божества понималась ими по преимуществу как явленность именно человеку (шире — разумным духам). Бог, в их представлении (опиравшемся, конечно же, на Св. Писание), вел, так сказать, диалог по преимуществу с человеком и уже во вторую очередь с космосом, который соответственно понимался как неодушевленный и неизмеримо низший человека.
III. 3. 1. Теология Дионисия Ареопагита
Поскольку теология св. Дионисия достаточно объемна и систематична, мы выделим из нее лишь те моменты, которые важны в контексте нашего исследования: вполне понятно, что это изложение не претендует на полноту.
Мне хотелось бы для начала обратить внимание читателя на динамический, почти что диалектический характер теологии Ареопагита, понимать который мешает как «превыспренность» ее языка, так и нежелание многих читателей обращать внимание на философскую проблематику текстов. Итак, в первую очередь нас интересует учение о единстве и разделении в Первоначале. В трактате О Божественных именах, 2. 4 (все цитаты даны по изд.: Дионисий Ареопагит Сочинения Максим ИсповедникТолкования в переводе Г. М. Прохорова, СПб 2002) мыслитель пишет: «Божественным единством называют сокровенные и неисходные сверхпребывания сверхнеизреченного и сверхнепознаваемого постоянства, разделениями же — благолепные выступления богоначалия вовне и его изъяснения». Эти «единство» и «разделения» у Дионисия, в отличие от многих других богословов, не описательные понятия, но являются, так сказать, логическими силами или стихиями, продуцирующими как первичные понятия его системы, так, в конечном счете, и всякое богословское содержание. Эти термины занимают в его системе то же место, что силы притяжения и отталкивания в ранней натурфилософии Шеллинга. В самом деле, если мы вглядимся, с одной стороны, в то, что мыслитель называет Сверхсущим, Благом и Единым, а с другой стороны — в то, что именуется им Троицей и энергиями, то мы увидим, что все эти понятия производны от первых двух. Но для начала сразу же обратим внимание на термин «выступления» — proüdous — это то самое слово, которое при переводе платоников почти всегда дают как «эманации», а при переводе христианских авторов — почти всегда иначе, что создает иллюзию наличия разных понятий, в то время как и для Дионисия, и для Паламы энергия и эманация — синонимы. (Уже только из этого филологического наблюдения становится ясным, например, то, что деления в Первоначале мыслимы — только поскольку Оно эманирует.)
Теперь обратим внимание на два вида единств, которые необходимо мыслятся богословом. Дионисий исходит из того, что «Единое безымянно и всеимянно» (Там же, 1. 6). Хотя это одно и то же Единое, однако в Нем усматриваются две принципиально разные «сферы». Что касается потустороннего, запредельного и единству, и разделению Единого, то Дионисий здесь полностью следует Плотину и более поздним платоникам — к Нему неприложимо никакое имя, никакое мышление, Оно — по ту сторону бытия и небытия и познается только экстатически. Что касается этого Единого, очень интересно отметить, что Дионисий любит говорить о Нем в женском роде, частенько называет Его не Богом, но Божественностью, говорит о Сущности, Причине, Царице и Гестии (Там же, 1. 6). Если выделить те художественные черты этого образа, которые не восходят к Св. Писанию, но свойственны самому этому автору, мы не в последнюю очередь увидим первичную бездну, великую Мать, вселенскую Ночь: «женственное» и «непроявленное» — всегда синонимы в мифологической образности. Это непроявленное, разумеется, раньше всякого единения и разделения.
Но св. Дионисий фиксирует и второе единство — то единство, которое соответствует всеимянности Первоначала; он пишет (Там же, 2. 5): «Если благолепный выход вовне [эманация] самой божественной сверх-единой Благости по причине Ее увеличения и переполнения — признак божественной делимости, то признаками единства являются: происходящее по божественном разделении безудержное наделение благами, созидание новых живых существ, их животворение, наделение их разумом...». Здесь мы опять встречаемся с образом великой Матери — истекающей во множественность порождений, животворящей и опекающей их. Однако, обратить внимание следует здесь на «признак единства»: это собственно уже не запредельность, но демиургия. Это, так сказать, энергетическое единство, отличное от первого и соответствующее всеимянности Первоначала; это уже не просто единство, но всеединство, не потому, что само Первоначало становится множественным, но потому что многие сущие причастны Ему во всей Его полноте.
Это, между прочим, отличает богословие Дионисия от паламитского: и то, и другое учения говорят, что всякое причастное божественности существо становится причастным лишь его энергии, но не сущности, т. е. Богу, поскольку Он всеедин, но не поскольку запределен, однако Дионисий однозначно пишет (Там же, 2. 5): «И это присуще всей вообще, объединенной и единой Божественности — то, что Она каждым из причащающихся причаствует вся, и никто не причащается лишь какой-то Ее части». Однако для св. Дионисия Единый и Всеединый тождественны, а для св. Григория то тождественны, то различны; поэтому для Ареопагита причащающийся причащается всему в Боге, ибо Бог прост (другой вопрос, что именно причащающийся может воспринять), а для св. Григория — только энергии; так происходит потому, что первый — диалектик, а второй — логик. Палама, например, пишет: «Утверждать то одно, то другое, когда оба утверждения верны, есть свойство всякого благочестивого богослова; но говорить противоречивое самому себе свойственно совершенно лишенному разума» (Цит. по изд.: Архиепископ Василий (Кривошеин) Богословские труды. Нижний Новгород, 1996. С. 149). Ну не дается ему синтез, не дается! Никак не удается помыслить Бога без закона исключенного третьего! В результате, он то вносит множественность в Божество, то не вносит и т. п. Главное же состоит в том, что для св. Дионисия сфера энергийного и демиургийного есть именно сфера единства, а для Паламы — множественности. У Ареопагита первичные эманации формируют, как мы увидим, Св. Троицу, а для Паламы троическое богословие лежит, если можно так выразиться, в одном ящике стола, а энергийное — в другом. Все это, конечно, логические акценты, отдельные удачи или неудачи великих мужей, в целом же их учения не только не противоречат, но даже дополняют друг друга, так что паламитская рассудочная метафизика вполне может послужить пролегоменами к сочинениям Дионисия.
Итак, вернемся к богословию Ареопагита: мы видели что изначальное сверхбытийное Единство «по причине переполнения» (более точно: «умножения») приходит к разделению, что само это разделение и есть эманация, выход Единого вовне, и потому есть категория динамическая; мы видели, что эта множественность, в конце концов, синтезируется в единстве демиургии. Теперь нам нужно рассмотреть принцип единства, точнее, единения, ибо сама по себе запредельность является, скорее, основанием множественности, нежели единства.
Это очень тонкий момент богословия Дионисия: с одной стороны, единство = пребыванию, но с другой — если это единство запредельно, оно как раз не пребывает, но устремляется во множественность, следовательно, пребывающим должно оказаться что-то иное, а это и есть Троица. Это принципиально важно: абсолютное Единое не пребывает вне Троицы, но Оно само есть пребывающее, не умножающееся Единое, только если Оно есть Троица. Это постижение есть сама мистерия христианского умозрения.
Об этом хорошо говорит преп. Максим Исповедник в примечании 37 к главе 2 сочинения О Божественных именах «...он богословствует о неизреченной Троице, насколько позволяют проявления [эманации] трех Ипостасей, а именно то, что Бог Отец, вневременно подвигнутый любовью, выступил вовне, сделав возможным различие Ипостасей...» (proylqein eßj diakrisin ?postasewn — букв.: «эманировал в различие Ипостасей»). И далее он пишет: «Возможно и в другом смысле божественное разделение — как выход Бога по множеству благости в многовидность творения, невидимого и видимого» (букв.: «как эманация Бога в многовидность демиургии — proodoj to™ Qeo™ eij tЮn poluxЯdeian tyj dhmio™rgiaj»). Таким образом, различаются два вида эманации, выхождения из запредельного Единства; один из них, а именно тот, который совершается без выхода в демиургию, я думаю, следует назвать единением, ибо выход Божества в ипостасийной бытие единит бесконечность божественных энергий. Иными словами, всеединство существует лишь потому, что существует триединство. Триединство Ипостасей, хотя само и получается благодаря разделению, есть, однако, относительно всех других единств первое единство и, как единство, неотличимо от Единого. Единое троится в себе, чтобы оставаться Единым. Но насколько такое Единое будет сверхсущим? Разве это не будет уже умопостигаемое Единое, т. е. Ум? Да, будет, но запредельное Единое остается таковым только потому, что порождает Ум — сферу божественной ипостасности. (Если бы Единое порождало сразу сферу энергий, то эта сфера была бы сферой беспредельного многого, и в таком случае это Единое было бы не чем иным, как Душой и, значит, само участвовало бы в беспредельном множестве своих явлений. Однако такое единое не могло бы быть первым Единым, и мы должны были бы продолжить поиск Первоначала.)
Кроме того, анализ любой другой сферы, ближайшим образом — сферы энергий, будет уже опираться на троическую схему, так что постигаемое из энергий Единое всегда будет и всеединым, и троичным. Таким образом, именно троичность выступает некоей единящей силой всего сущего, которое и едино благодаря своей троичности, и которая выступает как бы гранью сущего и сверхсущего. Со всей ясностью это было осмыслено значительно позднее (в систематическом виде — не раньше Николая Кузанского), однако основания этому были заложены уже в богословии ареопагитического корпуса текстов.
Сравнительно с этой доктриной, богословие Паламы не представляет собой в теоретическом смысле чего-то самостоятельного. Энергии точно так же представляются Паламой эманациями Первоначала, об Ипостасях он говорит весьма темно, во всяком случае, из доступных мне сочинений я не вынес сколько-нибудь ясной картины его троического богословия (возможно, оно содержится в непереведенных трудах мыслителя против латинян). Вообще говоря, на всем паламитском богословии лежит печать какой-то несистематичности. Очень много традиционалистского пафоса при минимуме богословского содержания (вероятно, потому он и нравится всем любителям страстных убеждений) . Он утверждает простоту Первоначала, но не может объяснить, как она согласуется с его учением о множественности энергий; говорит о несамоипостасности энергий, но не может внятно объяснить, чем энергия отличается от ипостаси, когда речь идет о Первоначале; будучи последовательным перипатетиком во всех областях знания, он клеймит мирскую образованность, хотя без аристотелизма, на который он опирается, его построения — ничто; видя, что его метод не позволяет ему познавать, иначе как феноменологически, он постулирует невозможность любого интеллектуального познания и т. д. и т. п. — высокий, страстный дух, заблудившийся в низших мирах.
Нам остается рассмотреть лишь вопрос об именах, который теснейшим образом связан с хорошо известным различием апофатического и катафатического богословий. Не буду в подробностях излагать всем известную теорию о том, что Бог именуется и познается лишь в отношении к творению, а потому — высшим видом богословия, наиболее приближающимся к самому источнику творческой мощи, является апофатическое богословие, восходящее от всех такого рода имен и познаний в сферу полнейшего незнания, безотносительного ликостояния пред Абсолютом.
Мне важно обратить внимание читателя на две стороны этой теории. Во-первых, есть апофатика как интеллектуальная процедура, и мы уже писали в статье ко второй Эннеаде, что она представляет собой у Ареопагита. И, во-вторых, есть апофатика как путь богопознания. Можно поставить этот вопрос и таким образом. Любое катафатическое утверждение, или имя Первоначала, не являются вымыслом, потому что называют какое-то из Его проявлений, энергий. Любое же апофатическое суждение либо опирается на что-то «объективное», либо представляет собой чистое отрицание, имеющее место лишь в рассудке. Если подойти к тексту Ареопагита формально, особенно если сравнить его с детально разработанным в позднем платонизме апофатическим методом и соответствующей ему онтологией, мы вынуждены будем сказать, что апофатические суждения у Дионисия Ареопагита — чистые отрицания. Но тогда и учение о мраке должно было бы быть учением не о Божественном мраке, но о мраке собственного неведения. Это, очевидно, не так. Божественный мрак у св. Дионисия вполне божествен и, так сказать, объективен, во всяком случае, таковым провозглашается... Теперь, если сфера энергий представляет собой сферу эманаций, выхода за пределы божественного, то должен быть и путь этого божественного к себе. Можно, конечно, сказать, что это пребывающие энергии, Солнце, сияющее без истечения, но едва ли в таком представлении мы почерпнули бы объяснение божественности мрака. Иными словами, апофатические суждения предполагают нечто такое, что Прокл мог бы назвать триадами богов возвращения. Понятно, что в космосе путь возвращения представлен для Ареопагита вполне чувственной и исторической Церковью, но как обстоит с этим дело в сфере чистого умозрения? Вопрос особенно обостряется, если принять во внимание, что и для Ареопагита, и для комментирующего его преп. Максима, как и для всех христиан-платоников, собственно существующим было именно умопостигаемое, а поэтому и что-либо чувственное едва ли могло быть для них чем-то большим, нежели образ мистерии умозрения. Но как раз именно в этом месте теологии Ареопагита зияет лакуна, которую не смог восполнить и преп. Максим. Следствием этого было то, что Божественный мрак все-таки превратился в мрак незнания, апофатический метод — в знание о незнании, и это знание о незнании для тех людей, которые восходили к Богу посредством интеллектуальных практик, не утратило своего значения.
И еще: единственная возможность уяснить, что такое божественная энергия (деяние), это рассмотреть «сделанное» («энергэму»); так вот, «сделанным» в византийском богословии оказывался по преимуществу постигающий ум, как образ Божий, посредством которого и осуществляется познание Первообраза. Вполне понятно, что под постигающим умом никто в византийскую эпоху не понимал отвлеченный рассудок, но — высшего человека в нас (как и Плотин). Что же происходит с высшим человеком? Что является результатом постижения божественных энергий? Часть отцов Церкви учит о «просветленном» психическом состоянии, часть — о «гнозисе».
Здесь следует сделать небольшое отступление и сказать, что издревле в мистико-аскетическом предании Церкви были два путь восхождения, один из которых основательно забыт, а другой практикуется и по сию пору. Первый сложился в недрах Александрийской школы и был весьма близок платоникам; главными его представителями на Востоке были: Климент Александрийский, Ориген, св. Григорий Чудотворец, св. Григорий Нисский (до какой-то степени и св. Григорий Богослов), Евагрий Понтийский, Синезий Птолемаидский, св. Дионисий Ареопагит (кем бы он ни был), преп. Максим Исповедник, а из более поздних учителей св. Каллист Катафигиот. Для всех этих людей подлинно существующим было умопостигаемое, и умозрение не было некоей мирской деятельностью, но именно путем восхождения к Богу. Результатом постижения божественных энергий в этой школе был гнозис. В русской духовности эта школа не представлена вообще. С известной долей условности этих людей можно назвать христианскими платониками или идеалистами. Другая школа, которую правильно было бы назвать натуралистической, тоже сформировалась в Египте; виднейшие ее представители — преп. Макарий Великий, св. Иоанн Лествичник, св. Исихий, Никифор монашествующий, св. Григорий Синаит, св. Григорий Палама, св. Марк Эфесский — помещали ум в сердце, учили о мистическом значении физиологии, практиковали Иисусову молитву; в теории все эти люди были куда ближе перипатетикам и стоикам, нежели платоникам. Результатом постижения энергий здесь мыслилось некое просветленное состояние. Эта школа была представлена в России величайшим из русских подвижников — святым и благословенным Нилом Сорским, а также св. Паисием Величковским, позднее свв. Игнатием (Брянчаниновым) и Феофаном (Вышинским), а также всеми, кто теперь учит о «православной традиции того или иного» или просто, «без всяких философий» практикует Иисусову молитву по городам и весям. (Если первая школа умерла на Востоке где-то около XIV в., то вторая, во всяком случае в России, сильно выродилась, утратив к XX в. последние остатки античной отстраненности и величия, которые сохраняла до известной степени и раннехристианская традиция). Если бы такое сравнение не выходило за пределы обозначенной нами темы, было бы очень полезно показать, насколько одни и те же слова в этих школах обозначали разные вещи, насколько неоднородна в самом Православии традиция богопостижения, насколько эта неоднородность зависима от античных философских парадигм, которыми руководствовались те или иные христианские мыслители. (Я сейчас говорю не о конфликте монахов с имперскими богословами, который не затихал в Европе все позднее средневековье, но о направлениях в самом византийском монашестве.)
Так или иначе, имеем ли мы дело с «психиками» или «гностиками», мы видим, что, так сказать, ареной для теофаний мыслится сам постигающий субъект. Ни для кого из древних мыслителей эта мысль несвойственна и невозможна, ибо теофанией Бога здесь является сам космос и его космические феномены; одним словом, любое из человеческих чувств и любая из человеческих мыслей меньше являют Бога, нежели созерцание чего-то вовсе не человеческого, например звездного неба; а точнее, даже не созерцание его, а оно само; соответственно, созерцание ценно именно тем, что в нём человек имеет возможность удалиться от сферы внутренне подвижного, от «себя», и по мере удаления от «себя» постигать теофанию. Для христиан же, как, впрочем, и для иудеев, внешнее, космическое, не представляло собой особой ценности; лирика Псалмов, как потом и лирика Соломона, а затем и арабская мистическая и любовная лирика, собирают внимание именно в вожделеющей и гневной частях души; в них является Бог; этот «смешанный человек» считается собственно человеком, какая-то особая эмоция, особый эмоциональный строй, способность к внезапным пророчествам, духовным стихам и песням — именно это почитается близостью к Богу, именно эти всплески вдохновений божественны по преимуществу.
К чему мы все это в который раз уже говорим? А к тому, что нам нужно объяснить два факта: во-первых, то, что древние называли Умом, оказалось трансцендентным, т. е. впитало в себя все черты Единого; и во-вторых, на месте этого Ума уже в византийском богословии оказывается ум познающего; такое положение дел можно назвать византийскими предпосылками новоевропейской философии. Вокруг этих двух фактов мы, так сказать, и ходим кругами, пытаясь «выразуметь» их то с одной, то с другой стороны. Особенно интересно, что и мусульманская, и иудейская мысль того времени, судя по всему, опираются на ту же парадигму, а через богословие Николая Кузанского она прочно закрепляется на Западе, становясь основанием уже новоевропейской философской традиции. Чтобы рассмотреть это поближе, возьмем последнего из византийских и первого из новоевропейских мистиков-интеллектуалов и сравним их учения, тем более, что их разделяет всего век.
III. 4. Св. Каллист Катафигиот и Николай Кузанский
III. 4. 1. Св. Каллист Катафигиот
A. Учение о Едином у св. Каллиста
Учение о Едином у св. Каллиста выполнено в строго неоплатоническом стиле: Единое — причина множественности, единственная цель стремления человеческого ума и всех живых существ. (Все нижеследующие цитаты и ссылки основаны на единственном сохранившемся сочинении этого автора: О божественном единении и созерцательной жизни, опубликованном в журналеПравославный Собеседник. выпуск 6, пер. В. Л. Леонтьева Казань, 1898.) Теология Блага представлена у Каллиста в классической полноте (гл. 31), равно как и теология простого несоставленного Единства, которое выше имен, бытия и небытия. Громоздкие и расплывчатые ареопагитско-паламитские определения вроде «сверхсущественной сущности», Каллист не употребляет: беря эти понятия в чисто гносеологическом смысле, он учит о тайности (сокрытости) Божией и ее явленности (гл. 45); в его учении византизм окончательно порывает с античностью, ибо тайность и явность, разумеется, не имеют никакого смысла для Бога и для себя — это понятия, обозначающие исключительно отношения к познающему (по сути, так дело обстоит уже и у Паламы, а во многом и у Ареопагита, но там оттенок онтологизма несравненно сильнее). Интересно, что это один из немногих мыслителей, называющих Бога «истинно сущим» (гл. 42, 70): истинно сущее (неоплатоническое «умопостигаемое»), тем самым, оказывается тождественно Единому — абсолютный абсурд, но это если смотреть с онтологической точки зрения; если же взглянуть с точки зрения созерцания, то так оно и оказывается — Единое как предмет созерцания в собственном смысле слова есть и истинно сущее. Что такое само истинно сущее, Каллиста совершенно не интересует; никакого Ума в Плотиновом смысле он не знает; вслед за Единым расположены умопостигаемые живые существа, которые, так же как у Прокла и Ареопагита, позиционируются как средоточье разумности.
B. Учение об уме, душе и Св. Духе
Весьма интересно, что как божественному Уму в позднем византийском богословии усваиваются основные определения Единого (или Единому — определения Ума), так и конечному уму тоже начинают приписываться вещи, ранее свойственные именно Уму. Например, Каллист говорит о том, что ум есть божественное в нас (гл. 2), прямо провозглашает вечное движение нашего ума (гл. 3), воссоединяющегося с Единым в акте божественной фантазии (гл. 33); сам ум есть живое существо (гл. 91), становящееся не только ангелом, но и самим Богом (гл. 86). Такие же переносы имеют место и в учении о душе: с одной стороны, Каллист принимает трихотомическое деление, т.е. деление по силам — разумной, желательной, раздражительной, — однако, он считает, что две последние суть присоединившиеся к первой, а первая — разумная сила, или сам ум, — и есть собственно душа: именно душа, а не весь человек, собственно богоподобна (гл. 34), соответственно, сама душа неделимо делится на ум, слово и дух, будучи образом пресущественной Троицы. Это чисто византийское деление — ум, слово и дух — куда менее привычно для нас, чем разум, воля, чувства — определения, принятые как в немецкой, так и в русской философии, и восходящие к разделению вышеупомянутых сил души, каковое и считал несущественным св. Каллист. Деление Каллиста — это деление в уме и ума; ум здесь равен умопостигаемому в ноологии Плотина, слово и дух — уму и умному (мы писали об этом во второй части данной работы). Вполне понятно, что при такой психологии Св. Дух выполняет у св. Каллиста ту же работу, что у Плотина Душа-Ипостась, а именно — является психопомпом: «Такова забота у Божества Духа — возводить ум к единому премирному» (гл. 11). Это вполне логично: будучи в триаде божественного умным, или именно духом, Св. Дух объемлет всю сферу внебожественного умного, каковую не в последнюю очередь составляют именно разумные, богоподобные души. Можно даже сказать, что души и Св. Дух связаны симпатически в силу тождества их мест, или статусов, в тварной и нетварной триадах: Св. Дух дает возможность видеть нашему уму умопостигаемое в чувственных предметах и умопостигаемое само по себе, что для нашего ума естественно, но что не осуществляется иначе как при помощи Св. Духа (гл. 84).
C. Учение о методе и сопутствующие вопросы
Из всего вышесказанного вполне ясно, что метод богопостижения описывается св. Каллистом в категориях, фактически тождественных неоплатоническим. Слияние с Богом есть отказ от множественности (гл. 4), это прекращение всякого движения и обретение покоя в Едином (гл. 5), прекращение мышления (гл. 37), опрощение, превращение в младенца (гл. 48), выступление из своей природы, опьянение (гл. 24). Весьма интересно отметить, что несмотря на согласие с паламитским учением о причастии божественным энергиям, а не сущности, и изменении ума, созерцающего Бога, только по энергии, а не по сущности, мы не находим здесь никаких намеков на углубление ума в сердце, исихастскую «непарительную молитву»; напротив, здесь мы встречаемся едва ли не с сознательным противоречием сердечной, телесной духовности паламизма: «всячески следует стараться взирать на премирное Единое, превышающее разум, и к Нему всецело следует расположить самих себя со всяким тщанием, всем сердцем и душей и лелеять в себе любовь к премирному простейшему единому и единственному, чтобы сама любовь к Нему могла быть вместо святых крыльев для мысленного возношения нашего к нему горе. И таким образом мы всегда будем как бы на воздухе в безвидном устроении, един боговидном с Господом, истинно единым, воспевая Троицу троически: мысленно, словесно и духовно, и к Ней, как подобает, устремляясь и восторгаясь, и единовидно соединяясь собственным единением в себе с единым превыше всякого единения» (гл. 34; курсив мой. — Т. С.). Св. Каллист бесконечно ценен именно тем, что во времена повсеместного торжества аристотелизма в школах, распространения психофизических, исихастских практик в монастырях, полного вырождения традиции платонического интеллектуализма, св. Каллист смог говорить с такой же независимостью и непосредственностью, как если бы был современником Климента Александрийского или св. Григория Нисского. Во времена, когда старчество понималось на восточный лад, как мудрое жизневодительство, так сказать, аксакальство, у Каллиста в последний раз вспыхивает чисто александрийская идея христианского гнозиса и святых гностиков. Он пишет, например: «Конечно, святых и людей Божиих много, но чтобы вообще всем созерцать лице Божие и проводить ангельскую жизнь... до этого еще далеко.... [к этому способны] только умственно богатые из людей Божиих» (гл. 76). Восхождение мыслится Каллистом постепенным переходом от чувственного к созданному умопостигаемому, а от созданного умопостигаемого — к несозданному умопостигаемому, а оттуда — «к несозданному Единому» (гл. 35); следовательно, необходимо заниматься философией, чтобы утвердиться в умопостигаемом, откуда только и можно шагнуть к божественному (гл. 80-82). Каллист, конечно, вполне допускает, что божественное может открываться и простецам, но это будет иудейский, «инодвижный» способ откровения, и постигаются таким образом, как весьма точно говорит богослов, «исходы будущего» (говоря языком платоников, демиургические содержания, принадлежащие сфере Души); этому способу познания противостоит «самодвижный» эллинский путь, который постигает, в свою очередь, «вещи божественные», и есть третий — христианский — путь, объединяющий два первых. Это становится ясно в связи с проблемой видения «вещей божественных»: если они умопостигаются, то это (при помощи Св. Духа) естественно, но если они предстают ипостасно, то видение ума должно стать сверхъестественным (т. е. должен действовать сам Св. Дух), чтобы ум не впал в безумие, т. е. самодвижность должна в этом случае сочетаться с инодвижностью (гл. 84). Таким образом, обращенность в себя, переход к умопостигаемому — это не только естественное действие души, но и теургия, привлекающая сначала содействие, а затем и прямое действие Св. Духа.
Итак, что касается «вещей божественных», то под ними Каллист, конечно, подразумевает ангельскую иерархию (сколь мало все-таки это содержание сравнительно с умопостигаемой Вселенной Плотина!); но как же дело обстоит с самим Богом? Наш ум, что очевидно, видеть Его не может, но может видеть, что он Его не видит, и это видение невидения, знание незнания и приводит ум к состоянию покоя, прекращению перехода от представления к представлению, так что он «не ощущает ничего другого, кроме изумления среди мысленной светлости» (гл. 43) — (философия, похоже, не только начинается, но и заканчивается изумлением), — а поскольку природа ума состоит в том, чтобы мыслить, то созерцая Единое, ум оказывается выше своей природы и, благодаря Св. Духу, полностью прекращает мыслить.
Таково в общих чертах возвышенное учение св. Каллиста, и в нем, как мы видим, знание незнания, т. е. знание самого себя, оказывается путем к знанию Бога. Акт самосознания встает на место созерцания Ума, однако, хотя это и проговорено, но по-византийски отрывочно, несистематично. У великого латинского эллинофила Николая Кузанского эта мысль уже берется как методический принцип, и потому, как и в случае с Эуригеной, очень интересно проследить в его системе черты общности с богословием Востока. Разумеется, западное богословие прошло немалый путь от Тертуллиана и блаж. Августина до свв. Фомы, Бонавентуры, Антония Падуанского, а также Абеляра, Дунса Скота и других предшественников великого Кузанца, так что можно было бы показать и иные источники его учения, но меня оно интересует, в первую очередь, именно как чрезвычайно близкое традиции византийской теологии; если нам сейчас удастся показать взаимосвязь этих учений, то всякий интересующийся человек, уже без труда сравнив систему Николая Кузанского с гегелевской, а последнюю — с соловьевской, получит ясное представление о путях, пройденных европейской мыслью от начала до наших дней, так что не останется ни одной области, стоящей вне взаимосвязи с другими, как бы особняком.
III. 4. 2. Богословие Николая Кузанского
Богословие Николая, епископа Бриксенского, более известного как Николай Кузанский — по месту рождения, занимает в западной традиции, на мой взгляд, то же место, что и богословие пресвитера Иоанна Дамаскина на Востоке. Это историко-философское положение я не имею здесь возможности ни доказывать, ни развёртывать. Поэтому скажу только, что на пути от Августина к Гегелю философия Фомы Аквината, например, представляет собой все-таки нечто куда более локальное и специфичное, собственно средневековое, в то время как от епископа Николая один шаг и до поздних платоников, и до немецкой классики; богословие Николая представляет собой такой пик, на котором видны все пути западной мысли, и здесь они даны в своей истине, безбоязненно и возвышенно. Богословие Кузанца — высший взлет средневековой мысли, который не просто послужил фундаментом для философии Нового времени, но и остался для нее непревзойденной вершиной. Мы, разумеется, не будем обсуждать всю его систему в целом, но — лишь в связи с очерченным нами выше кругом проблем.
А. Принцип совпадения противоположностей и учение о методе
Итак, Николай Кузанский берет абсолютный максимум и абсолютный минимум и учит об их единстве. Постараемся раскрыть эти понятия. Очевидно, что за абсолютным максимумом стоит «то, больше чего ничего нет» Ансельма, собственно говоря, — это определение божественной сущности. Говоря о каппадокийцах, мы уже замечали, что взять это определение как определение именно божественной сущности — непозволительная роскошь. Однако, этот прыжок здесь уже предполагается совершенным; таким образом, чисто онтологическое определение оказывается вовлеченным в богословский контекст. Этот абсолютный максимум есть собственно чистое, еще никак не определимое бытие (Об ученом незнании. Кн. 1, гл. 2; цит. по изд.: Николай Кузанский. Сочинения в 2 т.т.. М., 1979. Т. 1). Теперь, что такое абсолютный минимум? То, меньше чего ничего нет, — это единица и единое (Там же. Кн. 1, гл. 5). Но тогда учение о совпадении абсолютного максимума и абсолютного минимума есть старое аристотелевское учение о том, что «одно и то же — единое и бытие». И почему, собственно, бытие — максимум, а единое — минимум? Конечно, Кузанец знает, что Бог обитает «за стеной единства противоположностей», а не есть сама эта «стена»; но, прежде всего, что представляет само это единство противоположностей?
Сфера совпадения противоположностей мыслилась античностью, главным образом, объективно, т. е. как высший иерархический уровень бытия — Ум; здесь же она оказывается «бериллом» — очками, позволяющими видеть то, что иначе ускользает от всякого взгляда . Пребывание человека в Уме мыслилось древними как не имеющее временной протяженности созерцание, делающее человека уже «иным существом»; здесь же оно дано в системе умозаключений, т. е. в сугубо душевной, с точки зрения древних, сфере. (Учение о совпадении противоположностей или, другими словами, об актуальной бесконечности как постижимой рассудком и ему коррелятивном, — получит затем свою окончательную разработку в гегельянстве.)
Надо сказать, что это помещение Ума в человека имело древние корни и уже дало в IV в., с одной стороны, богословие Евномия, считавшего, что он так же знает Бога, как Бог знает Себя, а с другой стороны — богословие каппадокийцев, которые, утверждая непознаваемость божественной сущности, впервые ввели теологические вопросы в гносеологический контекст. Николай Кузанский полностью принимает каппадокийскую постановку вопроса и настаивает на полной невозможности точного знания Бога, однако агностический момент богословия восточных отцов приобретает у него силу методического принципа.
Бог непознаваем именно в силу абсолютной непознаваемости Его природы. Тогда, если о Боге действительно ничего нельзя знать, то единственное знание о Нем — это знание о собственном незнании. Если на Востоке, например у св. Каллиста, это знание незнания было шагом, предшествующим остановке дискурса, то в системе Кузанца — это методическое замечание перед началом собственно теологических построений. Николай в буквальном смысле начинает свою философию с того, чем восточные учители ее заканчивали. Тем самым, акт самосознания начинает мыслиться в системе Николая Кузанского актом боговедения, а богословие волей-неволей становится чем-то вроде наукоучения, знания о знании, точнее, о незнании. Огромная важность этих идей для последующей мысли вполне очевидна, но как это связано с аристотелизмом и платонизмом? А так, что, с одной стороны, принимается чисто платоновская потустороннесть Первоначала, а с другой — аристотелевская абсолютизация рассудка, т. е. как бы легитимизация его непреображенного бытия, зиждущегося на уверенности в существовании демонстративной науки о божественном и небожественном сущем. Как причудливо в этом богословии переплетаются различные — прошлые и будущие — системы!
В. Учение о бытии и доказательства бытия Бога
Итак, чистое бытие есть абсолютный максимум; следовательно, вопрос: «Есть ли Бог?» превращается в вопрос: «Необходимо ли мыслится чистое бытие, если вообще что-то мыслится и что-то есть?», т. е. вопрос: «Есть ли бытие?» — это пустой вопрос: аргумент Ансельма вводится в эту систему самой постановкой вопроса о Божественном бытии. В самом деле, рассуждать о существовании и несуществовании можно, когда мыслится некий субъект, отличный от существования, но если субъект существования есть само существование, тогда и говорить не о чем. Это очень сильный аргумент, за исключением того, что поскольку всякое существование определяется как оно само в отношении к другому, постольку Бог будет существующим только относительно вещей, а ни в коем случае не в Себе. Николай Кузанский прекрасно это понимает и принимает.
Посмотрим поближе на эти аргументы в пользу необходимости Божественного бытия. Уже первый из них поражает своей тонкостью. Всякая конечная вещь, рассуждает Кузанец (Там же. Кн. 1, гл. 6), имеет начало и предел; эти начало и предел либо сами конечны, либо бесконечны: причем, если эти начало и предел сами конечны, они необходимо будут «больше» той вещи, которую они начинают и определивают; но конечные начало и предел не есть в собственном смысле начало и предел; таким образом, либо вещь безначальна и беспредельна, либо имеет бесконечные начало и предел; если последнее, то начало и предел «не больше» самой вещи, это ее абсолютный максимум и абсолютный минимум, которые суть одно. В другом месте Николай Кузанский говорит: «Бог есть абсолютная точность вещей», соответственно, нам никогда не познать Бога, потому что мы не знаем ничего точно, и нам никогда не познать ничего точно, поскольку мы не знаем Бога. Таким образом, Бог, пребывая во всем, через всё являясь, остается скрытым. Он необходимо является предметом познания, если что-то познается, Он необходимо существует, если что-то вообще существует. Теперь, что это за аргумент: онтологический, космологический, какой вообще? Здесь доказывается, что Бог есть, если конечная вещь есть она сама и ничуть не больше. Этот аргумент, я думаю, можно назвать «аргументом Кузанского», в силу его своеобычности, совмещении в нем черт и того, и другого из основных аргументов: с одной стороны, как и в космологическом аргументе, подчеркивается необходимость мыслить неизменное и неподвижное Первоначало, если мыслятся изменчивые и подвижные вещи; с другой стороны, вещь здесь берется куда более общё — не в аспекте движения или изменения, но существования вообще: ведь быть для всякой конечной вещи значит быть ограниченной; таким образом, доказывается, что если вещи вообще есть, то их бытие есть Бог, бытие как абсолютность их ограниченности и небожественности. Вещи здесь мыслятся буквально так же, как Бог в онтологическом доказательстве, ибо всякая вещь «не больше», чем она есть только потому, что ограничена абсолютным максимумом и, тем самым, имеет абсолютное бытие. Если пантеизмом называть учение о богоподобии мира, то это пантеизм. Однако подобие не есть единство по сущности, но — по формам существования, данным в разных сущностях и субстратах. Таков «берилл» в действии.
Мне особенно хотелось бы выделить совершенно забытое в христианскую эпоху, да и в древности мало осмысленное рассуждение, которое вполне можно было бы назвать платоновским аргументом доказательства бытия Божия. Процитирую его в изложении Николая Кузанского: «Максимальная истина есть абсолютный максимум. Но максимально истинно то, что этот простой максимум или существует, или не существует, или и существует и не существует, или не существует и не существует: ничего больше ни сказать, ни придумать невозможно. Что бы из этого ты не назвал максимально истинным, в моем суждении оно уже содержится; таким образом, я имею в нем максимальную истину, а она есть и максимум просто». Мы имеем здесь конспективно изложенный Парменидкак доказательство бытия Божия! Это можно назвать полной формой онтологического аргумента: в самом деле, ни один из аргументов не обладает такой силой, как тот, что даже утверждая несуществование Бога, ты говоришь истину, хотя и не понимаешь ее, ибо существование Бога включает в себя и то, что мы называем несуществованием или отсутствием, хотя и далеко не только это. Здесь, конечно, аристотелизма нет и в помине, и с какой силой этот аргумент пробуждает умозрение! Вообще, доказательств бытия Божия, видимо, более, чем принято думать, ибо сюда должны быть интегрированы и доказательства Его небытия.
Что дают нам эти доказательства для познания Бога? Как мы уже говорили в первой части нашей работы, Бог получает первые определения посредством доказательств Его бытия; так, например, у Дамаскина Бог оказался сразу же Устроителем и Перводвигателем. Получает ли Бог эти определения из доказательств Кузанца? В том-то и дело, что нет, точнее, из этих доказательств следует, что Бог может иметь все определения, не имея ни одного из них: с особенной силой это подчеркнуто во втором аргументе. Понять это принципиально важно: Платонов аргумент не доказывает бытия Бога, но указывает на него, как на бытие, отличное от нам известного. Будучи взят как доказательство, этот аргумент есть столько же доказательство бытия, сколь и доказательство небытия, ибо в нем абсолютно неизвестное получает определенность через хоть как-то известное: и через бытие, и через небытие. В богословии Николая Кузанского эта сверхбытийность Бога не просто провозглашается, но и систематически развертывается. Из этого прямо следует, что Бог не есть сущность. Тем самым Кузанец примыкает к той группе восточных отцов учителей, чье богословие подчеркивало сверхсущественность Первоначала. Бог не есть сущность, но Бог есть абсолютный максимум: это уже не лирика мистиков, не опытное богословие теургов, но новая догматика, в которой сущность заменена бытием.
Сущность, как мы видели это у Иоанна Дамаскина, обозначает способ существования, а именно в-себе-бытие. Абсолютный максимум Николая Кузанского обозначает не только в-себе-бытие, но и бытие в другом как в себе. Это-то и является основанием для обвинений его в пантеизме. Можно сказать, что утверждение «Бог есть сущность» говорит: Бог не тождествен в сущности (во внутреннем для Него способе существования) ни какой-либо из вещей, ни вещному миру вообще; утверждение же «Бог есть абсолютный максимум» добавляет: и не отличен ни от какой-либо из вещей, ни от вещного мира вообще. Но Бог, провозглашаемый отделенным от мира, оказывается необходимо единым с ним в акте бытия, Бог же, неотличный от него, — всегда ему трансцендентным.
С. Троическое богословие
Имена Ипостасей мыслятся Николаем Кузанским такими же произведениями рассудка, как и все другие имена Бога, а потому называют отношения Бога к творению. Прочитаем об этом у него самого: «И это настолько верно в отношении всех утвердительных определений Бога, что даже имя Троицы и ее Лиц, т. е. Отца, Сына и Святого Духа, прилагается к Богу только по отношению к творениям. В самом деле, если Бог есть Родитель и Отец оттого, что Он единство; Рожденный, или Сын, оттого, что он равенство единства, и Святой Дух оттого, что Он связь обоих, то Сын именуется Сыном явно оттого, что он равенство единства, т. е. бытия или существования. Отсюда ясно, что Бог именуется Сыном в отношении вещей оттого, что уже извечно мог сотворить вещи... Если рассмотреть поглубже, рождение Отцом Сына и было созданием всего в Слове... Дальше, Бог есть Отец оттого, что родил равенство единству, а Святой Дух оттого, что Он любовь их обоих друг к другу. Все это тоже по отношению к творениям. В самом деле, оттого, что Бог есть Отец, творение начало быть, оттого, что Бог есть Сын, оно исполняется совершенством, оттого, что Бог есть Святой Дух, оно согласно вселенскому распорядку вещей...» (Там же. Кн. 1, гл. 24, перевод В. В. Бибихина).
Здесь я хочу для начала обратить внимание на то, что имена Откровения — Отец, Сын и Святой Дух — оказываются, так сказать, менее собственными, нежели единство, равенство и связь. Почему бы, в самом деле, единству, равенству и связи не быть именамиипостасей? Потому, видимо, что ипостась есть то, что существует само по себе, безотносительно к другому, а равенство и связь суть отношения. О Сыне, в таком случае, можно сказать, что поскольку Он есть собственно Ипостась, он не рожден ни от Отца, ни от кого-либо, но рожден, поскольку Он — Ипостась именно Сына; понятно ведь, что быть рожденным не входит в понятие ипостаси как таковой; о равенстве такого сказать нельзя, ибо оно либо всецело производно от единства, либо вообще существует между двумя предметами, называя что-то в них, но не само по себе сущее. Посмотрим поближе, что называют эти имена.
В первую очередь, о единстве; здесь Кузанец кажется наследником каппадокийцев: единство, которое изначально вводилось как имя, наиболее адекватное Божественной сущности, затем было усвоено так же первой Ипостаси. Это имеет здесь несколько иные предпосылки, нежели у Дамаскина, ибо в этой системе нет ясного отличия не между сущностью и ипостасями, но между ипостасями и свойствами и вообще другими именами Бога. Результатом этого, на первый взгляд, должен явиться уже известный Сущность-Отец. Этого, однако, не происходит; несмотря на омонимию, разница мыслится — это разница между сверхсущим Единым и единым, допускающим умножение, ибо Бог не есть Отец вне отношения к творениям. Впрочем, как и у каппадокийцев, сфера ипостасийного для Николая Кузанского есть сфера умопостигаемого и сущего, в то время как сфера сущностного есть сфера Сверхсущего.
Теперь, умножение Единого (рождение) «есть единое повторение Единства» (Там же. Кн. 1, гл. 8). (Чем это «повторение», спрашивается, отличается от счисления в каппадокийском смысле? Ничем, хотя Николай сознательно предписал себе не счислять.)
«Единство, повторенное едино, рождает только равенство единства» (Там же). Это равенство мыслится второй Ипостасью. Теперь, «повторение повторения этого единства» есть исхождение, результатом этого исхождения от двух ипостасей является связь, которая и мыслится третьей Ипостасью. Вполне ясно, что в исхождении мыслится то же, что и в рождении, что это «повторение повторения» вполне способно сделать Св. Духа внуком. Мы, однако, не будем разбирать сейчас присущее этой доктрине Filioque. Нам важно здесь понять, что единство, равенство и связь — просто синонимы, обозначающие одно и то же; это призвано показать простоту Первоначала, но именно это и сделает такое словоупотребление неустойчивым. Еще в седьмой главе, доказывая вечность равенства, Николай Кузанский говорил, что оно раньше неравенства, а потому и вечно; из этого, в общем-то, следовало, что неравенство, как и различенность, временны; в главе десятой Кузанец уже полностью забывает об этом: «Единство есть не что иное, как троичность, потому что означает нераздельность, различенность и связь...». Происходит незаметная в условиях полинимии и никак не объясненная замена равенства на неравенство, или различие. В этом нет ничего удивительного, ибо равенство — как отношение — предполагает двух относящихся, а потому предполагает различенность (о которой, в свою очередь, было забыто во время первой дедукции). Мало того, что ипостась как таковая мыслится отношением, оно еще и кардинально меняется (рефлективное понятие — что с него взять?)
Кратко о судьбе этих троических определений: они сами стали судьбой всей последующей европейской мысли. Как догматическое движение на Востоке остановилось на фазе каппадокийского богословия, так движение западной мысли — на уровне доктрины Николая Кузанского. Единство, равенство и связь превратились со временем во в-себе-бытие, вне-себя-бытие и для-себя-бытие, которые стали уже составляющими систем немецкого идеализма. Триада: понимающий, понимаемое, понятие (инвариантная первой) — имела также богатую судьбу. Вся европейская философия вплоть до В. С. Соловьева и Л. П. Карсавина по-разному интерпретирует, берет в разных контекстах или, напротив, отвергает, преодолевает и т. п. именно это учение о Троице. Это говорит, конечно, не только о высочайшем логическом совершенстве данного построения, но и о колоссальной его психологической адекватности европейскому христианству, ибо если, например, мы возьмем понимание троического догмата К. Г. Юнгом (который едва ли вообще был христианином), мы обнаружим, опять же, комментарий именно к этому построению.
Заключение
Итак, рассмотрев два основных типа построений, свойственных византийскому богословию, и соответствующие им части философии Плотина, мы можем сделать некоторые выводы. Во-первых, очевидно, что система каппадокийского богословия и все системы, близкие «ареопагитикам», различаются только по внешности, и сколь далека от платонизма одна, столь же далеки и другие, хотя на первый взгляд и кажется, что христианское учение о Сверхсущем должно быть ближе к неоплатонизму. Однако дело обстоит так, что в каппадокийском богословии, по преимуществу троическом, сверхсущественность Первоначала отводится на второй план, на первом же — разворачивается учение о мирозиждущем Уме, который все равно мыслится сверхсущим; в богословии же «ареопагитик» на первый план выходит именно сверхсущественность Первоначала, однако сверхсущим мыслится именно Ум. (Для меня было большой неожиданностью увидеть самому провозглашаемое всегда и повсюду, а потому и не вызывавшее прежде большого доверия единство традиции восточного богословия: да, можно говорить обобщенно «по учению свв. отец наших», ибо все различия в троических построениях — внешние. Довольствуюсь ощущением человека, еще раз изобретшего велосипед.)
Во-вторых, нет никаких сомнений в том, что исторически сложившаяся догматика православной Церкви неотделима от аристотелизма никоим образом. Речь идет, конечно, о модифицированном аристотелизме. Задумаемся над этой модификацией. Одним словом можно было бы сказать, что это такой арсистотелизм, в котором Ум мыслится сверхсущим, а на место космоса поставлен человек. Отсюда понятно, что космологический интерес уступает место гносеологическому, онтолический — антропологическому, астрономический (и астрологический) — историческому (и, так сказать, метаисторическому).
В-третьих, вполне понятно, что всё, о чем мы сейчас говорим как о свершившемся факте, в свое время было лишь тенденцией и движением, так что правильнее было бы рассматривать византийское богословие как постепенное удаление от платонизма, бывшего, конечно же, квинтэссенцией античной философии. Более того, можно также говорить и о постепенном удалении от аристотелизма, который тоже, в конце концов, представляет собой феномен античного умозрения.
В-четвертых, если рассматривать византийское богословие не только как некий взятый для себя эпифеномен, но мыслить это движение в контексте интеллектуальной истории Европы, то совершенно очевидно: все те интенции, которые отличали эту мысль от мысли древних, имели дальнейшее развитие не в длящейся по сей день схоластике авторов учебников и катехизисов, но в истории уже новоевропейской философии. В этой связи мы и рассматривали богословие Николая Кузанского как явление пограничное, от которого так же легко перейти к патристической богословской традиции, как и к позднейшим системам новоевропейской философии. (Всё это можно было сделать лишь предельно кратко и набросками в книге о Плотине.) Наметившийся уже у византийских богословов логицизм и гносеологизм лишь усилился в эпоху Возрождения и получил свое завершение в грандиозных системах немецких философов.
Что же, скажут, византийское богословие является предшественником и новоевропейского пантеизма, и материализма? Однозначно, да. Мы разобрали самые характерные системы византийского богословия и ни в одной из них мы не встречаем учения о Душе мира: византийские богословы понимали мир именно бездушным, следовательно, все те явления, в которых мир являет себя как живое существо, и тем более как разумное животное, это богословие с необходимостью либо вовсе не рассматривало, либо должно было называть Бога субъектом, являющимся в таких явлениях. Классический пример этого — экзегеза чудес Иисуса Христа: ходил по воде, потому что Бог. А почему, скажем, Апполония Тианского видели разом в двух местах? — Это либо ложь, либо его демоны носили. Почему Христос исцелял? — Потому что Бог, а почему Фекла, Марфа, Василий и проч.? — А это либо суеверия, либо снова демоны. Но то же самое, что мы наблюдаем при рассмотрении этих частных случаев, мы наблюдаем и при рассмотрении мира в целом: почему мир движется, почему он живой и разумосообразный? Либо потому что это собственно Бог во вне-себя-бытии (пантеизм), либо потому что бездушная материя так устроена или устроилась. (Обычно видят разницу между креационизмом и материализмом в этом возвратном «сь». Ничего похожего: если творение сводится к организации неодушевленного, то и сама космическая душа есть особая форма существования материи, и в этом смысле тоже полностью сотворенное; но тогда Творец будет, опять же, просто Душой мира. И в обратную сторону, когда утверждают, что материя есть причина своего оформления, что она есть causa sui и т. п., то не нужно семи пядей о лбу, чтобы заметить, что такое понятие о первичном существующем есть понятие синтетическое, и, следовательно, материей здесь называют и собственно материю, и Душу всего.) Так что эти два феномена — материализм и пантеизм — суть одно и то же и всегда существуют там, где нет внятно развитого учения об одушевленности мира. Поскольку пантеизм в новоевропейской философии был поставлен в логико-гносеологический контекст, постольку его частенько, в противовес материализму, называли идеализмом. Рассматривая эти понятия, легко заметить, что неоплатоническая философия, например, не является ни идеалистической, ни материалистической.
В контексте этой полярности (пантеизм — материализм) следует рассматривать все объясняющие термины средневековой космологии. Что есть, например, демон: сам Бог в Его вне-себя-бытии, или же еще один вид оформляющих материю форм? Предельно ясно, что ни того, ни другого ни о каком живом существе (кроме Вселенной) обычно не говорят, а потому и в качестве объясняющего этот термин не годится. Позднее демона, в качестве объясняющего термина, почти повсеместно заменил человек, и это назвали антропоцентризмом, но и к данному понятию приложимы те же вопросы. Однако вернемся к основной теме.
В-пятых, сложившееся положение дел отнюдь не обозначает того, что догматика должна существовать только в таком виде, только на таких философских основаниях, что мы должны анализировать Евангелия, пользуясь понятиями только перипатетической философии, и тем более воспринимать образ Христа, имея в виду богословский анализ как таковой. Это прямо следует из того, что аристотелевская философия не является предметом веры, а следовательно, возможно богословствовать, вовсе не пользуясь понятиями сущности, ипостаси и проч. Вообще говоря, примерам такого богословия нет числа: я, скажем, никогда не слышал во время проповедей ни в одной из наших церквей ни о Едином по сущности, ни о раздельном по Ипостасям, но — о Боге как Промыслителе, Судье и т. п. Однако, как только дело доходит до осмысленного, систематического неприятия пропитанной аристотелизмом византийской теологии, немедленно раздаются обвинения в ереси; на этом основании обвиняют часто В. С. Соловьева, мч. Павла Флоренского, мч. Льва Карсавина, понятийный аппарат которых куда более зависел от гегелевской философии, нежели от аристотелевской. Это, конечно, совершенный абсурд. Ибо если их обвиняют в философичности как таковой, то сама византийская догматика насквозь философична. Если же в том, что это не аристотелевская философия, то и спорить нужно философски: прежде всего об основаниях философии, а не о богословских выводах из них.
В-шестых, понимание того, что сам предмет веры христианской совершенно свободен от любых определений, что все эти определения принадлежат по преимуществу истории, т. е. становящемуся человеческому разуму, дает и самому познающему свободу относительно всякой пришедшей извне, лишь традиционной веры и всякого такого рода богословского определения. Как будет использована эта свобода, приобретающаяся значительным интеллектуальным трудом, родится ли что-то новое или это будет сознательный возврат к старому, неясно, однако понятно, что в качестве предпосылки именно свободного вероопределения понимание развития богословской мысли европейского человечества совершенно необходимо.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
БОГОСЛОВИЕ ПРЕП. МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА
В качестве Приложения к статье «Неоплатонизм и христианство» необходимо хотя бы ненадолго остановиться на еще одном, чрезвычайно важном для понимания взаимосвязи неоплатонической и христианской теологии, явлении византийского богословия. Это — учение преп. Максима Исповедника.
Если в каппадокийском богословии собственно существующим провозглашается единичное (читай: чувственное), а наблюдение и анализ составляют метод этого богословия, то вполне понятно, что ни о какой серьезной близости этих учений платонизму говорить не приходится. Однако, в византийском богословии существовало и иное, куда более близкое платонизму течение, восходящее к св. Григорию Нисскому, в котором собственно существующим признавалось именно умопостигаемое и, соответственно, созерцание мыслилось единственным адекватным способом его постижения. Наибольшего развития эти мысли достигли в богословской системе преп. Максима Исповедника, в некоторых своих аспектах тождественной построениям Плотина. Об этой системе обязательно следует упомянуть, хотя бы вкратце, чтобы у читателя не возникало ощущения непроходимой бездны между христианским аристотелизмом и языческим платонизмом, окончательно сформировавшимися в Европе приблизительно в одно и то же время.
В своем замечательном изложении богословской системы преп. Максима Г. В. Флоровский поставил акцент на понятии Откровения и, соответственно, изложил основные положения учения, глядя на них через призму этого понятия. Тем самым Г. В. Флоровский еще раз подчеркнул вовлеченность богословской мысли преподобного в гносеологический контекст; нам же важнее будет показать мысль Максима в онтологическом измерении, и центральным понятием этой системы для нас станет понятие воли. Действительно, помимо того, что борьба с монофелитством, сделавшая мыслителя Исповедником, volens nolens заставляла уделять огромное внимание именно воле, легко увидеть, что само это понятие воли впервые именно у преп. Максима приобретает философское значение. Конечно, древние мыслители, и особенно Плотин, немало говорили о воле, но главным образом в связи с человеком: этикой и вопросами богопознания. О воле Бога немало говорилось в библейской традиции богословствования, но для античности такие разговоры были в основном чужды; разве что у Марка Аврелия и вообще у римских стоиков мы можем найти кое-что об этом. У Плотина даже в теории творения, которая, казалось бы, должна быть разделом учения о воле Бога, воля не находит достойного места. Можно сказать, что воля понималась древними по преимуществу как атрибут низших форм жизни, и потому вводить ее в Первоначало казалось абсурдным; напротив, в библейской традиции богословствования воля Бога — одно из центральных понятий, о котором говорится несравненно чаще, нежели, скажем, о мышлении Бога. В каппадокийском и вообще в восточном богословии до преп. Максима можно встретить оба этих подхода; даже у одного и того же мыслителя можно встретить как тот, так и другой тип суждений и рассуждений, причем взаимосвязи между ними, как правило, не усматривается. У преп. Максима же воля получает исчерпывающее богословско-философское объяснение и становится едва ли не центральным понятием всей системы.
Итак, покажем, прежде всего, чисто платонические моменты в учении великого богослова. (В своем изложении мы почти полностью опираемся на текст Г. В. Флоровского в книге Восточные отцы Церкви V-VIII веков. М., 1992, который, как и труд И. И. Соколова, значительно облегчил нашу задачу.)
Чувственный мир не веществен в своих качественных основаниях, но есть «сгущение» мира духовного, т. е. в своих основаниях (логосах) этот мир умопостигаем и находится в мире умопостигаемом (Указ. изд. С. 206-207). Это, конечно же, старинное платоническое учение: все существующее, разделяясь на форму и материю, не позволяет обнаружить никакой материи, лишенной формы; мы созерцаем бесконечную (как бесконечно и само деление) иерархию форм, и следовательно, собственно существующими оказываются сами формы, а не некое «вещественное основание»; значит, сам феномен чувственности и вещественности есть не что иное, как особый способ организации невещественного, неких умопостигаемых стихий, идей, из которых и складывается сама вещь. Особенность мира чувственного, то, что отличает его от умопостигаемого мира, есть то, что он существенно отпечаток (ýò) или символ мира умопостигаемого, т. е. то, что имеет свое основание в ином. Мир умопостигаемый и чувственный, однако же, тождественны по ипостаси, как тело и душа (Там же. С. 207). Это последнее положение открывает разные возможности интерпретации такого единства по ипостаси: с одной стороны, его можно понять с акцентом на том, что нет никакой ипостаси умопостигаемого, помимо этого чувственного космоса, и с другой стороны — можно понять это в том смысле, что нет ипостаси именно чувственного космоса, отличной от умопостигаемого. Т. е. утверждение единства чувственного и умопостигаемого по ипостаси еще раз ставит вопрос о том, что собственно существует. Ответ преп. Максима на этот вопрос двусмыслен. С одной стороны, это чисто платоническое утверждение: собственно существующее есть умопостигаемое, с другой стороны, многие положения его системы прямо противоречат этой базовой платонической интенции. Остановимся сначала на учении об умопостигаемом.
Во-первых, преп. Максим, в полном согласии с платониками (Там же. С. 206), различает три аспекта существования идеального в его отношении к материальному: до вещи, вместе с вещью, после вещи. Терминологически это выражается в том, что он различает три вида логосов: а именно, логосы естества (законы), логосы промышления и логосы суда — в так понятых логосах, несмотря на то, что они порой называются Максимом «сперматическими», видна платоновская идея, ибо в строгом смысле стоический «сперматический логос» это именно логос до вещи, почти буквально «семя будущей вещи», в отличие от идеи, отношение которой к вещи описывается вышеуказанным трояким способом. Во-вторых, умопостигаемое у преп. Максима выносится в некую особую сферу: с одной стороны, оно не есть Бог, с другой стороны — оно не есть тварь в том же смысле, что и чувственный мир. Это выражено у него, в первую очередь, в предельно четкой темпоральной локализации умопостигаемого: умопостигаемое не находится собственно в вечности, но оно не находится и во времени, оно — в веках: hí ák§íé (Там же. С. 207). Соответственно, эон, век определяется Максимом как время без движения, а время — как эон, измеренный движением. И та, и другая формулировка мало того, что предельно близки платонизму, но еще и удивительно точны: даже у Плотина мы не находим столь ясных слов о времени в Уме и в чувственном космосе, хотя нет никакого сомнения в том, что он полностью согласился бы с этими определениями (вспомним основную мысль Enn. III. 8: движение — мера времени, а не время — мера движения). Соответственно, сущее в веках умопостигаемое, как и мир, сущий уже во времени, не безначально, но имеет начало; очевидно, что это начало есть изволение о мире, а изволение уже собственно вечно (Там же. С. 206). Опять чисто платоническое положение о производности Ума от Единого, однако — уже с различением вечного воления от вечного же рождения, хотя бы и только терминологически, чего у Плотина, конечно, еще не было. В-третьих, следует особенно выделить то, что учение об энергиях ставится преп. Максимом по преимуществу в космологический, а не в гносеологический аспект: сперматические логосы, идеи — и есть энергии Слова (Там же. С. 206). Этот космологический контекст учения об энергиях, с одной стороны, не позволяет понять энергии ни субъективистски (как это вышло у Эуригены, поставившего на место Ума ум познающего), ибо субъект, производящий эти энергии, здесь жестко определен, ни, оторвав эти энергии от производимых ими космических вещей, понять их, так сказать, алогически, что выходило у свт. Григория Паламы, ставившего учение об энергиях в гносеологический контекст. Есть ведь большая разница, будет ли продуктом божественной энергии, например, видение св. Стефана или движение планет вокруг Солнца. Удивительно, что, попадая именно в гносеологический контекст, учение об энергиях перестает быть учением о творящих мир логосах и, соответственно, о познании этих логосов, и значит, о познании через разум, логосном познании, однако, на примере Паламы это ясно видно. Кроме того, есть еще немалая трудность: если сперматические логосы суть энергии, то они есть умопостигаемое, а следовательно — умопостигаемы и энергии; значит, они не безначальны и не нетварны, как и умопостигаемое вообще. Учил ли преп. Максим о тварных энергиях — непонятно. Впрочем, думаю, что до споров XIV в. терминология здесь могла быть и не определена четко.
Теперь обратим внимание на другие рассуждения, далекие от платонизма. Это, в первую очередь, учение о сущности или природе тварного мира. Преп. Максим исходит здесь из того, что вечность божественного изволения о мире не обозначает вечности самого мира; отсюда следует, что естество мира не есть божественная воля, но — то иное, которое существует только благодаря тому, что пронизывается энергиями Логоса, сперматическими логосами (Там же. С. 206). Встают два вопроса: что есть это иное, и почему сущностью мира нужно считать именно его, а не вызвавшее его к бытию воление? Мы помним ответы платоников на эти вопросы: первичное иное — это полное, лишенное всяких предикатов ничто, материя в том смысле, какой вкладывал в это слово Плотин. Соответственно, сущностью мира оно никак не могло оказаться, иначе мир был бы существенно зол, а потому сущность мира понималась платониками именно как божественное основание мира. Ответы преп. Максима на эти же вопросы принципиально отличны. Именно здесь впервые появляется воля как онтологическая категория. Ответ преп. Максима можно было бы сформулировать так: первичное иное есть воля к Богу, ибо все иное было сотворено, и было сотворено волей, и волей к иному; соответственно, и сотворенное, будучи образом творившего, не могло оказаться не чем иным, как волей к сотворившему (это моя реконструкция, подтверждающаяся тем, что благодаря ей приводятся в связь и все другие не редуцирующиеся к платонизму положения мыслителя). Соответственно, признавая сущностью мира так понятое иное, мы не только не мыслим его при этом существенно злым, но даже напротив — утверждаем его изначальную, еще не испорченную грехопадением благость; кроме того, становится ясным, как, совпадая с Богом в энергии, мир отличен от него в своей сущности, ибо Бог не есть только воля, иное же — только воля. Такая постановка вопроса, разумеется, совершенно чужда как платоникам, так и перипатетикам; это собственные мысли преп. Максима. Нетрудно заметить, что рассуждая о Боговоплощении, мыслитель действует в рамках той же парадигмы прежде всего потому, что цель творения и цель Боговоплощения одна, а именно — чтобы Бог был всё во всем (с. 216). И в том, и в другом случае Бог рассматривается Максимом как волящий, а воля у него всегда означает отношение к другому (Там же. С. 205); можно сказать, что статические категории феноменологии «тварь» и «Творец» приобретают в его богословии динамический оттенок, становятся рефлективными, отражающимися друг в друге категориями, а сами рассуждения приобретают диалектический характер. Соответственно, творение и Боговоплощение перестают быть разными событиями, но превращаются в разные фазы единого процесса: целью Боговоплощения являлось не искупление человека, ибо Бог воплотился бы и не будь грехопадения (Там же. С. 209-210), но — создание совершенного Богокосмического единства, уничтожение разделения твари и Творца, что и осуществилось в результате мистерии вочеловечения. Более того, снимается двойственность понятий воплощения и обожения: в системе преп. Максима это буквально одно и то же («путь вверх есть путь вниз», как сказал старейший европейский диалектик — Гераклит). Воплощение, творение — все это для Первоначала «путь вниз», но для твари это же есть «путь вверх», причем сам «путь» — один. Единство ипостаси, факта, но двойственность начал — это методически проводимый преп. Максимом принцип: при восприятии в божественную Ипостась всего тварного естества (а преп. Максим мыслит с космическим размахом, не ограничиваясь лишь человеком) (Там же. С. 211), не возникает нового субъекта, нового источника воления или действия (Там же. С. 216), и соответственно в воплощенном Слове суть две воли и два действия. Все это остается учением собственно самого преп. Максима, и ни о каком родстве с платонизмом здесь говорить невозможно; однако антропологические выводы из него оказываются опять же очень близкими платоникам. Это касается, прежде всего, учения о двух волях во Христе.
Сразу же обращает на себя внимание сам факт того, что субъектом воления у преп. Максима выступает природа, а не ипостась, а соответственно и исповедание во Христе двух природ с неизбежностью влечет признание в Нем двух воль и двух действий. Это принципиальный разрыв с каппадокийским аристотелизмом, которому Максим следует в определении самих терминов сущности и ипостаси, ибо в русле этой традиции и он определяет природу как общее, существующее через ипостась, а ипостась — как форму бытия из себя, самого по себе. Но как, спрашивается, то, что существует лишь через другое, существует лишь во вторичном смысле второй сущности, может обладать волей, которая как раз и есть основной признак реального существования? Может быть, волит именно природа, поскольку не может существовать сама по себе и желает иного, ипостаси, для того чтобы быть? В таком случае, Ипостась уже не будет волеть ничего кроме самой себя, но касается ли это также и человеческих ипостасей, и разве в самой Троице нет взаимной любви и т. д.? От такого предположения следует, я думаю, отказаться. Но тогда не остается ничего кроме как предположить, что в этой части учения Максим признает собственно существующим именно природу, а ипостаси — существующими вторично. Можно сказать, что христология Максима ближе к платонизму, а триадология — к каппадокийцам и аристотелизму. То же самое видно и из рассмотрения знаменитого различения воли на волю природную (öõóéêüí) и избирательную (ãíùìéêüí): если первая, как это явственно следует из самого ее имени, принадлежит природе, то вторая, вероятно, — ипостаси. Мысль преп. Максима состоит в том, что природная воля лишена всяких разделений в себе, она проста и потому не выбирает; воля же гномическая, ипостасная, сопряжена с выбором и со свободой выбора, но эта «свобода выбора не только не принадлежит к совершенству свободы, но напротив есть умаление и искажение свободы» (Там же. С. 217). Вообще говоря, разделение в воле, выбор представлялись преп. Максиму следствием грехопадения, которое, опять же, значило для него, в первую очередь, падение и искажение воли (ничего удивительного, если воля — сущность мира); соответственно, уврачевание в момент домостроительства Бога должно было коснуться прежде всего воли: это должно было быть упрощение воли, возвращением воли-выбора к природной воле (Там же. С. 217). Мы здесь испытываем чисто терминологические трудности, ибо под природой и природной волей ассоциативно мыслим прежде всего природные (в нашем смысле) или душевные (опять же, в нашем смысле) влечения, например, самосохранение или желание переспать со своей матерью; нам тяжело понять, что для преп. Максима природа есть воление Бога, ибо сама эта природа есть не что иное, как осуществление Его воли, что космическая природа понимается преп. Максимом как существенно умная природа, однако, если мы хотим понимать византийское богословие, к этому следует привыкать.
Если вспомнить антропологию Плотина, то мы без труда найдем в ней учение о высшем и низшем (говоря словами ап. Павла, о духовном и плотском) человеке и, соответственно, учение о двух разных волях. Низкий (сравнительно с новоевропейской философией) статус воли-выбора сравнительно с волей природы — общее место для всей древности. Так что эта часть учения преп. Максима чрезвычайно близка платонизму. Нет никакого сомнения в том, что для византийского богословия учение о двух волях приложимо только ко Христу, но считать ли это его достоинством — вопрос спорный. Ведь было бы странно, если бы Христос призвал учиться у Него существ, столь радикально отличных от Него, что они просто не имеют никаких шансов ничему у Него научиться. Да и, вообще, странно было бы говорить, что всякий человек осуществляет волю Бога, не будучи сам субъектом этой воли, ибо это правильно относительно людей желающих чего-то иного, но совершенно неверно для человека совершенного — тогда, когда он совершенен. А что касается слияния субъектов, то это настолько обычная вещь в гипнотических эффектах, психологии ребенка до рождения и в раннем детстве, молитве, дружбе, любви и во множестве других феноменов, встречающихся уже в психологической сфере, что как раз именно слияние субъектов, на мой взгляд, здесь представляет наименьшую из проблем.
Нам остается упомянуть только о той части учения, которая находится под сильнейшим влиянием именно аристотелизма. Мы уже говорили, что единство чувственного и умопостигаемого по ипостаси оставляло возможность истолковывать это единство двояко; к тому же, сколь бы хорошо, сравнительно с другими византийскими богословами, не было разработано учение преп. Максима об умопостигаемом, все же до такой степени ясности, как у Плотина с его учением об Уме и Душе, дело, конечно, не дошло. Поэтому там, где умопостигаемое мыслилось как душа относительно тела (ведь душа — одно из умопостигаемых содержаний), иными словами — в психологии, преп. Максим склонялся к чисто аристотелевскому натурализму. Желая избежать предсуществования душ, Максим учит о душе как возникающей вместе с телом (Там же. С. 207). Казалось бы, разработав столь ясное понятие о «веках», он может учить о существовании души «в веках», но ничего подобного не происходит: не понимая душу как логос, усваивая эмпирическое библейское понятие о душе, он полагает душу возникающей во времени. Вполне понятно, что при таких предпосылках бессмертие души, ее бытие для себя вне всякого тела, только провозглашается, но никак не может раскрыться. То же самое происходит и в ангелологии преп. Максима: с одной стороны, ангелы для него «есть средоточие твари, — именно потому, что они бесплотны (только падшие духи вовлекаются в вещество силою своего нечестивого вожделения и пристрастия», а с другой стороны — «средоточием твари может быть только человек, реально смыкающий в себе оба мира: духовный (»бесплотный«) и вещественный (Ср. У Григория Нисского)» (Там же. С. 207). Интересно, что Г. В. Флоровский, излагающий таким образом это учение, не видит или не хочет замечать всей колоссальной его противоречивости. Перед нами два предложения, но одно из них может принадлежать только платонику, а другое — стоику или перипатетику. Нужно сказать, что в учении о человеке как высшем Откровении, в учении о превосходстве человека над ангелами, во всех тех местах, где символ, так или иначе, оказывается выше того, символом чего он является, сквозят чисто натуралистические интуиции, совершенно чуждые платонизму. Таково богословие преп. Максима.